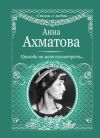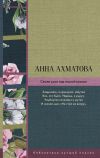Текст книги "Записки об Анне Ахматовой. Том 3. 1963-1966"

Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Я постаралась представить себе китайского Ивана Денисовича в китайских лагерях. Но – не удалось… Ведь в сущности о китайцах я знаю одно: их 600 миллионов. Мао терзает их, а они готовы терзать друг друга и нас. Узнать бы, сколько миллионов человек из этих шестисот – в тюрьме?
600 000 000. 600 000 000. Эти нули воображению ничего не дают.
Я попросила Анну Андреевну почитать нам еще. Она прочла – Марине Цветаевой. И еще раз многозначительно повторила: «Мне тут сильно помог Маршак». В чем, где? «Он объяснил мне, что у меня плохой конец, и я сделала по-другому, лучше».
Я порадовалась. Я-то хорошо знаю – испытала, видела – как сильно умеет помогать Маршак! Недаром к его суждениям и Твардовский прислушивается.
Когда я упомянула имя Твардовского, разговор впал в обычную теперь, куда ни приди, колею: кто, когда и в какой мере понимал, что творилось вокруг? На воле и в застенке? Пытки, показания под пытками? Я, как всегда, сказала: «Разные люди понимали в разное время. Если скинуть со счета тех, кому выгодно было не понимать, то, надо признаться, что встречались люди, не понимавшие искренне. Не так-то просто обобщить частный случай – “нашего Петра Иваныча взяли зря” – до масштабов целой страны». (Ибо нелегко происшествие, ощущаемое тобой, как бессмыслица, осознать не как случайную чью-то ошибку, а как обдуманное, запланированное, многомиллионное – и притом бессмысленное – мероприятие. Для чего государству потребовалось убивать миллионы неповинных Петров Иванычей? Человеческий разум привык искать цели, а тут цели никакой не представишь, оттого и людям не давалось понимание.)
Выслушивая подобные мои рассуждения, Анна Андреевна обычно начинает негодовать весьма могущественно. Так случилось и сегодня.
– Ах, они не понимали? – закричала она. – Ложь. Вздор. Не хотели понимать – другое дело.
(Она-то всегда оставалась мудра и прозорлива. Но ведь мудрость и прозорливость не каждому даны… Да и понимала ли она вовремя коллективизацию? Я с ней в ту пору знакома не была. Спрошу как-нибудь.)
Наступило долгое молчание. Анна Андреевна, видимо, устала. Мы простились.
Тихие фонари на Озерной.
Я давно не встречалась с Анной Абрамовной, но слышала от общих друзей, что любимый ее брат, арестованный в 37-м, реабилитирован посмертно. Но, думала я, он расстрелян – жена его была отправлена в лагерь, а это, как я узнала в сороковом, верный признак мужнина расстрела. Я собиралась поговорить о «Красотке», но, пока мы шли по Озерной, спросила у Анны Абрамовны, вернулся ли за эти годы кто-нибудь, кто сидел с ее братом в одной камере и что ей вообще известно о его последних днях. Спросила – и раскаялась. Ужасно, ужасно, и зачем рассказали ей? Впрочем, «кто имел силы пережить, должен иметь силы помнить». О гибели брата ей сообщили двое вернувшихся. Он был не расстрелян, а запытан, он умер на Шпалерной под пытками. Он отказывался подписать что бы то ни было – о себе, о других (а ему вменялось в вину участие в террористическом заговоре) и обозвал следователя гестаповцем. В разговорах с товарищами по камере он утверждал упорно, что в стране произошел фашистский переворот и вот почему арестовывают неповинных и, уж разумеется, в первую очередь, коммунистов. (Он был коммунист.) …О, сколько раз слышала я в тридцать седьмом эту версию! За нее хватались, цеплялись, она вносила смысл в бессмыслицу!.. Его избивали на каждом допросе. Однажды под утро в камеру втащили и бросили на пол какую-то окровавленную рогожу: «вот вам ваш Освенский»… Он был еще жив. Шевелил губами. Умер к утру.
Что́ он понимал – до тюрьмы? Чему – служил, служа партии? Что́ – понял?
22 октября 63 • Сегодня я провела у Анны Андреевны весь день напролет.
Чуть я пришла, Анна Андреевна дала мне чистый лист и велела записывать.
– Пишите.
Прочитала тихим, серьезным, спокойным голосом подробное, обстоятельное опровержение статей Маковского и Струве. С цитатами, датами, доказательствами, ссылками, разъяснениями – ну вот, например, разъяснено, что «лунная дева» в стихах Гумилева – это она. Потом отложила листки и принялась устно излагать сущность дела. Она уже излагала то же самое Нике, Корнею Ивановичу, Коме.
– Мне чужого не надо. У Николая Степаныча было много дам, и я их всех перечисляю. Но – в другой период. А вламываться в мою биографию и искажать ее – я не позволю. И его облик изменять – тоже. Был такой период творчества и жизни Гумилева, когда все его стихи – обо мне, когда все в его жизни имело истоком – меня68. Путешественником он стал, чтобы излечиться от любви ко мне, и Дон Жуаном – тоже. Брак наш был концом отношений, а не началом их и не разгаром. Этого никто не знал. Нас надо было смотреть в девятьсот пятом – девятьсот девятом годах. Тогда Николай Степаныч закладывал вещи под большие проценты, чтобы приехать и увидеть мой надменный профиль какие-нибудь пятнадцать минут.
Я прекрасно понимаю, что читать собственную биографию или биографию мужа не только в искаженном, а даже хотя бы и в чуть-чуть не точно изложенном виде, – тяжело. Прикосновение чужой руки к твоей жизни, к твоей памяти – больно. А вмешиваются все, кому не лень. Таковы, наверное, раны, неизбежно наносимые славой…
(Записать – я записала. А дальше что? Где это и когда это доступной окажется мне возможность полемизировать с потусторонними Струве и Маковским? Впрочем, Анна Андреевна, конечно, продиктовала свой протест многим, да и сама записала, и в неведомое нам будущее доберутся, быть может, когда-нибудь чьи-нибудь листки.)
Анна Андреевна протянула мне газетную вырезку – статью Георгия Иванова о «Бродячей собаке». Дешевка! И кроме того: стихотворные цитаты – из Ахматовой, например, – перевраны. Это уж последнее дело: перевирать стихи.
– У него и все так, – сказала Анна Андреевна69.
Заговорили, уж не помню почему, о школе. Я – о дочке моих любимых Пантелеевых, о Машеньке. Хоть она и вежлива, и дисциплинирована, и прилежна, да к тому же от природы одарена явным талантом актрисы, учителя в школе ненавидят ее и очень деятельно отравляют жизнь и ей, и ее родителям.
– Чему вы удивляетесь, – сказала Анна Андреевна. – Они ведь садисты. Педагогика развивает садизм. Педагоги – деспоты, а от деспотизма до садизма – один шаг. Так было всегда, а теперь уж и говорить нечего… А разве то, что изобразила Вигдорова, – не один из видов садизма?
Анна Андреевна попросила меня рассказать о моей вчерашней спутнице.
– У нее хорошее лицо. Но почему люди так меня боятся? Ведь она слово вымолвить боялась.
Я, в беглых чертах, рассказала об Анне Абрамовне: «одинокая мать», работала у нас в редакции младшим редактором, растила маленькую дочку. Когда, в 37-м, редакция была разгромлена, Анну Абрамовну уволили. И тут же обрушилась новая беда: арестовали брата, а потом и невестку. Остались две девочки. Анна Абрамовна взяла их к себе и своим трудом вырастила всех трех: дочку и двух племянниц. Хотя и право на труд вернули ей далеко не сразу.
– Желала бы я видеть хоть одного человека, – с тихим бешенством сказала Анна Андреевна, – в семействе которого в 37 году не оказалось бы врага народа. Одного, двоих… Брат и невестка погибли?
– Невестка вернулась, а брат – погиб, – ответила я. Конечно, ни слова, ни словечка ей, ее больному сердцу, о кровавой рогоже! Ни слова, хотя эта проклятая рогожа всплыла передо мною сегодня, чуть только я открыла глаза.
Рассказывая про Анну Абрамовну и девочек, я вдруг вспомнила то, о чем не вспоминала столько лет. Один раз, мы, Туся, Шура, Зоя и я, решили помочь Анне Абрамовне устроить для девочек веселую елку. Пришли с подарками. Одной, – помнится, Лене, – подарили большую, нарядную коробку шоколадных конфет. Когда девочка открыла коробку, оттуда к ней на колени выпал красный квиточек: по красному полю белыми кудрявыми буквами «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство»…
– Если бы Сталин не умер, – сказала Анна Андреевна, – этой девочке, кроме счастливого детства, причиталась бы и счастливая юность. Ее арестовали бы: дочь расстрелянного должна была бы пополнить собою ряды «мстителей». Ее ожидала бы судьба моего Левушки… А ваша Анна Абрамовна – подвижница. Оттого она такая застенчивая. Подвижники всегда застенчивы. Помните у Толстого на Бородинском поле – подвиг капитана Тушина? Подвиги разные – не знаю, который выше, – а застенчивость равная70.
После того, как Ханна Вульфовна накормила нас обедом, я предложила Анне Андреевне выйти на воздух. Завтра она уезжает, я толкусь у нее каждый день и все без толку: так мы ни разу и не вышли!.. Нет. Не пожелала.
– Ну посидите со мной еще немного. Теперь мы не скоро увидимся, только в Москве. Еще ведь светло, вы уйдете засветло, вам и без провожатых не страшно будет через рельсы. А я зато расскажу вам про свою последнюю встречу с Блоком. Я была на его последнем вечере в Большом Драматическом. Вместе с Лозинскими в каких-то своих лохмотьях. Когда он кончил читать, мы пошли за кулисы. Александр Александрович спросил меня: «Где же ваша испанская шаль?» Это были его последние слова, обращенные ко мне[58]58
Эти слова почти с точностью совпадают со строками из будущих «Воспоминаний об Александре Блоке» (см. «Двухтомник, 1990», т. 2, с. 196).
[Закрыть].
Стоя в передней, пока я надевала пальто, она сказала очень добрым голосом:
– Идя навстречу вашему непониманию, я решила разъяснить «Красотку» с помощью эпиграфа. Найду что-нибудь из Катулла или Горация. Большего я сделать не могу[59]59
Стихотворению «Красотка очень молода» в печати предпослан эпиграф из Горация: «O quae beatam, Diva, tenes Cyprum et Memphin…» («О, богиня, которая владычествует над счастливым Кипром и Мемфисом…»).
[Закрыть].
Я вспомнила, уже миновав станцию, что ведь и я тоже была на том вечере Блока в Большом Драматическом! Но когда я слушала сегодня ее рассказ – Блок, Лозинские, шаль – мне и в голову не пришло, что это тот самый вечер! Тот самый, где Дед читал свое вступительное слово, где я в последний раз слышала, как читает Блок[60]60
В Большом Драматическом театре, 25 апреля 1921 г.
[Закрыть]. Загадочное понятие «время», она не раз говорила об этом и она права. И память. Последний вечер Блока в Петрограде – это из моего, из моего подвала памяти – странно, что два подвала, столь разные, могут оказаться бок о бок. В 1921 году мне четырнадцать лет, я – никто, а она уже давно Ахматова, он уже давно – Бог. Он говорит ей свои последние слова. И я тоже где-то тут неподалеку одновременно. Сейчас у нас 63-й. Я не я, она не она, его нет. Как это понять? Наше существование? То же время, те же факты – а память разная. Путаюсь.
23 [?] ноября 63, Москва • Анна Андреевна начала мне звонить – домой и на дачу – с первого дня моего возвращения. «Приходите скорее». Но я не могла сразу. Она сердилась.
Сегодня я, наконец, выбралась. Теперь живет она далеко, на набережной Шевченко, у Западовых (то есть у Галины Христофоровны)71. Длинная комната. Никакая. С первого же слова я поняла, почему Анна Андреевна так упорно добивалась свидания. У нее ко мне дело. С него и начала.
– Мне уже давно предлагает «Советский писатель» – ленинградское отделение – выпустить мой однотомник. Сурков предлагал. Я все отказывалась: хотела одни только новые стихи, «Седьмую книгу». Теперь согласилась. Пусть однотомник. Дело только за вами.
– За мной?
– Да. Составлять будете вы.
Я? Ох, как это сейчас мне не ко времени и, главное, не по глазам. Но по душе. Большая честь, да и радость: ведь составлять-то будем вместе! Случалось мне участвовать в подготовке и других ее сборников, но все-таки составляла их не я. А тут – я. Она и я… Поблагодарив, я выдвинула одно условие: чтобы с издательством, с редакторами мне ведаться не пришлось. Я с ними не умею. В борьбе с редакторами сколько я собственных своих работ загубила (вполне «легальных», о «Софье» не говорю). Составить – составлю, а уж в редакцию – оборонять, уступать, торговаться – пусть ходит кто-нибудь поумнее. От меня один только вред.
Анна Андреевна кивнула.
– Узнаю́ непреклонного автора «Лаборатории», – сказала она[61]61
См. 51.
[Закрыть].
Ну и ладно. Сговорились… Потом Анна Андреевна достала откуда-то с подоконника толстый том. Протянула его мне.
«Воздушные пути», № 3.
О, какая радость, какая милая книга! Какой формат, какой шрифт, какая бумага! Держать в руках – и то приятно. И открывается именем Анны Ахматовой.
На первом месте – стихотворение «Нас четверо». (У нас оно, помнится, печаталось в «Литературке» без одной строфы и всего с одним эпиграфом вместо трех – а вот в «Воздушных путях» целиком!) Другое ахматовское стихотворение у нас не печаталось вовсе – обращенное к Цветаевой: «Невидимка, двойник, пересмешник»[62]62
«Нас четверо» – см. «Записки», т. 2, с. 499; «Невидимка, двойник, пересмешник», то есть «Поздний ответ», см. там же, «За сценой»: 91.
[Закрыть].
– Кто-то из моих ближайших друзей безусловно состоит у них на жалованьи, – сказала Анна Андреевна. – Нет, нет, не из ближайших, вы, например, вне подозрений. Но кто-то из очень осведомленных. Подумайте: и ненапечатанные-то стихи они знают, и про «Домик на Васильевском» им известно, что я как раз над ним сейчас работаю, и в «Поэме» про мое письмо к вам…
Она не дала мне толком прочесть стихи, взяла у меня из рук книгу и открыла чью-то статью о «Поэме без героя». Там отрывки из «Письма к NN». (Снова это письмо именуется почему-то «Письмом к Н.» и преподносится в качестве «письма-введения», хотя в то недолгое время, когда оно в «Поэме» существовало, оно было всего лишь примечанием в конце… Плохо исполняет свои обязанности товарищ на жалованьи!)
Прочесть статью Анна Андреевна мне не дала, книгу захлопнула. И опять открыла, и опять протянула мне:
– Прочтите-ка стихи. Про себя, пожалуйста.
Ну да, сначала ведь я прочла только так, поглядела, обрадовалась. А теперь прочла толком. И радость померкла.
«Духом, хранителем “места сего”» превратилось в бессмысленное «места всего» (это в первом стихотворении), а во втором «Маринкина башня» – в «Мариинскую». Боже мой, как же работают издатели, составители? Бумага у них есть, шрифт образцовый, цензуры нет (из-за цензуры здесь были удалены три эпиграфа и целая строфа!) – чего же им не хватает? Если нету там русских наборщиков и корректоров – смотрели бы в оба сами! Нельзя же делать такие жирные ошибки на самом видном месте, в начале тома! Ведь все они, небось, профессорского звания – и не знают «места сего»! Ну, а если заметили слишком поздно – обязаны были вклеить в тираж листок с опечатками… Нам здесь спасенья от цензуры не хватает, и бумаги вечно не хватает, а им там – чего?
Анна Андреевна «повернувшись вполоборота»:
– Любви, – сухо сказала она.
Любви? Но тогда можно было бы и совсем эти стихи не печатать. Начальства над ними нет, никто их под руку не толкает: запретить, или, напротив, печатать Ахматову. Трудятся они по собственному почину. Вольному воля…
– Не огорчайтесь, – сказала Анна Андреевна, снова вынимая книгу у меня из рук и решительно отправляя ее на подоконник. – У нас с вами таких чудовищностей не будет… Давайте, я вам лучше смешное расскажу.
Рассказала, что ее навестили один заезжий француз и дама. Дама сидела в столовой, вместе с хозяевами, а француз с нею, у нее. Когда гости ушли, выяснилось, что у них в этот вечер были билеты в Большой, на «Лебединое озеро».
– Какое там! Он сидел у меня шесть часов. Да, да, ровно шесть. Я сосчитала. Я своими глазами видела, как у него за это время выросла борода… Еле-еле его от меня домкратом вытащили…
Я подумала: а ведь в самом деле, видеть Ахматову интереснее, быть может, чем «Лебединое озеро». Я вижу ее часто, привыкла, но понимаю француза, хотя мне и не дано понимать, что именно в ней интересно людям чужого языка, чужой судьбы. Что интересно и дорого нашей Анне Абрамовне – понимаю, что французу – нет…
Анну Андреевну позвали к телефону. Чуть только она вышла из комнаты, я схватила с подоконника книгу. Открыла оглавление. Ох, сколько тут интересного, вот бы мне почитать: письма Бабеля! Воспоминания Михаила Чехова! Артур Лурье! Да и статья о «Поэме»!
Однако, воротившись, Анна Андреевна сразу лишила меня этой надежды. Она дала мне понять, что книга эта в течение ближайшего времени должна вернуться к владельцу.
Досадно!
Я поднялась.
– Ну посидите со мной еще пять минут. Я так рада, что вы согласились составлять мою книгу. Знаете, что сказал о моем последнем цикле Зенкевич? Влюбленность изображена тут в виде некоей третьей силы, вне людей существующей.
Что ж, это верно. То есть и то, что влюбленность в виде посторонней силы изображена в «Красотке», да и в жизни оно так и есть. Приходит некая третья сила и начинает распоряжаться двумя неповинными людьми. Они, в сущности, ни при чем.
2 декабря 63 • Я торопилась в поликлинику, но Анна Андреевна позвонила с утра и попросила непременно приехать: хочет посоветоваться о цикле стихов для «Нового мира». После поликлиники мне – в библиотеку, но я вырвала час и поехала к ней. «Новый мир» – «Новым миром», а звонок ее был вызван серьезной бедой: 29 ноября в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья о Бродском – статья страшная: называют его «окололитературным трутнем», «тунеядцем», а у нас тунеядство – обвинение нешуточное, могут и выслать и посадить72. То, что Иосиф – поэт, ему не защита: поэтами и вообще литераторами признаются только члены Союза или хоть какого-нибудь Группкома. Бродский же не член ничего, а просто поэт. Да еще непечатающийся. Правда, Бродский переводит с польского, а труд переводчика у нас трудом признается, но только при наличии договора с издательством. По слухам же, объяснила мне Анна Андреевна, Косолапов, директор Гослита, собирается договоры с Бродским спешно расторгнуть.
Анна Андреевна встревожена и от тревоги больна. Неужели вот так, до последнего дня своего, осуждена она терзаться судьбами друзей? Терзается: она полагает, что в глазах начальства Бродскому повредила его дружба с нею.
– Будут говорить: он антисоветчик, потому что его воспитала Ахматова. «Ахматовский выкормыш».
Сказать, разумеется, все можно. Но из чего же следует, что Бродский – антисоветчик? На самом деле, в стихах Бродского – в тех, какие известны мне – нету ничего а) антисоветского; б) ахматовского. Никакой связи с поэзией Анны Ахматовой (и вообще с чьей бы то ни было) я в стихотворениях Бродского не улавливаю, я не в состоянии понять, откуда они растут. Советской властью он, по-видимому, не интересуется вовсе, и трудно сообразить, почему она интересуется им?
Я прочла валяющуюся на столе статью и уверила Анну Андреевну, что упрек в ахматовщине там начисто отсутствует, хотя и мелется какая-то привычная галиматья насчет модернизма, пессимизма и декадентщины. Цитаты же из стихотворений вырваны так, что вообще ни о чем не свидетельствуют.
– Еще бы! – сказала Анна Андреевна измученным голосом, – там нет ни одной строки из стихотворений Бродского. Все чужие.
Легла на тахту, на спину, руки вдоль тела. Я спросила, припасен ли поблизости нитроглицерин? Она молча кивнула. Потом помотала головой по подушке: не надо, пройдет и так.
Статья скрыто, и при том явно, антисемитская. А что касается антисемитизма, я считаю его тоже надругательством не столько над «лицами еврейского происхождения», сколько над русской культурой, над Россией, в такой же мере поклепом на нее, в какой нынешний газетный язык – карикатура на русский.
Изобилие соответствующих фамилий в поименном перечне поклонников Бродского. Подписи под погромной статьей стоят три; из трех фамилий две еврейские – вот и концы в воду, никак нельзя упрекнуть разоблачителей в антисемитизме![63]63
Подписи под статьей в «Вечернем Ленинграде» («Окололитературный трутень») – А. Ионин, Я. Лернер, М. Медведев.
[Закрыть] Прием проверенный и давно известный. «Группка» – опять группка, снова группка – сколько раз еще мы будем это читать? И если «группка» – то где же неразлучная с нею «школка»? Если бы после ХХ и ХХII съездов действительно наступило новое время, то откуда бы взяться старым приемам и словесным клише? «Воспитательная работа» – вечная, нескончаемая воспитательная работа! столь схожая с работой Лубянки, что и не заметишь, где кончается одна и начинается другая. Наша Родина с большой буквы и непременная тяга ныне разоблачаемого злодея к какой-то чужой, не нашей родине, – той, которая с маленькой. Не выбраться читателю из этой лжи; читатель – муха, всеми лапками увязающая в липкой бумаге. Подлинные факты читателю неизвестны, ему не на что опереться, чтобы спастись, не увязнуть. (Вот ведь и я не знала, что цитаты выдернуты из стихов, Иосифу не принадлежащих. Но меня спасает «стилистическое обоняние»: чтобы почуять ложь, мне не требуется осведомленность в фактах: у лжи есть запах. Не устаю удивляться, как его не чуют другие.)
«Тошнит, как от рыбы гнилой»73.
Газетину эту выбросить на помойку, к сожалению, нельзя: придется ведь «что-нибудь предпринимать». Интересно – что? Ответа в печати не допустят. Вряд ли решился бы выступить с этой мерзостью «Вечерний Ленинград», если бы мерзость не была «согласована и увязана» с «вышестоящими инстанциями».
Кончается статья угрожающе: «Такому, как Бродский, не место в Ленинграде».
Знаем мы это «не место». Десятилетиями оно означало одно место: лагерь.
Анна Андреевна очень решительно села. Опустила ноги на пол. Прислушалась к сердцу. Встала на ноги. Опять прислушалась. И села за стол.
Мы начали было отбирать стихи для «Нового мира», перебрасываясь начальными строчками. Однако не судьба была нам сегодня работать. Раздался вежливый стук в дверь: пришел Лев Адольфович Озеров. Не помню уж по какому поводу, он начал подробнейше описывать зал, где в Стокгольме происходят торжества по случаю вручения Нобелевских премий. По-видимому, где-то в мире действительно существует Стокгольм.
Мое время истекало. Пора идти. Поговорили о существующем мире еще: про убийство Кеннеди – и о Кеннеди, и о его жене, и о том, что у нас в стране и интеллигенция и «народ» его любили.
Я ушла.
8 декабря 63 • Она звонила один раз в промежутке, но я не могла придти: библиотека, поликлиника, Переделкино. Сегодня вырвалась, наконец, к десяти часам вечера.
Анна Андреевна в своем нарядном сером платье, оживленная, красивая. Она только что из гостей – от Озерова – где, по ее словам, «шампиньоны, инженеры, икра; физики, любящие стихи – знаете, как это сейчас принято всюду».
Я ей рассказала о нашем с Фридой замысле: напишем о Бродском подробное письмо Игорю Сергеевичу Черноуцану, одному из деятелей аппарата ЦК. По поручению Корнея Ивановича мне уже приходилось встречаться с ним. Человек интеллигентный, доброжелательный, и склонен опекать литераторов. Напишем ему завтра же, не откладывая, и, вместе со своим письмом, передадим и письмо Иосифа: он опровергает пакостную статью факт за фактом, пункт за пунктом74.
Бродский был все время в Москве, но теперь уехал обратно в Ленинград по звонку отца.
Анна Андреевна обрадовалась нашей затее.
– А вы знаете, Толю Наймана уже тоже втянуло в дело Иосифа теплым воздухом, – сказала она печально. – Они ведь близкие друзья. Косолапов теперь и с ним не желает подписать договор. Его может постичь точно такая же судьба, какую они готовят Иосифу.
Анна Андреевна спросила, читала ли я стихи Бродского и что о них думаю.
Пока я жила в Комарове (уже после ее отъезда), ко мне частенько приезжали мои молодые ленинградские друзья, и каждый раз с целыми охапками стихов. Стихи Мочалова, Сосноры, Плисецкого, Горбовского, Гордина, Кушнера, еще чьи-то. Кушнер? Да. Соснора – нет. Я не знаю, за что его поносит начальство, но мне кажется – тут никакой лирической волны. Ценители говорят: «стихи интересные». А я этого термина не понимаю… Впрочем, любовь сегодняшней ленинградской молодежи – Бродский – имя его и его строки не сходят у них с языка. И мне его стихи полюбились, хотя и не все. «Новая гармония» слышна безусловно. А все-таки воспринимаю я поэзию Бродского какими-то странными клочками, ломтями, кусками. Одни стихотворения сразу запоминаю наизусть, переписываю для москвичей, показывала, вернувшись, Корнею Ивановичу и Самуилу Яковлевичу, иногда чуть не плачу от них, – а другие не воспринимаю совсем, хоть убей, ни звука. Для меня существует не один поэт Бродский, а двое их, причем № 2 не то чтобы слабее первого, а просто не проникает в мое сознание. И потом, спросила я у Анны Андреевны, почему даже самые горячие поклонники поэзии Бродского с каким-то странным сомнением говорят о нем самом, о человеке Иосифе Бродском? В чем тут дело?
– Бродского любят очень, – ответила Анна Андреевна. – И поэта, и человека. Аудитории гремят. Друзей множество. Однако в Ленинграде возникли среди молодежи разные течения. Например, Горбовский. У него много приверженцев. Вы его читали? Что думаете?
– Я читала, и мне он не кажется значительным поэтом.
– Мне тоже. Но у него свои поклонники… Они не любят Иосифа… К Бродскому – зависть. Ведь он – чудо.
Это не ответ на мой вопрос: с недоумением, а иногда и порицанием, относятся к Бродскому отнюдь не завистники. Однако, быть может, в слове «чудо» ответ все же содержится. Слово «чудо» включает в себя непонятность. Такую же, как и слово «поэт». Ну вот, например, никому не удалось до сих пор объединить представление о поэзии Фета с человеческим обликом Афанасия Афанасьевича.
Впрочем, Бродский-человек для меня прежде всего незнакомец. Анне Андреевне видней.
– Вот, полюбуйтесь, отношение к поэту, – сказала она. – Не к Бродскому.
Она порылась в сумочке и протянула мне письмо. Не помню, из какого города. От одной матери. Речь идет о ее сыне, поэте. Может быть, он и не поэт, но любит поэзию и сам пишет стихи. Письмо страшное.
Грамотой мамаша не владеет: «писсимизм», «ивангелье». Жалуется, что сын ее слишком любит книги, купил себе девяностотомного Толстого, заучивает наизусть стихи, делает выписки из «четырех ивангилий» и уверяет, будто бы в России всегда убивали поэтов: убили Гумилева, преследуют Ахматову. Не хочет читать ничего современного – ни газет, ни журналов. Маменька по этому поводу обратилась к врачам (!), но они сочли молодого человека здоровым. Теперь она умоляет Анну Андреевну «повлиять на сына».
– Да ведь она просто темная дура, – сказала я.
– Ошибаетесь. Она – современная Салтычиха. Не успокоится, пока не запрет сына в сумасшедший дом.
Показала мне список своих стихотворений, отобранных ею для «Нового мира». Я предложила исключить «Пятую розу» и включить «Если б все, кто помощи душевной».
Со вторым моим предложением Анна Андреевна согласилась, с первым – нет.
– Мне хотелось, – сказала она в защиту «Пятой розы», – напомнить, что существует такая стихотворная форма: мадригал… Вы не беспокойтесь: я поработала, и сейчас мой мадригал лучше, чем был в Комарове[64]64
Оба стихотворения появились в печати только после смерти Ахматовой: см. ББП, с. 260 и с. 309.
О каких стихах для «Нового мира» разговаривали мы в декабре 63 года – не помню; в июне 64-го в «Новом мире» появились «Пролог, или Сон во сне» и «При непосылке поэмы» – БВ, Седьмая книга.
[Закрыть].
14 декабря 63 • Полночь. Я только что от нее. (От Западовых.) Мой доклад о деле Бродского. Невесело! Товарищ Черноуцан на наше с Фридочкой письмо пока не ответил: ни письмом, ни звонком. Гранин уклоняется[65]65
Впоследствии Д. А. Гранин переменил свое отношение к «делу Бродского» и от уклончивости перешел к активной защите. Об этом см. подробнее в отделе «За сценой»: 124, а также с. 217 – 218 настоящего тома.
[Закрыть]. Дар[66]66
О Д. Я. Даре см. 165.
[Закрыть] сообщает, что одна только секция переводчиков, по настоянию Эткинда[67]67
О Е. Г. Эткинде см. 79.
[Закрыть], вступилась за Иосифа: послала в Гослит протест против внезапного и необоснованного расторжения всех договоров75. В «Смене» лежит, будто бы, еще одна гнусная статья. Слухи мрачнейшие: Союз Писателей в Ленинграде затевает суд…
В гостях у Анны Андреевны – милый Толя Найман. (Не пойму, с какой минуты стала я в уме называть его «милый Толя»? Но это случилось. Мил мне этот человек своим умением молчать или даже исчезать, если участие его в разговоре необязательно; собеседник же он живой и тонкий.)
Опечалила я Толю и Анну Андреевну своими вестями.
О Бродском Анна Андреевна очень высоко:
– Это как две капли воды похоже на высылку Пушкина в двадцатом году. Точь-в-точь.
Или:
– Не смыть им будет со своих рук его крови. Они будут запятнаны. Ведь Бродский – чудо, дивный поэт.
Давид Яковлевич Дар советует написать письмо в «Известия». Пусть Ахматова обратится туда с письмом в защиту Бродского. План этот возникал уже не однажды, но всякий раз Анна Андреевна отвергала его: она полагает, что ее прямое вмешательство в дело Бродского принесет не пользу, а вред. На этот раз внезапно согласилась.
– Готова писать кому угодно и что угодно.
Однако отложила окончательное решение до понедельника: хочет посоветоваться с Сурковым. «Дело против Иосифа благословил Союз Писателей; может быть через Суркова – путь к обороне самый верный».
Может быть… Анна Андреевна попросила меня для разговора с Сурковым составить ей «шпаргалку» – дата, содержание статьи и пр. Я же попрошу мне помочь Фриду.
Толя дал мне справку о Лернере. Этот главный зачинщик, – человек из КГБ. Сейчас работает где-то на какой-то хозяйственной должности, но главная его должность – руководить дружинниками. Они со страстью преследуют фарцовщиков – настоящих и мнимых – пишут доносы на «идеологически невыдержанных» молодых людей, подглядывают, подслушивают, шантажируют. Лернер такой же фанатик сыска, как Бродский – фанатик поэзии. Делает успешную карьеру. Сейчас вот выступил уже в «Вечернем Ленинграде», это уже шаг вперед, а раньше выступал всего лишь в многотиражке – в газете того института, Технологического, где учился Толя. Там Лернер заведовал клубом и блистал разоблачительной деятельностью. Там он «выявил антиправительственную группу» в составе Наймана, Бобышева и кого-то еще. «Что́ можно сказать о комсомольце Наймане? – процитировал Толя, – Найман во всеуслышание заявляет, что у него нет никакой идеологии».
Толя рассмеялся. Мы – нет. («И декабрьским террором пахнуло / На людей, переживших террор»76.) Я подумала о Мишкевиче. Лернер – вылитый Мишкевич. Обоих на одной фабрике делали. И сколько их, таких, к услугам власти! Не счесть… Толя еще сказал, что для компрометации Бродского пущена в ход интересная фотография: сидят голые бабы, а среди них – одетый, застегнутый на все пуговицы молодой человек. Это будто бы Иосиф. Но – ни малейшего сходства.
Узнаю Мишкевича. В тридцать седьмом он подделывал поправки в издательских корректурах, чтобы доказать наше вредительство. Впрочем, в 37-м не очень-то требовались фальшивки. Можно было схватить любого прохожего и выбить из него любое признание. А сейчас все-таки требуются какие-то доказательства, документы… Хотя бы и фальшивки.
Толя ушел. А мы молчали, молчали. Я надеялась, молчание кончится стихами. Так и случилось.
Анна Андреевна сказала: «Вот что написано мною третьего дня». Прочла стихи о морозе и расставании. Вздор: не о морозе и не о расставании – о смерти.
О своей смерти.
Расставание с кем-то – и с жизнью! – и при этом не горестное, а торжественное, праздничное, даже, я сказала бы, радостное.
Среди морозной праздничной Москвы,
Где протекает наше расставанье…
Новый год, Рождество.
И где, наверное, прочтете вы
Прощальных песен первое изданье.
Потом как-то так:
И святочного неба бирюза,
И все кругом блаженно и безгрешно…
Я не запомнила всего целиком, но две строки больно полоснули меня по сердцу. Ведь «прощальных песен первое изданье» – это ни что иное, как тот сборник, который мне предстоит составлять. А она чувствует себя на пороге смерти. «Что? Что? Уже?..» спрашивает тот, к кому обращено стихотворение[68]68
ББП, с. 246. Не ссылаюсь, как обычно, на «Бег времени», потому что там, на с. 400, опечатка: пропущена строка – вторая снизу: «Немного удивленные глаза».
[Закрыть].
Но как празднично говорит она о своей кончине: мороз и праздник. «Блаженно и безгрешно». Так и видишь зажженные елочные свечи, снег, сверкающий лед, огни, купающиеся в сугробах. Так и слышишь: «Мороз и солнце. День чудесный». В морозе и правда живет нечто праздничное. «И святочного неба бирюза, / И все кругом блаженно и безгрешно». Это уже не только безгрешно, а и без нее, это она уже переступила смерть. И по ту сторону празднует Рождество.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?