Текст книги "Киноязык: опыт мифотворчества"
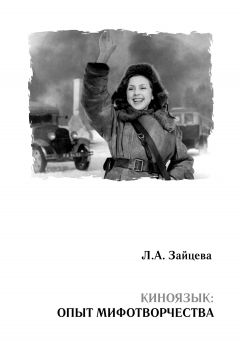
Автор книги: Лидия Зайцева
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«…Из коммунистической перспективы…»
Как ни парадоксально, именно с появлением на экране реального человека наиболее отчётливо обозначился процесс изменения возможностей выразительного языка. Пока, на уровне техники и «азбуки», были во всей полноте освоены варианты экранной метафоры: от изобразительной и монтажной, вплоть до создания типологии героя, реализующего авторский замысел. «Типажный» персонаж ведь, – и на этом стоял, почитай, весь новаторский кинематограф, – был «знЗком», обозначением (поведения толпы, дифференциации массы и т. п.). То есть, по существу, своего рода метафорой, иносказанием, замещением «общего» неким «частным», наиболее ярко несущим самые отчётливые признаки этого «общего». Типажный кинематограф как понятие неотделим от авторского (поэтического, монтажно-метафорического и т. п.). Это касалось не только фильмов С. Эйзенштейна. Если обнаружить общее, – то и А. Довженко, В. Пудовкина, других новаторов. И так – практически до 30-х годов.
Какая же метаморфоза произошла со сменой типажного персонажа на образ реального человека? Что случилось со «знаком» авторского построения, когда типовой герой, имеющий лишь внешние опознавательные признаки принадлежности к событию и не обладающий собственной логикой поведения, сменился вдруг на человека с индивидуальным характером?
Кинематограф сознательно и настойчиво освобождается в начале 30-х от функциональных признаков «знакового» человека, пусть сначала и не очень умело (вспомним парторга из «Встречного»). Мало того, что герой-парторг не наделён чисто внешними атрибутами власти, поведения, отвечающего должностному статусу, – Вася многого не знает из того что ему «положено» знать, переживает неудачу в любви, пьёт с «прогульщиком» водку…
Все эти «подробности» вовсе не дискредитируют героя, – они «оживляют» фигуру крупного руководителя. Делается это неумело? Да. Пока что – в духе теории «живого человека». Не вступая в полемику с заведомо предопределённым результатом, обратим внимание лишь на сам факт: потребность обновления канонического героя. Героя-метафоры (комиссар в кожанке с маузером на боку). Если по внешним признакам образ-знак персонажа оказывался предельно ясным с первого же, пусть короткого, кадра, стало быть, он выполнял роль именно метафоры, вовсе не призванной к прочтению в ней мельчайших реалистических подробностей. Вася из «Встречного» был отчаянной попыткой уйти от «знаковости», метафоричности образа, показать реального человека. А тогда, значит, дискуссионные передержки – не в счёт. Они всего лишь – в духе времени – наивны.
В первые годы звукового кино на экране утверждается реальный человек. Кинематограф последовательно добивается правды индивидуального характера.
В сопоставлении героев двух первых звуковых картин этот процесс обнаружить довольно легко. Так, например, Е. Кузьмина («Одна») при явно самостоятельном поведении ещё не обладает чертами индивидуального характера. Её поступки – типовые для человека, попавшего в ту или иную ситуацию, предложенную фильмом. Авторам важен, скорее, факт судьбы героини, оказавшейся в сложных обстоятельствах. Но не индивидуальности, каждый раз по-своему реагирующей на происходящее.
Образ воспитателя Сергеева («Путёвка в жизнь») – ярко воссозданный Н. Баталовым характер. И ситуации сюжета требуют от актёра нестандартной реакции. Он их переживает, обнаруживая, прежде всего, своеобразие личных решений, индивидуального поведения, исключительно в пространстве логики характера. Вплоть до отдельного жеста, интонации, мимического «отражения» произнесённой фразы, выразительной паузы…
На экране начала 30-х гг. утверждается реальный человек. Актёру, безусловно, предстоит накапливать новые средства выразительности. Все они станут открытием, поскольку правдивость образа героя оказалась на самом деле новым словом в практике советского кино. При том, что до сих пор опыт, например, Я. Протазанова и его школы числился устаревшей «традицией» и не накапливался, а скорее отрицался: новаторы считали пороком тяготение экрана к средствам театральной выразительности, к школе переживания. Начало 30-х гг. дало советскому фильму ярких исполнителей, ощутивших не просто индивидуальность своего героя, но и способных предложить нужные краски, отвечающие его характеру, психологии, жанру картины, общему настрою фильма, авторской тональности. Б. Чирков, например (в 1934-м году главная роль в «Юности Максима» Г. Козинцева и Л. Трауберга, а также эпизодическая – крестьянина в фильме братьев Васильевых «Чапаев»), органично и остро воплотил полярные по содержанию характеры: понимание индивидуальной судьбы, социальной биографии, возрастного своеобразия. Исполнителем были найдены не только пластика, интонация героев, но и целый ряд «мелких» подробностей (жеста, мимики, пауз, своеобразного лукавства, роднящего образ с национальными фольклорными персонажами), рельефно обозначающих внутреннюю жизнь героя.
В подобной трактовке персонажа изначально отсутствует возможность метафоры. Зритель, явно охладевший к революционной тематике и «знаковости» авангардных типажей конца 20-х, давно ждал такого героя.
Человек, оказавшийся центром сюжетного построения, – актёр, реализующий логику его поведения, – несколько потеснил автора, своими поступками обозначая мотивы сюжетного развития. На глазах рождалось «другое кино». То, о котором в одном из писем М. Штрауху писал С. Эйзенштейн, рассуждая о работе после возвращения из заграничного турне. Речь шла о «моносюжетных» фильмах, об образе человека, определяющего развитие экранного действия.
С. Эйзенштейн, судя не только по фильмам, но и по многочисленным высказываниям, очень точно видел различия двух повествовательных систем: авторского кинематографа новаторского типа – и сюжета, основанного на формировании образа героя. Он прекрасно понимал, что буквально все составляющие кинообраза в разных системах действуют по-иному.
Реальный живой человек практически отменял «семантический» конфликт новаторского фильма: представитель Массы – История. Этот конфликт задавал «масштаб» образу человека. В результате он и оказывался обозначением, знаком, вобравшим в себя, прежде всего, обобщённость классовых признаков. И лишь в силу такой типажности способный – как тип – противостоять истории.
Новая повествовательная система обратилась к воссозданию реального человека, его индивидуальных качеств. И второе слагаемое конфликтной структуры – история – должна была также претерпеть изменения, конкретизироваться. Историческая ситуация как бы отодвигается на второй план, уступая центральное место развитию характера.
Факты истории оказываются системой конкретных жизненных событий, под воздействием которых формируется характер.
Однако реальный человек, как тут же стало очевидно, оказался неспособным противостоять социально-масштабному напору истории. Он должен был преодолеть какие-то свои личные слабости, подняться, занять иное место. Выйти из испытаний обстоятельствами таким, чтобы ему захотели подражать другие. То есть найти в себе способность стать пусть маленьким, но героем. А значит – по существу – оказаться «мифологическим», актуализировав в обыденном поведении героические черты собственного реалистического характера.
К такого типа героям принадлежат даже персонажи одного из самых заметных ранних фильмов о детях («Рваные башмаки», 1932, М. Барская). Автор использует беспроигрышный драматургический приём: игры детей на пустыре имитируют жизнь взрослых. В забавных ребяческих шалостях звучат трагические ноты реальных проблем их отцов. И вот здесь, в ходе борьбы взрослых за свои права, проявляются зримые ростки характеров будущих её участников.
Пожалуй, ещё более отчетливо логика становления характера (из жертвы – в борца, способного противостоять социально враждебному миру) проявляется в картине И. Пырьева «Конвейер смерти» (1933), снятой на зарубежном материале.
В центре конфликта – три девушки. Одну из них события бросают на панель, другую толкают к самоубийству. И только третья, примкнувшая к классовой борьбе, оказывается способной противостоять историческим обстоятельствам.
Проявление героического начала в индивидуальном характере оказывается основой формирования личности, способной соответствовать суровым условиям классовой борьбы. У такой героини из «Конвейера смерти» определённо есть будущее. Героическое начало в личности, проявление качеств, способных повлиять на изменение, кажется, безвыходной ситуации, переломить судьбу, – всё это тоже ростки, отзвуки мифологизации, моделирующей экранный сюжет фильма И. Пырьева.
Несколько иначе выглядит структура «герой – социальные обстоятельства» в фильме В. Пудовкина «Дезертир» (1932 г.).
Герой – не жертва, он – порождение социальных конфликтов, сложившийся под их воздействием человек. И теперь они оказываются сильнее. Под благовидным предлогом (приглашение на работу в СССР) он покидает бастующую Германию, тем самым как бы предавая товарищей по революционной борьбе. Становится с их точки зрения дезертиром.
И хотя, как автора, В. Пудовкина, может быть, не в полной мере занимает эта драматическая ситуация, его герой, убедившись в возможности победной перспективы для Германии – на примере страны Советов, – возвращается домой…
Тем не менее, поиск человеком собственного пути представляется ещё одной разновидностью новой конфликтной структуры «герой – исторические обстоятельства».
Обратившись к наиболее очевидным в этом отношении примерам, легко можно продолжить анализ становления характеров практически всех экранных героев, оказавшихся в социально значащих условиях. И при этом убедиться, что в их формировании ведущую роль играют именно такие, знаковые «подробности» окружающей среды. Будь то Максим (трилогия Г. Козинцева и Л. Трауберга), Чапаев, герои «Окраины», «Златых гор», другие, – перед нами особый тип индивидуального характера.
Человек социальный. Новейшая интерпретация героической мифологии.
Это важнейшее отличие героя советского кино от многих других персонажей экрана 30-х гг. Оно как бы само собой подразумевается в эстетике соцреализма. Своего рода переходная стадия от героя типажного к реальному. От монументального уже был сделан шаг к индивидуальному. Но до истинного его осмысления и воплощения, как оказалось, ещё очень и очень далеко…
Тем не менее, очевидно, что становящийся советский кинематограф стремится к возвеличению нового человека. Оставаясь обыкновенным, он в социальных условиях меняющейся жизни приобретает «надличностное» значение благодаря авторской трактовке материала: драматургической, изобразительной, актёрской. Монументализм как стилевая доминанта образа героя сместился в пространство авторских построений, оценок и суждений – о великих переменах, которые формируют современного человека.
О своём истинном величии даже не подозревают герои одного из самых значительных фильмов этого этапа – «Окраины» Б. Барнета (1933): сапожники – отец и братья Кадкины, другие обитатели провинциального городка, Манька, наивно опекающая пленного немца – тоже сапожника, Все они – песчинки глобального исторического процесса: мировой войны, грядущей революции, в водовороте которой каждому предстоит личностно определиться и проявить себя. То есть, до последних кадров оставаясь собой, герои последовательно приобретают монументальность, проделывая, согласно ходу истории, путь в революцию. В последних кадрах они движутся колонной по улицам своего богом забытого городка, преобразившись, приобретя внутреннюю значительность. Это уже участники и творцы истории, персонажи нового советского мифа.
«Окраина», к тому же, полисюжетный фильм. Огромное количество персонажей не выглядит на экране «массовкой». Каждый из героев – отдельная судьба, мотивированные характером поступки в любой, даже самой неожиданной ситуации. Это новшество экранной драматургической структуры также работает на «высокое» прочтение замысла. События провинциальной жизни как бы исподволь окрашиваются светом охвативших страну перемен.
Совсем иначе проступает монументальность в «Великом утешителе» (Л. Кулешов, 1933), рассказывающем о личности и страницах биографии О'Генри. Отгороженный от реальности тюремными стенами, тихо опускающийся, спивающийся писатель не просто продолжает сочинять свои сказочно-невероятные новеллы. Он поддерживает павших духом, противостоит унижениям, творит фантастически прекрасный и справедливый мир, обитателями которого делает обреченных на гибель товарищей по несчастью. И параллельно обнажает жестокость и цинизм мира реального, где правят сильные, но духовно убогие хозяева жизни…
Названные выше картины – выдающиеся на фоне массовой продукции начала 30-х гг. Но именно благодаря своей уникальности они сконцентрировали самые существенные черты нарождающегося стиля. В нём обыденному герою придают монументальность исторически значимые обстоятельства, в которых раскрывается его реалистически достоверный характер.
Фильм С. Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!», снятый в период зарубежной творческой командировки, тоже повествует о величии народа, национальных традициях. Монументальные изобразительные композиции в нем – основа повествовательной стилистики. Существующая у нас в стране копия – лишь малая часть, фрагмент грандиозного замысла, поэтизированного повествования о судьбе народа, хранящего собственную цивилизацию, культуру, духовное наследие…
В сюжетах перечисленных фильмов важнейшую роль играют детали и подробности. Уточним: бытовые детали в характеристике индивидуальных персонажей и подробности событий, из которых складывается ход истории. Вернёмся для примера к фильму «Окраина», перенасыщенному, кажется, бытовыми деталями, характеризующими обыденную среду, которой скоро предстоит стать полем революционных волнений.
Вот в каморке сапожника отец поправляет лохмотья сыновней постели, которую уступает пленному немцу – тоже сапожнику, взятому в помощники: свои сыновья на фронте. Глядит в просвет дырявого чайника: надо бы запаять. Эти и другие детали рисуют нищий быт, привычную нужду, готовность ко всему приспосабливаться.
Это – «говорящие» детали, они ярко и образно характеризуют персонажей, их быт.
И ещё одна неприметная подробность: наклонившись к подвальному окошку, почтальон подаёт конверт. «Похоронку» на сына. Взрыв отчаяния и ярости, тяготы войны, пленный немец, напевающий что-то, получив наконец работу. Всё в душе отца прорвала эта последняя «подробность» (событийная деталь и звуковая сошлись контрапунктом, вызвав резкую психологическую реакцию отца). Немец выброшен на улицу, жестоко избит толпой. Так выразительная деталь (почтовый конверт) меняет ход сюжетного действия, оказывается мотивом дикого бунта. И только пройдя через осознание этого и других событий, герои «Окраины» способны в финале встать рядом, принять грянувшую революцию.
То есть обычные бытовые детали последовательно насыщаются новым, изменяющим их значение содержанием. Они оказываются способными направлять развитие сюжета, формировать судьбы героев, действие фильма…
Среди принципиально новых теоретических идей этого времени (большинство книг и статей всё ещё пропагандирует возможности монтажа) следует особо выделить мысль о способах реализации на экране внутреннего монолога героя.
Об этом вскользь, буквально несколько строк, говорится в упомянутой выше небольшой по объёму статье С. Эйзенштейна «Одолжайтесь!». Однако значимость её основной идеи – внутреннего монолога – переоценить невозможно.
«Одолжайтесь!» посвящена его несостоявшейся в Голливуде экранизации романа Т. Драйзера «Американская трагедия». Режиссер в статье делится нереализованным замыслом, отдельными задумками. И среди них – как передать на экране ход («беспорядочный бег») мысли героя…
Сам факт появления этой статьи (приложим к ней мысли о готовности снимать картины, посвящённые отдельному человеку), по существу, означает предложение нового способа киноповествования, в основании которого лежит анализ психологии человека. На нашем экране такой способ станет возможным только во второй половине 50-х гг.
Другое теоретическое «новшество» – небольшая книжечка В. Пудовкина «Актёр в кино и система Станиславского» (1934) обобщила многолетний опыт работы режиссёра с театральными актёрами школы переживания, принесшими на экран традиции МХАТа. Как легко убедиться, теоретическая мысль другого классика советского киноавангарда также повёрнута теперь к возможностям реализации правдивого характера, к способам раскрытия актёром мира и переживаний героя.
Эти работы крупнейших практиков и теоретиков тех лет убеждают в том, что в кинематографе обозначился интерес к личности, к переживанию, к чувствам, высказать которые на экране позволяет череда тщательно подобранных деталей, подробностей, поступков персонажей. Не просто зафиксированных в слове, а выразившихся в действии, в противостояниях побуждения, мотива и случайностей, иной раз противоречащих логике событий.
Всё это означило обращение кинематографа к анализу индивидуальности человека. «Монументализм» сменяется естественной логикой поведения в конкретных обстоятельствах. Рассказать о великом, оказывается, можно и простым языком. Показать обычного человека участником исторических событий, обосновать реальными условиями его собственный выбор. Личностные поступки возвышают характер до социальных обобщений лишь в итоге – в зрительском сознании. А сами герои как бы и не догадываются о своей роли творцов истории.
Сюжетная полифония «Окраины» содержит признаки крупной романной формы, жанровое многообразие которой максимально раскроется значительно позже. «Великий утешитель» предложит способ воссоздать не только пространство событий, но и внутреннюю, духовную территорию существования героя в своих вымыслах, вольного обращения со временем – текущего действия и воображаемом, вычитаемом из реальности и противопоставленного ей.
Л. Кулешов основательно работает над постановкой и чуть позже, в 1935-м, обобщает её опыт в книге «Репетиционный метод в кино». Способ съёмки он рассматривает отнюдь не как рутинный производственный период, когда всё уже ясно и в права вступает техника. Режиссёр стремится не утратить найденное кинематографом умение организации кадра, работы съёмочной камеры, динамической живописи, освещения, выразительной актёрской пластики. Время и пространство «Великого утешителя» – основные рассказчики, несущие на себе пласт авторской интерпретации действия.
И это при том, что пространство, например, «Да здравствует Мексика!» С. Эйзенштейна – мощный авторский «голос» в полифонии стилизованного изобразительного решения фильма.
На небольшом отрезке времени экспериментального периода начала 30-х гг. нарождающийся звуковой кинематограф, кажется, едва справляется с освоением крупных по значимости открытий, – порой не находя им применений, а то и чрезмерно увлекаясь, как бы «заигрываясь» найденным. Однако сохраняется главное: вектор, направление развития. И на выбранном пути советский экран ждут поистине удивительные результаты.
Наиболее ярко они обнаружились в фильме «Чапаев» братьев Г. и С. Васильевых.
В 1934-м году, с выходом на экраны «Чапаева», заканчивается, по общему мнению историков кино, экспериментальный период, связанный с творческими поисками в области освоения звука. Технические достижения фильма братьев Г. и С. Васильевых в этой сфере, обеспечивающие рождение выразительного звуко-зрительного образа, общеизвестны и неоднократно описаны. Однако, «Чапаев» к тому же сплавляет воедино метафору и миф. То есть осуществляет процесс рождения целостной мифологической системы – именно из метафоры, наглядно позволяет обнаружить их родство. И с данной точки зрения это фильм поистине знаковый.
Для наглядности – наиболее яркая метафора: строй белогвардейских офицеров в момент психической атаки. Чёрные мундиры на светлом фоне (над головами плотной колонны – пространство неба). Ряды офицеров, будто распахнутые крылья огромной птицы, зловеще приближающейся к рядам чапаевцев. «Расшифровка» смысла метафоры – в предшествующем эпизоде неспешного ночного разговора Петьки и Василия Ивановича, склонившегося над планом завтрашнего боя. Слова разговора время от времени сменяются куплетами песни, звучащей задумчиво, на два голоса, – «Чёрный ворон»…
И вот именно эта чёрная громадина хищной птицей надвигается утром на позиции отряда. Плохо готовые к обороне, как будто заворожённые эффектным зрелищем, бойцы в окопах напряжённо ждут исхода…
Здесь значимо всё. Цвет мундиров и построение цепей (рисунок ассоциируется с мощным размахом крыльев), напряжённая тишина ожидания, усиленная ритмичной дробью строевых барабанов. Нарочитая бравада офицерских рядов (по свидетельству историков, таким развёрнутым строем, да ещё в парадной форме, офицеры в гражданскую войну в бой никогда не ходили)… И всё же: «…Ты добычи не добьёшься…». Именно этот словесный смысл прозвучавшей в предыдущем эпизоде песни оказывается метафорическим подтекстом происходящего теперь действия, реализацией логики его сюжетного развития.
Эта развёрнутая метафора, слагаемые которой расположены не рядом, а как бы разведены по разным эпизодам, ещё не раз в качестве приёма авторского комментария повторится в сюжетном развитии событий «Чапаева». Примечательно и то, что традиционная для 20-х гг. кинометафора теперь слагается способом сближения различных по своей природе компонентов – изображения и звука.
Неспешный ночной диалог Петьки и Чапаева, обдумывающего план завтрашнего боя, ничем, кажется, не обнаруживает потенциала нарождающейся метафоры. Да и сама солдатская песня, которой разговор перебивается, не претендует в данный момент на акцентирование подтекста. Это произойдёт в «завтрашнем» кадре. Следующий эпизод всей своей изобразительно-действенной структурой отчётливо опирается на событийно-звуковые фрагменты предыдущей сцены, акцентирует содержащийся в ней реальный материал как выразительный подтекст каппелевской атаки. За счет её изобразительного построения возникает образ «чёрного ворона», он доминирует в развитии событий боя. Зритель сам, полагают авторы, уловит некую ассоциативную связь атаки и текста прозвучавшей ночной песни…
В «Чапаеве» несколько таких «скрытых» метафор. Однако дело не только в них.
Метафорические построения фильма носят, если можно так сказать, подсобный, вспомогательный характер. Главная их задача – создать фундамент сюжетно-повествовательной формы (её поэтический подтекст), что исподволь мифологизирует рассказанную историю. Превратит и самый образ народного героя, и череду сражений, в которых он участвует, и вообще всю героико-трагическую цепь событий в легенду, романтическое сказание, мифологическую систему, поэтизирующую одну из героических страниц гражданской войны. Не зря ведь до сих пор в сознании целых поколений образ Чапаева из фильма занимает особое место. Историческое лицо имеет с ним мало общего и немногие представляют себе жизненный путь настоящего комдива.
Яркий, экспансивный, с индивидуальным запоминающимся характером экранный Чапаев (Б. Бабочкин) обнаруживает буквально все черты и свойства мифологического героя. Не древнего эпоса времён Троянской войны и Гомера, конечно. Однако на экране 1934-го года удивительно точно и достоверно воссоздаются определяющие признаки такой конструкции. Родословная центрального героического образа как бы интуитивно поддерживается многими другими слагаемыми структуры мифа как такового.
Одним из определяющих признаков считается положенная в её основание так называемая «триада».
По мнению философа А.Ф. Лосева, триада изначально определяет устойчивость мифологической системы. Со сменой эпох, общественно-экономических формаций, с точки зрения идеологии изменяется лишь содержательная наполненность конструкции «триады». Своего рода снижение идёт и по линии обытовления образов.
Именно в своеобразии сюжетного построения фильма «Чапаев» со всей полнотой проступил один из вариантов такой преображённой мифологической «триады».
Не воплощённая на экране визуально, однако, определяющая поведение людей и ход исторических событий Партия. Направленный ею в дивизию наставник-воспитатель (комиссар). И собственно герой – Чапаев. Не это ли «нечто», связующее персонажей воедино, своего рода триада? По А.Ф. Лосеву, согласно мифологии христианского писания – «Святой дух», «Бог-Отец» и «Бог-Сын»?.. Меняющийся характер комдива складывается в строгом соответствии с воздействием двух первых «инстанций».
Не забудем, что коммунистическая идеология многие из нравственных канонов извлекала именно из мифообразующих источников. И такая структура, если приглядеться, будет ещё долго держать на себе сюжет не одного фильма – о событиях революции и гражданской войны, о построении социализма и т. п. на протяжении всего периода формирования, расцвета и заката «второго большого стиля» в советском кинематографе. В самом начале 30-х гг. этот стиль только начинал складываться и его отличительные свойства едва намечались…
Поэтому сегодня, рассматривая расцвет и закат этого уникального явления, недостаточно говорить только о переходе монтажно-изобразительной выразительности в звуко-зрительную образную систему.
«Второй большой стиль» обнаружил способ продвижения монтажной метафоры к гораздо более сложной – мифологической структуре повествования. Приглушив авторское начало как ведущий композиционный принцип «первого большого стиля» в массе житейских, бытовых подробностей реалистического сюжета, «второй большой стиль» использовал природное начало метафоры как способ, как инструмент (А.Ф. Лосев назвал метафору эмбрионом мифа) построений мифологического свойства. Киномифология как явление возникла, прежде всего, конечно, на базе идеологических постулатов социально-общественной формации. А с точки зрения стилевых законов искусства этот процесс обозначился как эволюция художественной образности, максимально отвечая возможностям и потребностям нового этапа.
Мифологический герой в «Чапаеве»… утонул. Однако гибли и герои Троянской войны, причастные к вечности. Оставалось нетленным только надвечное, озарённое немеркнущим светом, назначенное быть всегда. Смертные ипостаси «триады» не разрушали вселенской гармонии. Некий «Дух» – и часто «Отец» – оставались жить в сознании массы, постепенно превращая само это сознание в мифологическое. Хаос упорядочивался по мере того как усиливалось влияние «высших сил» на события реальной жизни…
Так, первые сцены «Чапаева» являют собой полный хаос. Вчера ещё крестьянские парни, бойцы дивизии Чапаева побросали оружие в воду, в страхе бегут, не хотят уходить от своей околицы, от собственных деревень… И только появление командира заставляет беглецов одуматься. А приход рабочих-ткачей во главе с комиссаром Фурмановым и вовсе разрешает ситуацию. Тема хаоса ещё будет время от времени вспыхивать снова. Но твёрдая воля представителя Партии (хоть он вообще-то не военный) наводит нужное упорядочение. В перевоспитании бойцов дивизии и её командира всё отчетливей проступает мифологическая структура видоизменённой «триады».
На переломе 30-х гг. на экране последовательно отрабатывается ещё одна из определяющих мифологических моделей – упорядочение изначального хаоса. Под руководящим влиянием Партии, в непосредственном воздействии её функционера, изменяется и формируется «в коммунистической перспективе» характер центрального персонажа. Действующее лицо новейшей истории приобретает свойства мифологического героя из некоего «завтра»…
Проанализировав кинопродукцию с точки зрения этой и других моделей (вплоть до гораздо более поздних трансформаций мифа – сказки, фольклорных жанров), можно найти множество скрытых признаков подобных структур в кинематографе «второго большого стиля».
Подлинный его расцвет демонстрируют фильмы второй половины 30-х гг.
Этот по существу уникальный стиль максимально выявляется именно на предвоенном этапе. Его свойства оказываются чрезвычайно продуктивными для формирования общественного сознания. И очень активно способствуют созданию основного мифа эпохи: построения социализма как самого мудрого упорядочения системы, как движения к её идеалам от «хаоса» прежних формаций…
Не зря ведь «путём «Чапаева» призывали идти весь советский кинематограф.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































