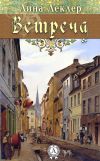Текст книги "Мемуары и рассказы"

Автор книги: Лина Войтоловская
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
…Но вернусь к тому, о чем говорила выше, – о спорах Сергея Михайловича и Аташевой, которые длились, не прекращались и были все так же остры и одновременно уважительны. Особенно обострились они после выхода первой серии «Ивана Грозного». Как и большинство товарищей, в ту пору Пера Моисеевна, при всем своем преклонении перед мастерством и режиссерским талантом Сергея Михайловича, не смогла разглядеть в первой серии того, что он собирался сказать (и сказал) во второй. И главное, того, чего ему не удалось сказать в третьей…
Никогда никаких ссор – это просто было между ними невозможно; лишь принципиальные споры об исторической концепции «Ивана. Грозного», о выборе «фигуры». Что ж, Пера Моисеевна не была тогда одинока своих недоумениях.
«Иван», казалось, отдалил их еще больше. Но вскоре я убедилась, что это было не так.
Ровно за сутки до, смерти Сергей Михайлович поздно вечером вызвал нас с мужем к, себе наверх по телефону. Все, или почтя все, что он говорил в тот вечер, во время последней нашей беседы, на следующий же день было записано моим мужем и впоследствии вошло в его вступительную статью ко второму тому собрания сочинений Эйзенштейна. Так что, повторяться я не буду: мне хочется рассказать только о том впечатлении, которое произвел на меня этот вечер – о той несколько странной атмосфере, в которой протекала наша долгая беседа.
Обычно веселый и легко острящий, в этот вечер Сергей Михайлович был несколько напряжен и непривычно серьезен. Хотя он и старался о своих предчувствиях говорить небрежно и подчас иронически, видно было, что ему сейчас трудно придерживаться легкого тона. Под конец, уже около двух, он откровенно печально заговорил о том, что на успеет закончить того, что задумал, начал, что хотел еще изучить, узнать. Не успеет…
Под конец показал мужу все собранные в одном шкафу свои работы, мемуары, записи, наброски и планы. На дверце шкафа с внутренней стороны был прикреплен подробный перечень – полный список всего содержимого.
Мне же он предложил пройтись с ним по комнатам и просмотреть библиотеку. Тщательно проверил, запомнила ли я где какие книги стоят, где инкунабулы, где, самые любимые.
Потом подвел меня к бюро. Большое, тяжеловесное, из потемневшего красного дерева, оно было в тот момент раскрыто. На откинутой столешнице лежала рукопись незаконченной статьи. Как это часто бывало, несколько строк в ней было написано по-английски, несколько – по-русски, несколько по-французски и по-немецки. Впоследствии тем, кто расшифровывал его рукописи, немало пришлось положить труда, чтобы все привести к единому знаменателю. Обычно он делал это сам. Но когда начинал работать над статьей, ему легче было писать именно на том языке, на котором он в данную секунду думал… Многочисленные ящики бюро были заполнены личными бумагами и милыми и нужными ему одному мелочами. Вот из одного такого ящичка он достал небольшой серый бумажник из крокодиловой кожи. Что-то вынул из него и протянул мне клочок довольно стершейся бумаги. Это была записка. Я узнала почерк Перы Моисеевны.
Даты на ней не было, но почему-то мне сейчас помнится, что написана она была в середине сорок пятого года. Может быть, мне об этом сказал Сергей Михайлович.
Вот ее точный текст:
«С. М. Пора бы нам уже и разойтись».
На обороте – ответ Эйзенштейна:
«Ни за что и никогда!»
И его характерная подпись, похожая одновременно на японский иероглиф и автопортрет.
Он подождал, пока я прочитаю записку о обеих сторон, потом вложил ее в брачное свидетельство, на котором стояла дата «27 октября 1934 года». Когда увидел, что я уже прочла и усвоила, он вложил свидетельство в бумажник, а бумажник – в самый дальний ящичек бюро.
Говорить ничего не надо была – я все поняла… А ровно через сутки около дух часов ночи, когда мы уже спали, нам постучала в батарею его старая домоправительница, это был условный знак – значит, Эйзенштейну плохо.
Когда я оделась и прибежала наверх, Сергея Михайловича уже не было. Он еще не остыл, мне показалось, даже вздохнул раз или два, но врач Иванова, явившаяся через семь минут после вызова, сказала, что делать укол бессмысленно – он мертв.
Здесь уже был, ныне тоже покойный, оператор и долголетний его спутник Эдуард Тисэ, живший в том же Доме. Потом откуда-то появились еще люди, ныне покойный режиссер К. Юдин с женой, еще кто-то, я уже не помню. Через час приехала Пера Моисеевна – у ней тогда не было телефона и пришлось сообщить ей через кого-то.
Я выполнила то, о чем вчера молча просил меня Эйзенштейн. Я передала ей бумажник с брачным свидетельством. Он ведь знал, что после его смерти самым верным его памяти человеком на свете будет Пера Аташева.
| В 1964 году вышел первый том собрания его сочинений. Там, в статье, озаглавленной «Иван Грозный», Фильм о русском ренессансе XVI века, Сергей Михайлович перечисляет исторические источники, над которыми он работал непосредственно для написания сценария и съемок фильма. Эти источники столь разнообразны и многочисленны, что, изучив только их, вполне можно было написать не одну, а несколько докторских диссертации и с блеском защитить их.
Но научная, именно научная работа над историческими материалами была только «подготовкой к подготовке». Сама же «подготовительная» работа над сценарием и фильмом захватывала много более широкую область человеческого познания, чем собственно история.
Художественная литература об атом периоде и художественная литература того периода. Художественная литература, как будто бы не имевшая прямого отношения к России того времени, даже к тем связям с западным миром, которые устанавливались в то время. Живопись. Театр. И снова живопись. Графика. Все бралось на вооружение. Вплоть до научных трудов по психологии и психиатрии. Все поглощалось и мгновенно перерабатывалось гениальным мозгом этого человека. И с поразительной тщательностью воплощалось сперва в набросок, затем – в точный рисунок будущего кадра, а в дальнейшем в поразительные по своей острой выразительности и мизансценах кадры.
Почему его привлек образ именно Ивана Грозного? (Сценарий был в основном закончен еще в начале 1941 года).
Никто из окружавших его тогда людей не обладал таким потрясающим даром политического предвидения, как он, и поэтому многие недоумевали, что заставило его взяться за эту картину. Но масштаб его мыслей и планов был недоступен даже очень крупным и знающим людям.
И только после того, как наконец вышла вторая серия «Ивана», многие (но далеко не все) поняли, что побудило великого Эйзенштейна, потревожить тень Грозного царя!
В сентябре 1942 года (пятого числа) сценарий был утвержден главком и в середине месяца запущен в производство. Еще до этого – окончательного утверждения, в августе, Эйзенштейн встречался и беседовал со многими актерами, знакомил их со сценарием (пока не имевшим еще окончательных диалогов), показывал зарисовки будущих сцен.
Эйзенштейн работал всегда, даже когда бывал тяжко болен. Естественно, его могучий мозг не мог быть ни секунды праздным. Но неустанно работали и его глаза и руки – он рисовал, Не все нарисованное им для «Ивана» впоследствии было снято (например, серия рисунков к невошедшей сцене «Лобное место», датированных 41-м годом), как не все написанные сцены вошли в фильм. Но сотни рисунков, набросков, сцен, впоследствии забракованных самим художником, в какой-то мере все равно присутствуют в готовом фильме, как и впитанная им масса научных и жизненных сведений, без которых не было бы Эйзенштейна-режиссера. Ему пришлось работать с актерами, которые по своему амплуа, казалось, совсем не подходили для намеченных ролей7 Можно ли было предположить, что комедийный актер М. Жаров так ярко и выразительно сыграет Малюту Скуратова? Что героиня лабишевской «Соломенной шляпки» Целиковская создаст трагический я обаятельный образ Анастасии, впервые улыбнувшейся Ивану из гроба? А эксцентричная Серафима Бирман сыграет русскую боярыню, поражающую силой воли и коварством? Николай Черкасов начинал свою театральную жизнь ролью Дон Кихота в Ленинградском детском театре Брянцева. Правда и после этого он играл Максима Горького и академика Полежаева (Тимирязева). И у Эйзенштейна – Александра Невского. Но в «Иване» он открыл в нем такие трагические глубины, каких он сам в себе не чаял никогда открыть! Подумать только, что многие годы бытовало среди кинематографистов мнение, будто Эйзенштейн «не умеет и не любит работать с актером»! Что, мол, его специфика – работа с массой, с обобщенной социальной категорией», что «психологические тонкости» ему не сродни. Как блистательно он в «Иване» опроверг это некомпетентное, но довольно распространенное мнение!
Первая серия «Ивана Грозного», как мне кажется, была только разбегом, подготовкой к тому мудрому, трагическому и страшному, что Эйзенштейн сказал во второй: к тому, что он не мог сказать в третьей. Когда мы прочитаем, изучим все, что он написал, все, что он успел в своей жизни сделать, может быть только тогда мы постигнем масштаб его гениальности и поразительную силу его идейной устремленности.
Он умер, не дожив до пятидесяти.
Но он принадлежит будущему. И расскажет далеким поколениям о силе и величии не только искусства нашей эпохи. Он поможет им понять, какова она была. Баков о было то трудное и великое время, в которое мы живем!
Есть такие строки в его мемуарах: «Биологически мы смертны. И бессмертны только в социальных деяниях наших, в том маленьком вкладе, который вносит наш личный пробег с эстафетой социального прогресса от ушедшего поколения к поколению наступающему».
Он был, скромен, Эйзенштейн, он считал свой в клад «маленьким»…
… Через семнадцать лет после его смерти, на Ново-Девичьем кладбище, на открытии памятника С. М. Эйзенштейну официальные лица спокойно присоединили к его имени эпитеты, «великим мастер социалистического реализма», и «гениальный художник».
Через 17 лет!
Алма-Ата… Город встретил нас солнцем и ярко-желтыми такими высокими березами и тополями, которых я нигде раньше не видела. Могучие стволы, золотистые кроны на фоне ярко-голубого неба – это аллея-улица, поднимающаяся к вычурно-ампирному театру оперы и балета; но этот разрисованный ампир не в силах был испортить пейзажа: его колонны и островерхий портик рисовались на фоне сиреневых, почти прозрачных, по вершинам заснеженных гор, и все вместе было так прекрасно и так далеко от затемненной Москвы, от войны, от смерти и ран, что казалось несуществующим, нереальным, выдуманным.
Меня окружали в городе новые, люди, состоялись новые знакомства. Жила я в доме у Абдильды Тажибаева, и в этом же доме мне пришлось присутствовать на торжестве в честь рождения сына. Я знала уже почти всех приглашенных, с некоторыми дружила, как с Тажибаевыми, со многими вместе работала на студии. Был Мухтар Омарханович Ауэзов, очень похожий лицом на Михоэлса, только много больше, грузнее и веселее великого еврейского актера.
С Мухтаром Омархановичем впоследствии, мы встречались довольно часто, бывали, с мужем: у него дома, где нас радушно и ласково принимала его русская жена – Валентина Николаевна. После войны он выстроил себе обширный, пустоватый дом: в огромной столовой почти до потолка высилось лимонное дерево, отягощенное продолговатыми» бледно-желтыми плодами. Однажды в его кабинете, где стоял только низкий письменный стол, полочка с необходимыми для работы книгами, кресло и тахта, – я застала очень старого крестьянина-казаха.; он приехал, из аула, где когда-то бывал Абай – Мухтар Омарханович тогда работал над последним томом романа «Абай». Сад окружал невысокий его дом, было светло и очень тихо…
Из знакомых мне писателей на тое был Габит Мусрепов. Был поэт Абилев – пришли Вера Павловна Строева, Григорий Львович Рошаль, впоследствии поставивший картину «Абай», и еще очень много народу – я запомнила не всех. Но был там один человек, который произвел на, меня неизгладимое впечатление – Иса Байзаков.
Я не знаю казахского языка. Те несколько обиходных слов, которые мне удалось запомнить, конечно, не могли помочь мне понять то, что пел этот маленький человек. Переводить взялся Мухтар Ауэзов. Первые песни показались мне скучными, покатыми – это были обычные сказы акына; к тому времени я наслушалась их достаточно». Но вот он попросил заказать ему тему, Вера Павловна Строева предложила: «египетские ночи» Пушкина. На наших глазах происходило что-то необыкновенное и удивительное: Иса Байзаков пел своим несильным, немного хриплым голосом: пусть будет благословенна Клеопатра, доставлявшая счастье юношам! Да будет благословенна их смерть, так как во всей своей дальнейшей жизни они не испытали бы большего счастья и всю долгую жизнь изнывали бы от тоски, вспоминая единственную ночь истинной любви. Так пусть же они погибнут! Если мы любим юность и людей, мы тоже должны быть счастливы, что они не жили ни одного часа сверх этой ночи – с рассветом они становились бы несчастны!
Никогда в жизни я не слышала такого трепетного гимна любви, как из уст этого акына.
К зиме киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» почти полностью собрались в Алма-Ате (лишь небольшая часть режиссеров оказалась в Ташкенте), и началась нормальная работа. Стали регулярно выходить так называемые «Боевые киносборники» (они выходили и в Ташкенте), несколько режиссеров вступило в производство.
Ненадолго в Казахстан приехал и мой муж (вместе с основной частью «Мосфильма»). Полностью обосновалась здесь сценарная студия, приехали сценаристы Блейман, Большинцов, Исаев, Коварский, ненадолго – Каплер, приехали писатели, из Ленинграда замкнутый и грустный Михаил Зощенко. Изжелта-темная кожа лица. Коричневые круги под большими карими глазами. Усики. Седеющие виски. Необыкновенно изящные руки с резко выделяющимися светлыми, круглыми ногтями. Стройная, небольшая фигура. Негромкий голос. Все это вместе почему-то вызывало в моей памяти представление о героях пьес Булгакова или – «Хождения по мукам» Алексея Толстого. Мне казалось, что передо мною Рощин или кто-то разительно на него похожий. Он мало шутил, редко, очень редко острил. Грустный человек с благородным, немного старомодным обликом.
Из Москвы прибыли Виктор Шкловский. Константин Паустовский, Владимир Луговской. Владимир Александрович, так же, как и мой муж, в Алма-Ате пробыл недолго. Он часто бывал у нас, наполняя нашу небольшую комнату своим непомерным басом.
Когда муж уезжал на фронт, Луговской подарил ему талисман – несколько стеклянных мексиканских бусинок, нанизанных на суровую нитку.
– Это вас сохранит от пули, от раны, от смерти, от горя, – сказал он и улыбнулся из-под своих стремительных бровей. Муж привез, эти бусинки с войны домой.
А Луговского уже нет…
…Часть приехавших москвичей и ленинградцев разместилась в старой гостинице «Дом Советов» (там почему-то всегда было полутемно и очень шумно), часть – в так называемом «лауреатнике», где жили Пудовкин, Рошаль, Эйзенштейн, Козинцев, Трауберг, Магарилл, Блинов, игравший в «Чапаеве» Фурманова. Блинов и Софья Магарилл почти одновременно заболели брюшным тифом и умерли тоже почти одновременно. Погибли два великолепных актера и умных, замечательных человека… Годом позже, мобилизованный на лесозаготовки для студии и города, на станции Чу погиб, тоже от тифа, молодой, талантливый, тихий, голубоглазый режиссер Валентин Кадочников – ученик Эйзенштейна, успевший в жизни поставить только одну-единственную картину – сказку «Волшебное зерно».
…Тяжко больной астмой, Константин Георгиевич Паустовский жил отдельно, «в городе». Входить к нему надо было не через дверь, а просто приподняв занавеску, отделявшую его «комнату» от многослойной жизни хозяев квартиры. Он приехал с фронта, где был военным корреспондентом. Паустовский работал очень много, но как-то у него всегда хватало времени встречаться с людьми, думать об их нуждах, горестях, просто делах, обсуждать их – не свои – литературные планы. И еще – он великолепно рассказывал. Иногда он так увлекался, что мог говорить буквально несколько часов подряд. Друзья в шутку называли это – «занимать площадку». Часто события и люди, о которых говорил Константин Георгиевич, были уже известны собеседнику, но в устах Паустовского приобретали такую своеобразную окраску, что казались «новыми», только что открытыми.
Совершенно не помню, куда и зачем шли мы однажды с ним по степной дороге. Было жарко. Вдалеке, окутанные сухим маревом, колебались очертания заснеженных вершин. Внезапно из травы вынырнула большая, темная птица, стремительно пронеслась над нами и где-то впереди снова исчезла в траве. Паустовский прервал неспешный разговор и рассказал крохотную новеллу, которую я почему-то запомнила накрепко. Может быть, я повторю ее здесь неточно, даже наверняка не смогу рассказать ее теми же словами, но вот она такая, какою запомнилась мне… «Это было где-то на юге России. Жарким летним днем я долго шел по степи из одной: станицы в другую. Окаменевшая на солнце дорога проходила меж высоких, уже подсыхавших трав. Я не сразу заметил, что какая-то небольшая птица упорно вьется над моей головой. Она носилась надо мной так низко, что порою казалось вот-вот заденет меня крылом по лицу. Сперва я отнесся к этому не очень внимательно – было жарко, я устал, торопился скорее прийти на место. Но постепенно мне становилось все неприятнее от этого упорного, непонятного преследования. Я начал отмахиваться, пытаясь отогнать ее. Но она не обращала внимания на мои жесты и крики. И тогда я вдруг решил, что эта странная птица предвещает мне беду. Я был один и никак не защищен ни от палящего солнца, ни от этой предвестницы несчастья. Мне казалось, что дорога никогда не кончится. Как я ни ускорял шаги, впереди была только сухая, позванивающая трава, серая трещина дороги и бесконечное, бесцветное небо. И эта странная, упорная птица надо мной. Старику, хозяину хаты, куда я наконец пришел, я тут же, не выдержав, рассказал о страшной птице. Старик засмеялся. «Да она просто лакомилась, – сказал он. – Ты не заметил, что в жару в степи над человеком часто вьется целый столб мошкары? Вьется и вьется. Как облако. Вот птица и ловила ту мошкару, питалась, обедала». Страхи мои сразу улетучились, но все-таки я до сих пор помню эту птицу…»
Константин Георгиевич привез из Москвы собаку Фунтика – низконогую, коричневую таксу необыкновенно «благородных кровей». У нее была смешная особенность – она не терпела, когда да ей показывали локоть. Как бы высоко вы не сгибали над нею руку, она подпрыгивала и яростно впивалась зубами в локоть. Конечно, это был обыкновенный трюк, но ребятишки, которым Константин Георгиевич охотно его показывал, каждый раз восхищались необыкновенным умом длинной похожей на ящерицу собачонки. Такая же «дрессированная» собака была у Рувима Исаевича Фраермана. Но та оказалась знатоком хорошей поэзии: стоило при ней начать читать какое-нибудь сентиментальное стихотворение военных. лет (и таких было немало), как черный пудель молнией бросался на читавшего стихи и принимался бешено лаять. Но тогда Рувим Исаевич начинал:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом … —
пес мгновенно успокаивался, довольно вилял хвостом и ластился к Фраерману. Тоже весьма примитивный интонационный фокус, но он производил еще большее впечатление, чем трюк с таксой.
Все это я увидела уже потом, в московской квартире Рувима Исаевича. А туда, в Алма-Ату, он прибыл поздней осенью из ополчения, откуда был отчислен по болезни. Он был невероятно оборван, утомлен и предельно голоден, но оставался таким же ласково-мягким, как всегда, – даже война не смогла сделать его жестче. Его круто курчавые волосы были совершенно серыми. Единственное, что ему тогда было необходимо, – кусок хлеба и кусок мыла. Рувим Исаевич недолго пробыл в Казахстане и вскоре уехал домой, в Москву.
Почти в это же время прибыл с Алма-Ату Сергей Александрович Ермолинский – автор многих сценариев и в частности «Машеньки», поставленной Ю. Райзманом. Евгений Габрилович был по этой вещи его соавтором, но имя Ермолинского не было включено в титры картины. И позже этот пробел не был исправлен. Таких «пробелов» в кинематографе было еще несколько, и исправление их – дело не административное, а лишь на совести соавторов и постановщиков… Через некоторое время Ермолинский тоже заболел брюшных тифом, но его удалось спасти. Немного раньше приехал Виктор Борисович Шкловский. Казалось, его война тоже мало изменила – как всегда он был оживлен, язвителен, остроумен у гиперболически трудоспособен. Он работал всегда, всюду, в любых условиях, при любом шуме, словно раз навсегда запущенный атомный реактор мысли, памяти, эрудиции; афоризмы Шкловского, его парадоксы передавались из уст в уста. Он также, как Паустовский, любил «занимать площадку» и был блистательным рассказчиком. Но его рассказы были окрашены в другой, менее, чем у Паустовского, жизненный цвет: большей частью они были расцвечены историческими примерами, короткими, точными, совершенными по форме литературными эссе, разящими, как хлыст, характеристиками. Рассказывая, он в самых неожиданных местах внезапно улыбался веселой, хитроватой улыбкой. Его глаза, словно вставленные в удивительно правильной формы продолговатый череп, в эти минуты приобретали какое-то озорное, мальчишеское выражение. Виктору Шкловскому все и всегда интересно. Приходя в дом, встречая человека, которого он видел совсем недавно, он неизменно и совершенно искренне-заинтересованно задает прежде всего один и тот же вопрос: «Ну, какие новости?» Вероятно, поэтому, глядя на его веселое и словно излучающее мысль лицо, невозможно поверить, что ему уже больше семидесяти лет. Да полноте! Он много моложе очень многих молодых! В Алма-Ате, кроме своих обычных литературоведческих работ, Виктор Борисович написал сценарий «Внимание! Танки!». К сожалению, он не был поставлен. По-видимому, для того времени была слишком сложна защищавшаяся в нем чисто военно-техническая концепция. И тому же, эта концепция, как и все у Шкловского, была плодом его самостоятельных размышлений и выходила из рамок господствовавшего тогда «осторожного» отношения к проблемам военной науки…
…Несмотря на то, что жизнь эвакуированных писателей, сценаристов, режиссеров никак не походила на «жизнь, вошедшую в обычную колею», большинство товарищей уже активно работали над сценариями, готовились к съемкам, часто выступали в печати.
А Гранберг заканчивал сценарий «Антоша Рыбкин», в 1942 году поставленный режиссером К. Юдиным. К. Симонов и А. Столпер работали над «Парнем из нашего города», И. Прут и И. Пырьев – над «Секретарем райкома», где ныне покойный Ванин замечательно сыграл заглавную роль.
Режиссер Н. Файнциммер кончал фильм «Котовский», по сценарию А. Каплера, который в это время: уже работал над сценарием «Она защищает Родину» (картина, поставленная режиссером Ф. Эрмлером, вышла на экраны уже в 1942 году). Всеволод Илларионович Пудовкин поставил картину «^Русские люди» по сценарию Константина Симонова; братья Васильевы – «Фронт».
Через год по сценарию того же Константина Симонова Александр Столпер поставил еще одну картину – «Жди меня».
Конечно, не все перечисленные фильмы снимались одновременно, но подготовка к съемкам шла активно – работа над сценариями, обсуждение режиссерских планов и предложений – все доказывало напряженность творческой жизни Объединенной студии.
Некоторое время после отъезда моего мужа на фронт я работала на киностудии. Потом перешла в радиокомитет.
…Прошло первое потрясение самым фактом войны, первая растерянность отступила, перед необходимостью как-то. стабилизовать тяжелый, бивуачный быт, и люди оказались перед постепенно осознаваемой перспективой длительности огромного всенародного несчастья, для многих уже обернувшимся непоправимым горем.
Стоило поглядеть на лица людей, мглистыми ранними утрами стоящих возле уличных репродукторов, пока возглашавших только одно: после длительных и упорных боев наши войска временно оставили город такой-то, такие-то населенные пункты…»
Многие из приехавших и тех, с кем мне довелось познакомиться уже в Алма-Ате, уезжали снова на фронт. Отправился в армию и мой муж. Поезд уходил поздно ночью. Провожая мужа, я все время судорожно улыбалась и шутила. А сердце славно попало в какое-то замкнутое, безвоздушное пространство и притаилось там, не двигаясь и не стуча, сжалось в чуждый: мне комок. С этим ощущением я прожила, всю войну, до самого того дня, когда муж демобилизовался и в конце 1945 года вернулся домой. Не плакать, не жаловаться, только ждать!
Поезд отошел, муж уже на ходу вскочил на площадку темного, ночного вагона; я осталась на длинной платформе совершенно одна.
Вот тогда я позволила себе заплакать. Прижалась к холодному, железному фонарному столбу лицом и плакала, плакала.
Внезапно услышала за спиною шаги. Почувствовала, как. чья-то тяжелая рука ласково похлопала меня по спине и кто-то произнес, немного коверкая слова;
– Не плачь, женщина! Все будет хорошо! Он вернется! Я тебе говорю – он вернется!
Повернула к говорившему зареванное лицо. Передо мной стоял пожилой казах-железнодорожник. Он смотрел на меня серьезно, седеющие висячие усы его чуть шевелились.
– Да, да, – повторил он, – вот увидишь – вернется…
И быстро пошел вдоль платформы.
Я никогда не забуду этого чужого человека.
Всю ночь я просидела на каком-то пыльном рундуке, ожидая утра, когда, можно будет пройти те девять километров, которые отделяли вокзал от города. Мне было тоскливо, одиноко и холодно. Конечно., я не суеверна. И когда– муж вернулся с ; войны, я просто снова с благодарностью вспомнила старика с широким, серьезным липом.
…Киностудия, – сценаристы, режиссеры, писатели, художники.
Пожалуй, ни одно время не вызвало такого потока, именно – потока интереснейших сценариев, которые в большей своей части были поставлены, и быстро распространились но экранам страны и во фронтовых частях.
В основном подготовка сценариев была сосредоточена в Сценарной студии. Там работали Блейнман, Большинцов, Каплер, Коварский, Юзовский, Зощенко, Исаев. Писали для этой студии сценарии Леонид Леонов, Константин Симонов, Виктор Шкловский, и, повторяю, большинство написанных сценариев превратилось в добротные картины. Ни один режиссер во время, войны ни дня не был в так называемом простое – все работали, снимали, либо активно готовились к съемкам. Регулярно выходили «Боевые киносборники» и далеко не на всех короткометражках этих сборников лежала печать торопливости. Конечно, многие вещи были только «времянками» и быстро забывались. Но есть такие, которые и сегодня представляют определенный интерес, как например, маленькая картина «Пир в Жермунке», поставленная Всеволодом Пудрвкиным по сценарию, написанного Леонидом Леоновым (первоначально сюжет был подсказан Н. Шпиковским).
Непревзойденным шедевром явился эйзенштейновский «Иван Грозный», поставленный там же, в Ала-Ате (1942–1944).
Конечно, время корректирует не только отношение к картине, но, как это ни печально, – и саму картину; и если мы сегодня вздумаем смотреть «Русские люди» или, скажем, «Парень из нашего города», они покажутся нам очень старомодными. Но «Секретарь райкома» или «Она защищает Родину» – живут по сей день. Нет, режиссеры, которые впоследствии ставили и более яркие и, будем честны, – более посредственные фильмы, тогда, в те военные годы, были не только моложе, но и искреннее, непосредственнее.
Чем же объясняется, что выходило так много картин, и картин неплохих? Только ли энтузиазмом их создателей?
Конечно, все советские люди были напряжены и внутренне мобилизованы – это было непосредственной, святой обязанностью каждого! Но всего этого было бы мало, если бы не было и кое-каких положительных организационных обстоятельств, вызванных. требованиями усложнившейся обстановки. А именно: резко сократилось количество «пропускающих» инстанций. Поясню: главк и его руководитель Михаил Ромм находился в Ташкенте; министр кинематографии Большаков осуществлял общее руководство всеми студиями и боевыми киногруппами, находясь в Москве; производство было сосредоточено в основном в Алма-Ате: – Объединенная студия («Мосфильм», «Ленфильм», «Казахфильм»). а также Сценарная студия, которая, как я уже говорила, поставляла в то время сценарии для производства. Правда, на Объединенной студии также существовал Сценарный отдел, но все же в большинстве своем картины, вышедшие в то время на экраны, были поставлены по сценариям, заказанным и осуществленным к недрах Сценарной студим. Причем, все без исключения сценарии обсуждались коллективно не только в момент их принятия или отклонения, но и в процессе работы, над ними (иногда уже написанные части), а бывало и так, что и планы того или иного ключевого эпизода, еще не написанного, а только лишь, задуманного.
Таким образом» в каждом законченном сценарии была хоть капля общей «творческой крови» и за каждый законченный сценарий все несли общую, коллективную ответственность!
Талант и профессиональный опыт режиссеров, писателей, сценаристов, операторов, художников еще до начала производства как бы сплавлялся в некий цельный сплав – основу будущей картины. Поэтому ответственный и нудный в наше время «процесс утверждения» из мучительной процедуры бесконечных «доделок и поправок» превращался в весьма деловой и кратковременный акт, помогавший рождению новых кинопроизведений…
… Время шло, война подступала все ближе даже к такой отдаленной точке страны, как столица Казахстана. Ее приближение чувствовалось не только по тревожным вестям с фронта, не только по увеличивающимся трудностям и недостаткам в быту, в жизни, в работе, но, главным образом, по настроению людей. Не было человека, у которого кто-нибудь из близких не был на фронте, близ фронта или, что еще страшнее, по-моему, – по ту сторону фронта. У вернувшегося без ноги молодого художника Ш. в Киеве осталась вся семья, одиннадцать человек – отец, мать, братья, жена и двое маленьких детей. Как выяснилось позже, все они погибли в один день в Бабьем Яру. У Марии Николаевны Смирновой восьмилетняя дочка «осталась под немцем». Сын Багрицкого, сын Шкловского, сын художника Бруни – эти юноши не вернулись с войны, не пришли домой, не дожили даже до своей возмужалости. Одно за другим приходили известия о погибших друзьях. Милые сердцу города пылали, уничтожаемые беспощадно и бессмысленно. Каждый час, каждую минуту думалось – если бы не дети, я была бы тоже там.!
Может быть, и тогда я инстинктивно понимала всю беспочвенность и наивность моих стремлений и поэтому никому о них не рассказывала.