Текст книги "Российский колокол № 2 (46) 2024"
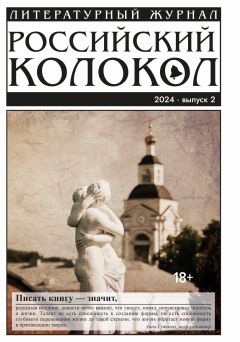
Автор книги: Литературно-художественный журнал
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Он поболтал почти пустой бутылкой. Зря не купил с тележки. «Ладно, в Н. будет остановка – сбегаю».
* * *
– Ой-ой! Держите его! Держите!
Женщина. Кричит истошно. Вон она, стоит на коленях у края платформы, с двух сторон на ней повисли дети, они тоже что-то кричат, но она – громче.
Никита обернулся на крик и побежал. Он не успел толком ничего рассмотреть. Как был – с рюкзаком и бутылкой в руке – прыгнул в яму. Там по путям метался пёсик, ошалевший от шума. Сюда шёл состав. Никита почувствовал, как разом взмокли спина и голова под шапкой, внутри всё стянуло в узел. Он бросил бутылку и ухватил поводок, змеившийся под ногами в свете прожекторов. Гул нарастал, заслоняя крики наверху. Подтянул собачонку за поводок и побежал к краю. Роста как раз хватило, чтобы передать царапающуюся и скулящую животину в протянутые суетливые руки. Он попытался подтянуться следом. Но уже знал, что весь не успеет. Ногу зацепило.
Боль накрыла, когда его уже вытащили: женщина, на чей крик он прибежал, резко замолчала, как будто подавилась воздухом, отпихнула детей и собаку в сторону и надсадным, отчаянным рывком вытянула его за плечи. Никита смотрел на окровавленный, содранный носок ботинка. Смотрел без сдавливающего грудь страха, с которым выходил на улицы Ецка после самого первого обстрела, а потом открывал новостные сводки: вдруг там… От него оторвало кусок. Скорее всего, палец или два. Кровь лилась. Пространство вокруг снова наполнилось криком: «Помогите! Помогите!»
Никита услышал топот ног по плитке. А в голове крутилась мысль: «Что она делала здесь, где платформа только начиналась, ведь посадка дальше? Выгуливала своего пёсика, водила в туалет детей?..»
Когда к нему подбежали двое в ярких путевых жилетках, он сумел хрипло выдавить: «Аптечку, аптечку. И жгут».
* * *
Скорая отвезла его в областную, в Терь.
Аня примчалась, как только смогла, растерянная, испуганная, но с решительной складкой между бровей.
Тётка тоже навещала, предложила остаться у неё после выписки. Никита отказался.
Маме он сообщать запретил. Врал ей, что камеру на телефоне повредил, общался голосовыми.
Сергей Павлович добился его перевода в столичный госпиталь. Там Никиту осмотрели и выписали. «Рана хорошая, регенерация тканей в норме».
Растерянный и уставший, Никита ждал с выписками на руках такси в холле, но когда за стеклянной дверью замаячила знакомая фигура в двубортном пальто с шарфом через плечо, он понял, что его судьба так просто не решится.
– Поедем в Буденко, – буркнул Сергей Павлович, пожимая руку и забирая у него рюкзак. – Пусть там смотрят и сразу подбирают протез и что там ещё… А то очереди такие, что…
– Нет. – Никита отвёл взгляд. – Не надо в Буденко. Это всего два пальца. Неудобно, но жить можно. Очереди ведь неспроста такие большие. Я приноровлюсь… Пусть подживёт, – добавил он, сдаваясь.
В Буденко Никита попал в марте. Когда регенерация тканей позволила приступить к следующему этапу. Он заметно хромал, но больше всего уставал именно стоять. Поэтому Аня ставила ему высокий барный стул на сцену. Аня… Она в очередной раз умело и безмолвно подставила плечо, но даже с ней Никита не мог говорить до конца о том, что болело и кровило внутри, даже когда снаружи зажило.
Восемь лет назад, убегая с мамой под обстрелами, он до жути боялся этого: что ему оторвёт руку или ногу. Или маме (при мысли об этом внутри всё перекручивалось и его начинало тошнить). Вот он и уехал. Чтобы не оторвало и чтобы не видеть, если… Струсил. Струсил тогда, но совершенно бездумно шагнул сейчас – через те женские крики к мечущейся собачонке. Не успел подумать. Тело само среагировало на крик – как пружина. А тогда, в Ецке, мыслей было очень много – голова лопалась. Он ничего не знал о транквилизаторах, он просто молчал, чтобы ещё больше не тревожить маму. Впрочем, она и так всё понимала, иначе бы не отправила его, не умолила уехать, отчаянно манипулируя: «Мне не жить, если с тобой что… Я ж себе не прощу-у-у». Мамины подвывания мешались в его голове с воем того пса, который приполз к ним во двор умирать. Он хотел жить. Он хотел весны. И свободы. И тишины неба. И чтобы мама тоже жила. Выторговал себе условие: они с бабушкой обязательно переедут в центр. Сам звонил по объявлениям о продаже, обмене… В центре тихо, там почти не прилетает…
А теперь обстреливают и центр. А маме надо в аптеку и магазин. И за водой. Бабушка лежит в коридоре на матрасе. Мама перешагивает через неё, придерживаясь рукой за стенку. А ночью ложится у неё в ногах, они переговариваются. Бабушка каждый день живёт заново. Детские годы помнит до мелочей, а прошлую неделю забывает. Принимает маму за свою мать. Мама смеётся: «Да, да, я уже выросла. Я уже мама, да».
Бабушка слышит гул, на глаза ей сыпется извёстка с потолка. Мама прикрывает ладонью глаза. Ругается. Потом промывает тихонько.
– Снова гудит. Слышишь? – жалуется бабушка.
– Это далеко, мама. Сегодня не к нам. Давай спать.
– А-а-а. Давай.
Никита отправлял им деньги, посылки, памперсы для бабушки (не всегда можно было в Ецке достать), крем, пелёнки… Каждую его попытку разговора о том, чтобы приехать, мама обрубала: «Нет! Вот помрём мы, делай что хошь. Лезь хоть в окопы, хоть куда… А я не хочу тебя хоронить! Не хочу! И не буду! И ждать тоже не хочу, когда ты вернёшься. Я хочу знать, что ты жив. И играешь. Никиша, вот для чего я тебя рожала. А не для всего этого…»
Она снова плакала, отворачивалась от экрана. И нажимала отбой.
А Никита брал скрипку и упражнялся до онемевших пальцев. Музыка снова помогала. А душа… Душа молчала. Не в силах ни проглотить, ни перемолоть эту боль.
В больнице он играть не мог. Наверно, поэтому ему уже дважды снился тот сон с чужой рукой, водящей смычком по скрипке на его плече. Сон-насмешка. Сон-упрёк. Всё невысказанное прорывалось вот так: снами, не словами.
На третью ночь он отправился бродить по коридорам и этажам. Так и встретил его. Парня с выбитым локтевым суставом.
Влад
Он курил в форточку в лестничном пролёте между вторым и третьим этажами. Где-то ниже (или выше – не разобрать) гулко лязгнула дверь лифта, задребезжали колёса каталки.
– Опять кого-то повезли, много экстренных сегодня.
Парень поёрзал на подоконнике, спустил одну ногу, кивком спросил: сядешь?
– Я не курю. – Никита качнул головой.
– А-а-а. – Он закинул ногу обратно на подоконник. – Бессонница? Или обезбол не помогает? У меня есть тут. – Зажал сигарету губами и полез правой рукой в карман, левая осталась безвольно лежать.
На нём были майка, треники и рубашка, накинутая на плечи. Больничный «прикид» большинства. Никита был одет иначе. Серый спортивный костюм, футер, швы наружу. Сергей Павлович передал. Неброский лоск столичного мажора. Очки и шапочка, часы на руке.
– Спасибо. Мне не нужен обезбол.
Никита поразился, как отрешённо-спокойно звучит его голос. Ведь внутри всё ёжилось и корёжилось. Рябило. Как вода на ветру.
– Ок. – Парень окинул его быстрым взглядом и неспешно продолжил курить. – Ты с чем тут?
– Пальцы на ноге оторвало… А ты?
– Сустав выбило. Осколком. – И он переложил безвольную, мягкую руку с колена на подоконник.
Никита заметил перевязь – обычный белый платок, треугольник. Мама повязывала такой же, когда он вывихнул запястье. А ему – наверно, медсестра… Никита шагнул к окну:
– Давно?
– В конце октября.
Они посмотрели друг другу в глаза. Совсем молодой парнишка, год-два как школу окончил. Никита мотнул головой – можно? – и взобрался на подоконник. От форточки тянуло ночной прохладой. Батарея внизу жарила. Рябь в груди улеглась, расправилась.
– Сколько тебе?
– Двадцать есть.
– Мне двадцать пять. Приехал сюда сразу после школы, сначала училище, потом консерва… Я играю. На скрипке. Жду вот места в оркестре. Когда уезжал, думал, что… что всё быстро закончится. И я вернусь и буду играть в Ецке. У меня там мама. И бабушка. До сих пор там…
Никита сидел сгорбившись, локтями упирался в колени, ладонями обхватил лоб. Парень молча курил. Потом сказал чуть хрипло, негромко:
– Мне некуда было ехать. Да и незачем. А быстро… быстро не кончится. Ты себе не ври больше. Не малёк уже. – Он приподнялся и выбил окурок щелчком в форточку. – Быстро не будет. И тихо – тоже. И стороной не пройдёт. Будет всё ближе и ближе, если вы до сих пор будете верить, что быстро кончится.
Никита молчал.
– Как тебе пальцы-то отрезало?
– Собаку вытаскивал с путей.
– Вытащил?
– Да.
– Ну красава! Мать-то как без тебя?
– Плачет. Просит не возвращаться. Хочет, чтобы жил.
– Так живи! – Он хохотнул негромко.
Никита снял очки, потёр лицо ладонями, рассмеялся:
– Совесть не даёт. Ты думаешь: «Вот мразь, мать оставил, а сам страда-а-ает теперь»?
Парень пожал плечами:
– Ну точно не герой. Но раз собаку вытащил, не сдрейфил, то и себя теперь тащи, не бросай. Бывай. – Он соскочил с подоконника. – Матвеевна идёт. Я её по каблукам узнаю. Увидит – всё курево изымет.
– Стой! Ты из какой палаты?
– Триста двенадцатой. – И он угрём просочился по ступеням вниз.
Матвеевна вывернула из-за угла. Светло-голубой костюм, бронзовый начёс. Никита надел очки, выпрямился, толкнул затылком форточку.
– Не спится, – развёл руками.
* * *
Аня принесла передачку и теперь стояла внизу, запрокинув голову. Не пустили. Очередной карантин в отделении. Тёмные волосы выбились из-под капюшона толстовки, она щурится: солнце бьёт ей в спину, отражается от окон.
Никита потянул створку – в палате открывались, а на лестнице забиты, только форточка эта… Взобрался на подоконник, сдёрнул шапку и, высунув руку, помахал ей. Увидела. Машет в ответ. Пятится по газону. Улыбается. Капюшон сползает, ветер взметает волосы, она пытается удержать их, смеётся. Никита машет сильнее и роняет шапку. Она летит чёрным смятым комком. Он дёрнулся было посмотреть куда, но форточка слишком узкая, не видно. Аня убегает, возвращается, разводит руками, кричит что-то. Никита взмахивает ладонью: ладно, мол, пускай. Растерянно трогает свою гладкую голову. Чувствует короткие волоски у шеи, затылка. Растут клочками. Едва-едва.
– Привет.
Оборачивается. Вчерашний ночной знакомец присел на ступеньки лестничного пролёта, вертит сигарету между пальцев.
– Привет. – Никита шагает к нему, протягивает руку. – Никита Хлебов.
Парень неуловимо быстро заправляет сигарету за ухо, встаёт, жмёт руку.
– Иванцов. – Улыбается широко, по-мальчишески. – Влад. Не Владислав – Владимир.
Шагает к подоконнику:
– Твоя девчонка? Я пролётом выше стоял, смотрел, как она окно ищет.
– Не девчонка, друг. – Никита прислоняется спиной к углу оконного проёма, смотрит, как Аня уходит. – Аня. Анит – по бабушке. Волонтёр и отважное сердце. Помогает в организации разных мероприятий: музыкальных, культурных, благотворительных. Так и познакомились.
Влад кивает, всё вертит сигарету в пальцах. Не закуривает. Левая рука лежит покойно в белом «уголке».
– Твоя ровесница, кстати. Хочешь номер дам?
У обоих в голубых глазах искорки.
– Давай. – Снова отправляет сигарету за ухо, достаёт телефон.
Никита диктует.
– Анит, говоришь… Записал.
Никита ёжится: из форточки тянет свежим мартовским воздухом по шее и голому затылку.
Влад прячет телефон в карман:
– Погоди. Я сейчас.
Убегает. Возвращается с чёрной банданой. Встряхивает её:
– Вот, держи.
– Спасибо.
– А то лысинку застудишь. – Влад смеётся и проводит рукой по ёжику своих отросших волос. – Тоже не люблю, когда голо.
Взгляд его становится серьёзным, он наконец закуривает, смотрит в окно. Никита завязывает потуже чёрный треугольник вокруг головы. Поправляет очки. Чувствует себя клоуном в новеньком модном костюме и этой чуть полинявшей бандане. Он вспоминает, что в палате есть футболка и брюки попроще, в которых он приехал.
– Спасибо, – повторяет он.
– Носи, брат. – Улыбается, выдыхает дым струйкой в форточку. – У тебя когда? – Кивает на ноги.
– Не знаю. Я тут уже неделю болтаюсь. Многие с очень сложными травмами, а тоже ждут. А я… Мне ж не спринт бежать, ходить могу.
– Может, и спринт побежишь. – Влад подмигивает добродушно.
– А ты когда?
– Завтра операция. Искусственный сустав. Говорят, смогу как раньше. Ну, почти.
– Вернёшься?
– Конечно.
– Напиши Ане.
– Я даже ей позвоню. – Окурок летит в форточку.
– Она не отвечает на незнакомые.
– Да? А вдруг ответит?
Никита качает головой:
– Напиши ей в «Телеграме». Скажи, что прикрыл мою лысинку. Тогда ответит.
– Ок.
У Влада светлые глаза. И ресницы светлые. Щетина на подбородке и над верхней губой. А взгляд лет на десять старше юного лица: два года на позициях. И восемь лет у Никиты в схватке с собственной совестью и тревогой.
Никита протягивает ладонь:
– Прощай, брат.
– Прощай. – Влад крепко сжимает его руку. – Может, и свидимся, когда домой приедешь.
Никита кивает. По лестнице мимо пробегает доктор, молоденькая, в светлом костюме, стучит каблучками, бросает быстрый взгляд, улыбается. В окно бьёт солнце – добралось и сюда, пятнает бетонный пол с мазками белой краски, стену, бликует на кнопке лифта.
Никита, прихрамывая, уходит. Влад достаёт ещё одну сигарету, зажимает её губами, прикуривает. Садится поудобнее, поправляет руку в белом треугольнике. Жмурится на солнце, потом, приподнявшись, рывком распахивает форточку пошире. Из неё доносятся далёкий шум шин по мокрому асфальту, плеск, писк светофоров и птичьи трели. Весна. Его двадцать первая.
Воля
Когда его выписали, совсем потеплело. Ветрено, по-мартовски, но тепло. Пыль и окурки закручиваются в мини-вихри у бордюров. Через серо-жёлтую траву пробивается зелень: у крышек люков, там, где теплотрасса.
Никита шёл, закинув рюкзак на плечо. Бандану повязал как платок на шею, на голове капюшон толстовки. Он никому не сказал о выписке. Ни Ане, ни Сергею Павловичу. Он хотел вернуться домой, взять скрипку в руки, а потом написать Ане, спросить, нужен ли где-нибудь скрипач, который играет просто так, чтобы люди не падали за край. А если уж полетят, то чтобы легко. Как перо из крыла на воду… Можно и прямо сейчас написать.
Аня перезвонила сразу:
– Нужен, Никита. Я в хоспис езжу. Там все нужны. И всем: и тем, кто уходит, и тем, кто рядом. Играй им, Никита. Под музыку легче, она примиряет с непоправимым. Я поговорю с главврачом.
– Тот парень…
– Влад?
Никита знает, что она улыбается, хоть и не видит её.
– Да.
– Завтра поеду к нему. Перевели в другой корпус, туда пускают.
– Купи ему сигареты. Марка на «в» вроде бы…
– Знаю, – смеётся. – Уже написал. А ты… кому-нибудь сообщил, что выписали?
– Нет. А что?
– Сергей Павлович уезжает.
– Когда? Куда?
– Кажется, в Норвегию. Он не сказал. – В голосе Ани сквозит смущение. – Он передал мне свои проекты. Благотворительные. На всякий случай, если у него не получится дистанционно курировать.
– Ясно. Скоро?
– На следующей неделе. Я думаю, он бы сам сказал, но он же не знал, что тебя выписали, и…
– Спасибо, Анют. Я позвоню ему. Владу привет.
* * *
Сергей Павлович жил на бульваре недалеко от Агриппины Ивановны. Никита отправился прямиком туда. Нога устала быстрее, чем он предполагал. Всё-таки по земле ходить – это не по коридорам больничным. Но он упрямо хромал. Пусть. Быстрее привыкнет.
В парадной перевёл дух. Постоял, навалившись грудью на перила. Потом присел на ступеньку. Вытер мокрый лоб. Выудил из рюкзака бутылку с водой. Два неспешных глотка. Боль отступает.
Сергей Павлович жил в старом доме сталинской постройки. Закруглённые выглаженные перила, ступени, стёртые в середине. Фикус на подоконнике, коробка с журналами, пара книг. Никита поднимался медленно. У двери долго смотрел на звонок. Он никогда не был здесь, хотя знал: вот дом, вот подъезд, номер квартиры знал. Сергей Павлович приглашал, но всегда находился повод отказаться. Вдавил чёрную кнопку в сероватый квадрат. Ему показалось, что прозвенело где-то далеко в недрах квартиры, а потом понял, что это сердце слишком гулко стучит: то ли от подъёма, то ли от волнения.
– Никита!
Сергей Павлович стоял на пороге. В домашнем халате (бархат, парча?). Барский наряд.
– Выписали? Проходи, дорогой! – Он посторонился. – Что ж ты… Сразу из больницы?
– Да, сразу.
Никита шагнул в полумрак прихожей, поставил рюкзак на пол. Сел на банкетку, откинулся к стене, увешанной пальто и шарфами. Мягко, пахнет дорогим парфюмом. Чем-то хвойным… Сергей Павлович щёлкнул было выключателем, но передумал. Свет, мигнув, погас.
– Переобувайся. Тапочки все там – в ящике под банкеткой. Если захочешь. Я чайник поставлю.
Никита кивнул. Его разморило в тепле и темноте. Но он всё же заставил себя двигаться, нашарил тапочки, вернее, мягкие домашние туфли. Пришлось сменить несколько пар, чтобы найти свой размер. Потом прошёл в ванную: планировка была знакомой. И выплыл наконец на кухню – на свет и терпкий запах свежезаваренного чая.
Никита устроился на угловом диванчике. Вытянул ноги: давай-давай, располагайся, отекает ещё сильно, можешь и не говорить – облокотился на стол. Сергей Павлович сидел на старом стуле с полукруглой выгнутой спинкой. Лампа под абажуром, бахромчатая скатерть на круглом столе. Хрустальные розетки: с орехами, вареньем, печеньем. Кружки только современные. Цилиндрической формы. Монохром. Графит с прожилками и золотой нитью по краю.
– Квартира старая. Бабушкина ещё. Я многое оставил, как было при ней. Только сантехнику пришлось сменить.
Никита кивнул: заметил. Блеск стали и кафеля. Пухлые полотенца, дозатор для мыла, аромапалочки и кристаллы соли в стакане.
– Вы уезжаете, – обронил он над кружкой с чаем.
– Да. Аня сказала?
– Ага.
– Надеюсь, вернусь. – Сергей Павлович кривовато улыбнулся. – Здесь мне сложно стало.
– Я тоже надеюсь. – Никита сделал осторожный глоток. Сергей Павлович не признавал полумер в напитках, чай и кофе в его компании всегда обжигали.
– Если что нужно будет – сразу пиши. Я не исчезну. Просто буду дальше, чем обычно.
– Да, – Никита протянул руку, взял грецкий орех из вазочки, – я знаю. Мама так же говорит.
– Давно созванивался?
– Вчера. По аудио.
– Так и не сказал ей?
– Не сказал. Она тоже… о многом молчит. Такая уж у нас семья. – Он раскрошил ядро пальцами. – Я не пойду в оркестр. Попробую другое дело. На жизнь халтурок хватит. А остальное… Не моё. Буду играть там, где хочу. Там, где слышат.
Сергей Павлович встал, обошёл стол и смёл ладонью крошки.
– Тебя слышали и раньше. Но я рад, что ты понял, чего хочешь. Это отлично.
– А вы?
– Я?
– Чего вы хотите?
Никита поднял голову и посмотрел на Сергея Павловича, на его такое непривычно усталое лицо. Тот негромко рассмеялся:
– Покоя. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Помнишь?
– Да. Там, куда бежите, будет воля?
– Не знаю. – Сергей Павлович пожал плечами. – Хотя бы покой. Здесь… разрывает на части. Мне нет места. Не нашлось. Не нашёл, – добавил он с усилием.
– Понимаю. – Никита отвёл взгляд. – Я тоже искал. Нашёл вроде бы.
– Ты изменился, дружок. – Сергей Павлович отошёл к окну, выудил из кармана гладкий футляр. – Покурю?
– Конечно.
Дым утекал в форточку. Солнце закатно-розовыми дорожками бежало по полу в коридор. Над чашками всё ещё поднимался пар.
– Всегда будут времена и люди несошедшиеся. Разминувшиеся. Моё время… даже не знаю, настанет ли. Я вырос в стране, которой больше нет. Я её любил. И сейчас люблю. Но мне было… чуждо. Почти всегда. Кроме детства. Понимаешь? Советское детство – очень простое, очень светлое, с бабушкой, родители – геологи, романтики, вечно по командировкам. А я – по концертам, спектаклям, библиотекам. Вырос вот тут, на Бульварном кольце. Юность… очень насыщенная – смыслами. Переосмыслением. Бурлило время, бурлила кровь. Было интересно наблюдать. Но… я не слишком вписывался и тогда. Научился мимикрировать. А потом сменилась эпоха. И пришла пустота. Пошлость, пошлость, яркий фасад вседозволенности, за которым бессмыслица. Фрики, дегенераты… Свобода. Получили ли мы её? Не думаю. Стали рабами других стереотипов, вложенных в ошалевшие головы. Свобода – это выбор. Возможность сделать его и отвечать за свой выбор. Ага, прямо как по учебнику. – Он махнул рукой. – Боимся выбирать. Хотим, чтобы за нас решили, как лучше жить. И вот одни идут в колонну под лозунгом «Пожёстче, так надёжнее, нам всем нужна твёрдая рука». А другие в… допустим, в «благословенную демократию». Шагают строем. И думают, что выбрали путь. Шаг влево, шаг вправо приравнивается к измене. Особенно сейчас. – Он повернулся и посмотрел на Никиту. – А ты как считаешь?
– Я… я не выбирал пока. Я только знаю, что мой дом там, в Ецке, я хочу туда вернуться. И я не хочу, чтобы люди судили друг друга сейчас, когда так сложно быть… человеком.
Сергей Павлович кивнул:
– Человеком быть непросто с тех пор, как Он шагнул с креста в вечность. Шагнул за всех – кающихся. Вот Он действительно показал путь…
– Вы верите, что так в самом деле было?
– Верю. Но это неважно – было, не было. Даже если придумали. Всё равно была начата дорога. Это был рубеж. Жизнь без покаяния, осознания – ничто. Без совести – пустышка. Муляж мнимой свободы. Никакой ответственности, даже перед собой. Только удовольствие и комфорт. Путь в никуда. Нет, я не говорю, что надо жить по струнке. Без ошибок, падений, проступков не узнаешь себя. Своё дно. Дело в том, что, узнав, не хотят подниматься. Не все даже понимают зачем. Зачем так напрягаться? Искать ответы. Стремиться к звёздам. Ведь всё уже дано. Вот тебе шаблончик жизни! Посмотри, как ладно скроен! Дом, машина, карьера, успех. – Сергей Павлович защёлкнул футляр и отошёл от окна. – Впрочем, невольник – не богомольник, как бабушка говорила. Это надо прожить, прочувствовать на своей шкуре, лишиться напрочь её!.. А шкуру-то у нас пуще всего теперь берегут. Не душу.
– Чудной вы! – вырвалось у Никиты.
Сергей Павлович рассмеялся, от души, откинув голову:
– Ты, верно, ждал другого разговора на прощание? А меня вот куда понесло…
Никита выпрямился:
– Я… я ничего не ждал. Не было ожиданий. Просто пришёл. С вами было легко разговаривать, обо всём.
– Да уж, со мной легко разговаривать, я вещаю за двоих.
Никита улыбнулся:
– Возвращайтесь. Когда здесь станет… спокойнее.
– Непременно. – Сергей Павлович тоже улыбнулся.
За улыбками у обоих скрывалось знание, что «непременно» значит «никогда». Норвегия и Ецк для них – совсем разные стороны.
– Пойдём в комнату, я кое-что отложил тебе.
Сергей Павлович протянул ему два малоформатных томика: Цветаеву и Окуджаву. Окуджава – совсем крошка, в соскальзывающей суперобложке с золотым тиснением.
– Мои вечные спутники. Неразменные. Пусть и твоими побудут. Они никогда не устареют. Открой. Любую. Посмотри, что выпадет.
Никита заложил палец на томике Цветаевой, примерно одна шестая от начала. Прочёл:
Москва! – Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придём.
Клеймо позорит плечи,
За голенищем нож.
Издалека-далече
Ты всё же позовёшь…
– Вот как! Пусть так и будет! До встречи, Никита. Береги себя.
– Вы тоже.
Они обнялись. Некрепко, вежливо, осторожно. Руку Сергей Павлович пожал куда сердечнее. Постоял на площадке, провожая. Улыбнулся ободряюще, отсалютовал ладонью. Никита спускался медленно. Тянул токающую ногу. В этом подъезде, наверно, много стариков живёт. И они так же спускаются, придерживаясь за перила. Кому-то помогают соцработники, кому-то – родственники. Раньше мама выводила бабушку во двор, на скамейку, за которой рос куст сирени, огромный. А в городе – розы и липы. Всё цветёт друг за другом. На газонах – георгины, крокусы и всякая степная мелочь. И стаи голубей. Были. Никита иногда смотрел фото нынешнего Ецка. Находил в аккаунтах корреспондентов и местных. Ецка разбитого. Летом зелень сгладит, затянет щербины. А зимой и ранней весной город гол. Зияет ранами. За фанерками и одеялами по вечерам не видно огней. Но жизнь есть. Она всегда есть. Правда, мама?
Ты хорошо это знаешь. Иначе бы ты не ставила лук в квадратики света на кухне, чтобы срезать первые жгучие стрелки в салат. Даже сейчас ты их ставишь. Особенно сейчас! Почему же ты так не хотела, чтобы я тоже узнал эту жизнь?! Беспокойную, острую, вопреки. Но я всё-таки узнал её. Хоть и с другой стороны. Я вернусь, мама. Поверь, когда твой страх догоняет тебя, то уже не так и страшно. Ты встречаешь его, как сотни раз до, во снах. Ты теряешь что-то в этой схватке, да. Пару пальцев, например. Но ты свободен в итоге. Свободен, мама! Разве не ради этого мы вошли в эту войну? Чтобы быть вольными. Выбирать. Чтобы снова узнать для чего. Как когда-то давно, на заре мира, двое выбрали знание и изгнание. А позже – на кресте – Он выбрал любовь. И прощение. Не смейся, мама, я не сошёл с ума, не плачь, обними меня. Твой хромой беспутный сын хочет домой. Играть сюиты. Вздрагивая, замирать, когда летит-гудит чья-то смерть, но играть! Это и значит жить.
Он вышел из подъезда. Дверь тяжело хлопнула за спиной. Через арку шумел бульвар, мелькали по тротуару посыльные с разноцветными коробами за спиной на смешных, жужжащих моторчиками мопедах, велосипедах ли… Никита закинул рюкзак на плечо, поправил капюшон и, прихрамывая, пошёл к метро. Он никогда так ясно не чувствовал своё тело, увечное, но живое, свою душу – расправляющуюся, как лепесток на свету. Наверно, Русалочка, танцевавшая на ножах, чувствовала то же. Есть боль, несущая свет. Две сестрицы за твоим плечом. Одна плачет, другая улыбается. Вяжут узелки на твоей жизни. Неповторимый узор. Мама, примешь меня таким? Со всей тревогой, что я принесу? Со всей заботой, что я постараюсь дать вам? Нам не убежать из-под снаряда, если осколки уже сидят внутри. Помнишь, как в сказке дьявол разбил зеркало? Он продолжает их бить – человеческими руками. Сеет страх, смуту, сомнения. Бесконечную ложь. От неё больше всего устаёшь. Но Герда отогрела Кая, и осколок растаял! Неужели мы не сумеем так же?
Когда разверзаются небеса, приходит время смотреть друг другу в глаза. Через слёзы. И даже если не сможем, если зажмуримся, то всё равно обнимем друг друга. И осколок растает.
Декабрь 2022 – апрель 2023 г.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































