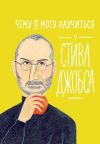Текст книги "Маленькая рыбка. История моей жизни"

Автор книги: Лиза Бреннан-Джобс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
По пути в машине мы слушали радио, и там говорили об истощении озонового слоя. В моем воображении он представлялся тюлевым покровом на самом верху неба, который прохудился, стал рваться, и без него мы все должны были сгореть от солнечного жара.
Дом Элленов, просторный, с темной кровлей, находился в исторической части Пало-Алто, где все было больше: и деревья, и участки. Внутри он казался огромным и пустым, со стенами цвета сухой земли, коробками по углам, грязными окнами, пылью. Во внутреннем дворе сиял бирюзовый прямоугольник бассейна, сам двор был скрыт от посторонних взглядов высоким забором из темного дерева – к моему облегчению. На бетонном краю бассейна и на разномастных стульях вокруг сидели голые бледные взрослые, разговаривали и периодически пробовали пальцами воду. Женщины заходили в бассейн медленно, держа ладони на поверхности воды, набираясь решимости, прежде чем полностью погрузиться.
– Ты наденешь купальник? – спросила я маму.
– Вообще-то не собиралась.
– Пожалуйста, надень. Пожалуйста.
– Не будь бабулей, Лиза. Странно будет, если я одна буду в купальнике.
– Пожалуйста, ради меня, – попросила я. Мне было спокойнее, когда ее тело было прикрыто.
– Ну хорошо, – ответила она. – Сделаю это для тебя, маленький консерватор.
Хиппи не обращали внимания, что по углам их дома копится пыль. Не меняли старую, темно-коричневую мебель. В разговоре тянули гласные, отчего те повисали между согласными, как мокрые простыни на веревке под собственной тяжестью. «Привеет», – говорили они. Они исповедовали свободу, но это была неправильная свобода. Скорее, бесцельное болтание. У меня не вызывало сомнений, что если мы станем слишком часто с ними общаться, то вся жизненная энергия, всякое стремление к свету, к чему-то лучшему – все то, что, я знала, есть у других людей, исчезнет, утонет, и мы увязнем в болоте. Мама легко поддавалась влиянию хиппи, потому что была одинока. Она охотно принимала их общество. Иногда ей хотелось ненадолго от меня отделиться, стать свободнее. У меня же от них были мурашки по коже. Когда она предлагала провести с ними время, я превращалась в зануду и старомодного блюстителя нравов – охранителя и тюремщика мамы.
Но большинство хиппи из числа наших знакомых были безобидными, даже жалкими. Иногда я расспрашивала ее о том парне, с которым она когда-то встречалась – всего два месяца – и который, похоже, выдвинул ультиматум: обещал порвать с ней, если она не отдаст меня на удочерение. Все хиппи были похожи, мне казалось: пустой взгляд, тягучие гласные, одежда унылых цветов, отсутствие нормальной работы. Постоянно напоминая о том бестолковом ухажере, я пыталась указать ей на ее явную неразборчивость.
Но чаще всего мы говорили совсем не о хиппи, а о том, что когда я была маленькой, мама сомневалась, нужна ли я ей; я чувствовала, что ее и тогда не оставляли фантазии о побеге – от меня, от жизни со мной, – поэтому стремилась пристыдить ее, заставить раскаяться.
– Он был ужасным, – говорила я, – этот твой хиппи. Я его ненавижу.
– Ненависть – сильное слово, Лиза. Не думаю, что ты его ненавидишь, – она задумалась, потом продолжила. – Хотя я слышала, что после меня он встречался с девушкой, у которой была собака – она ее обожала, – и заявил, что бросит ее, если она не избавится от нее. Ты представляешь? Он выбирал самое дорогое для другого человека и требовал порвать с этим, ради него. С ним явно не все в порядке, Лиза. Не стоит его за это ненавидеть.
Я ненавидела его все равно.
Ада Эллен была хрупкой, как фея, с хрипловатым заискивающим голосом, сияющей, медового цвета кожей, зелеными глазами и упругими золотыми кудряшками, окружавшими лицо. Ей было всего пять – почти на два года меньше, чем мне, – но она казалась не по годам развитой, наверное, потому что находилась на домашнем обучении. Мы обе были в купальниках.
Мы прыгнули в бассейн. Потом пошли в дом за полотенцами, лежавшими у здоровенной стиральной машины, – прочь от воды и компании взрослых.
– Тссс, – прошипела Ада и показала упаковку жвачки Juicy Fruit, которую она спрятала в полотенце. Было неясно, откуда она ее взяла. Нам обеим не разрешали есть сладкое.
Мы на цыпочках прошмыгнули мимо голых взрослых и стали пробираться по камням и колючей траве к кусту, за которым можно было спрятаться. Я шла так быстро, как только могла, выискивая пятачки голой земли между пучков сухой жесткой травы и острых камней. Листвы на кусте едва хватало, чтобы его можно было назвать укрытием. Мы развернули серебристую бумагу и сжевали сразу всю упаковку, забрасывая в рот один обсыпанный сладкой пудрой кусок за другим, будто это были карамельки. Комок жвачки во рту становился все больше – целая резиновая подушка цвета зубной эмали.
– Что это вы обе там делаете? – позвала мама.
Мы с Адой вышли из-за куста и, не прекращая жевать, встали перед голыми взрослыми – и моей мамой в купальнике. Из худой спины Ады выступали лопатки.
– Это что, жвачка? – спросила Энн, мать Ады. – Кто вам ее дал?
У нее была сливочно-желтая, как скисшее молоко, кожа. Груди, маленькие и плоские сверху, книзу собирались в мешки. Вокруг бедер был повязан домокрашеный цветистый платок.
– Жвачка обманывает ваш желудок: он думает, что вы едите, – продолжила Энн. – А если он ждет, что скоро в него упадет еда, он выделяет кислоту, чтобы переварить ее.
У меня заболел живот. Это меня не остановило.
Рядом с Энн сидела незнакомая женщина, ее бедра укрывало полотенце. Она произнесла:
– Кислота разъест ваши желудки.
Хиппи не слишком переживают из-за одежды, подумала я тогда, но с сахаром у них строго.
– Это правда, – сказала мне мама.
– Сюда, – сказала Энн, подставляя сложенную ладонь. – Выплевывайте.
Сначала выплюнула Ада, потом я.
– Идите чистить зубы. Обе.
Мы вошли в темноту дома и поднялись в ванную на втором этаже. Я воспользовалась зубной щеткой Ады. Она смотрела, как я чищу зубы – сначала с одной стороны, потом с другой, – и непроизвольно шевелила ртом, верхней губой, совсем как я, словно мое бледное отражение, словно она тоже чистила зубы.
Как-то раз после одного из таких визитов мама уехала, а я осталась поиграть с Адой.
– Иди за мной, – сказала Ада и проскользнула в пустую комнату, сразу против лестницы на второй этаж.
Посреди комнаты на полу лицом к двери сидела, скрестив ноги, Энн. Она была голая по пояс, цветистый платок покрывал ее бедра и ноги. Ее муж Мэтью, полностью одетый, стоял у противоположной стены спиной к нам, лицом к двум расположенным поблизости друг от друга окнам. Ада встала рядом с матерью, повернувшись ко мне.
– Ты пробовала сосать грудь? – спросила Ада напористым, жизнерадостным тоном, какого я никогда до этого не замечала – будто вся сцена была частью какого-то спектакля.
– Аде нравится, – отозвался с противоположной стороны комнаты Мэтью. – Ты тоже должна попробовать.
Я оглядела их всех, не шелохнувшись.
– Нет, спасибо, – ответила я.
– Это же здорово. Я все время это делаю, – сказала Ада все тем же приторным голосом, вспоминать который потом было неприятнее всего: как изменилась моя подружка, стала искусственной, механической, предала меня. Рука Энн лежала у нее на спине.
– Нет, спасибо, – повторила я, – не хочется.
Но я чувствовала, как в воздухе нарастает напряжение, точно перед грозой.
– Покажи ей, – велела Энн, и, к моему удивлению, Ада опустилась, положила голову на колени матери и стала сосать ее грудь.
Мэтью подошел ближе и остановился за спиной у Энн.
– Попробуй. Тебе понравится, – сказал он. – Разочек.
Ада перестала сосать и села на колени рядом с матерью.
– Обожаю, – сказала она. – Так здорово.
Тогда я поняла, что меня не выпустят, пока я не попробую грудь Энн. Хотя бы недолго. Это был унизительный момент, и я рада была, что меня никто не видит.
– Хорошо, – сказала я и скрючилась, положив голову Энн на колени, как до этого Ада.
Никакого молока не было; кожа была влажной, немного холоднее моего рта, безвкусной. И несоленой. Я не знала, когда уже можно перестать. Закончи я слишком быстро, возможно, меня заставили бы начать заново. Я закрыла глаза. Тысяча один, тысяча два, тысяча три, тысяча четыре, пять…
– Спасибо. Было здорово, – сказала я, поднимаясь.
– Эллены заставили меня сосать грудь Энн, – рассказала я маме несколько недель спустя. Долго не могла решиться. С тех пор мы уже бывали у них однажды, и я боялась, что если и дальше буду тянуть с признанием, в конце концов снова окажусь с ними наедине. Мы только что сели в машину и отъезжали от дома, направляясь куда-то.
– Сосать грудь?! – она застыла.
– Мне пришлось.
– Тебя заставили сосать грудь?!
– Они не давали мне уйти.
Я надеялась, что ей не будет стыдно за то, что я уступила.
– Что? – завопила она, заглушила мотор и побежала обратно в дом. Я вылезла из машины и встала, ожидая, возле куста. Следующие несколько дней я время от времени слышала, как она разговаривает с кем-то по телефону. Часто со слезами. Позже, через несколько лет, она рассказала, что звонила отцу, но он не воспринял ситуацию всерьез и посоветовал не сообщать в полицию. Мама звонила и другим людям. Ее реакция и телефонные звонки означали – так я решила, – что мне больше не придется оставаться с Элленами наедине. И действительно с того дня мы никогда с ними не виделись. Я испытала облегчение, хотя и беспокоилась об Аде. Рон, новый мамин бойфренд, сказал, что заявить в полицию все же стоит, что она и сделала.
♦
До Рона мама некоторое время встречалась с человеком, который создавал арт-объекты из палок.
Мне он не нравился. Скорее, впрочем, мне не нравилось то, как она трепетала перед ним, искрилась, порхала. Не нравилось, когда казалось, будто она сотворена из воздуха, а не из приятной тверди. Он держался отстраненно, говорил тихо, как если бы скрывал что-то, был застенчив, и из-за этого я считала его не до конца откровенным. Как-то вечером после ужина он отвел нас к своей машине и открыл багажник. В багажнике на покрывале лежала палка, обмотанная местами цветными нитями и веревками. В одном месте к ней был привязан кристалл, а в другом – перо.
– Вот что я делаю, – сказал он тихо.
– Как красиво, – сказала мама. Я надеялась, она притворяется.
– Это кристалл силы, – пояснил он. – А это орлиное перо я нашел на прогулке.
– Орлиное перо. Потрясающе, – сказала она.
– Но тебе же они не нравятся, правда? Палки? – спросила я, когда его не было поблизости.
– Нравятся, – ответила мама.
– Это просто палки. Он не настоящий художник, не как ты, – мне хотелось напомнить ей о ее таланте, о той умиротворенной женщине в вихре разлетевшихся бумаг.
– Мне кажется, это больше, чем просто палки, – ответила она. – То есть он их украшает. На это требуется время. Некоторые палки говорят с ним. Он слышит природу. Может быть, я сама попробую.
– Боже, – сказала я.
– Серьезно. Может быть, попробую.
– Мама, это палки. Палки.
– Ну, хорошо. Может быть, это и правда немного глупо, – согласилась она.
Она вернулась в себя.
* * *
Вечерами, несколько раз в неделю, мама работала официанткой в кафе-кондитерской и однажды взяла меня с собой. Она рассказала мне по секрету: хозяин кафе, он же кондитер, оформляя ассорти из пирожных на кухне в самом дальнем углу, слизывал с носика кондитерского мешка нитку глазури, чтобы она не тянулась через противень. Но когда я пришла навестить маму, я все равно заказала там пирожное. Обычно мне не разрешали сладкое, но пирожное было слишком вкусным. И слишком вкусным, чтобы бояться чужих микробов.
– Мир состоит в основном из пространства, а не из материи, – сказала мама несколько дней спустя, когда мы были дома. Она читала книгу по квантовой физике, и у нее разыгралось воображение. Она сказала, что атомы расположены так далеко друг от друга, что нет никакой разницы между пространством и материей, потому что материя состоит из пространства, и любое тело – диван, стол – только кажется телом – диваном, столом, – а на самом деле оно – пространство; тот, кто по-настоящему это осознает, может ходить сквозь стены.
Еще она сказала, что некоторые просвещенные, те, кому известна тайна мира, умеют просачиваться сквозь стены, словно стен не существует; они разбираются в квантовой физике, хотя бы и на подсознательном уровне, и знают об огромном, больше футбольного поля, пространстве, разделяющем атомы. Так сказала мама. Я никогда не видела футбольного поля. Эти просвещенные не подвержены нашим иллюзиям о разделенном пространстве, и поскольку они понимают, что плотность ложна и призрачна, им необязательно придерживаться законов физики. По ее словам, ходили рассказы о гуру, находившихся в двух местах одновременно и говоривших в одно и то же время с разными людьми.
Она рассказала мне об этом в гостиной. Я попыталась представить спальню за стеной и так твердо поверить в отсутствие материи, чтобы стена растворилась на моих глазах. На следующей день несколько восхитительных часов мне казалось – когда я подносила палец к носу, усиленно смотрела вдаль, и палец расплывался до полупрозрачности, – что я могу видеть сквозь палец. Я умела творить чудеса. Следующие на очереди – стены.
Линии жизни
♦
Когда я была во втором классе, по выходным мама проводила уроки живописи для меня и пяти других учеников. Она отвозила нас на местную ферму под названием «Потайная вилла», где мы рисовали с натуры.
– Один ремень безопасности на двоих, – сказала она.
Я сидела на переднем сиденье, притиснувшись к Мэри-Эллен, девочке с короткими волосами, ямочками на щеках и равномерным дыханием, которое я чувствовала спиной. Мама погрузила все наше снаряжение в багажник. У каждого художника был маленький складной мольберт, доска из оргалита, чтобы крепить бумагу, акварельные краски, угольные карандаши, ластик и небольшой отрез мягкой ткани.
– Что мы будем рисовать? – спросил Джо.
– Пока не знаю, – ответила она. – Что-нибудь да найдем, когда будем на месте.
Она была не похожа на других матерей, а мы с ней не походили на другие семьи. Я боялась, что во время занятий она выдаст нас, что всем станет ясно, какие мы странные.
За несколько дней до этого, заглянув в туалет, я застала ее забравшейся с ногами на унитаз: она сидела на корточках, джинсы спускались с ее торчащих колен, как занавес.
– Что ты делаешь? – в ужасе спросила я.
– Я научилась этому в Индии, – ответила она. – Это положение лучше. Закрой дверь.
Ферма находилась среди заросших лаврами холмов, вокруг тонких стволов лежали желтые полумесяцы опавших листьев, по обочине дороги бежала ярко-зеленая полоска клейтоний. Прозрачный, звенящий воздух был пропитан ароматом лавровых деревьев. Это был плоский треугольник земли, окруженный холмистой грядой; семья, владевшая им, нажила состояние на продаже асбеста. Мама рассказывала, что асбест – это теплоизолятор, который оказался ядовитым. На ферме я вспомнила о ее словах и подумала о том, какой чистый воздух вокруг, какое все зеленое, но причина всей этой красоты – производство яда.
Мы подхватили свое снаряжение и пошли вслед за мамой – в поле возле парковки, где росло одинокое деревце, покрытое шершавой корой. На ветвях еще держались редкие листья, у основания ствола торчали, как кошачьи усы, травинки, между их яркими стебельками виднелись комья земли.
– Здесь, – сказала мама.
Мы расставили мольберты полукругом. За деревом была изгородь, и сад, и амбар, и какие-то сараи, а за ними, в конце узкой долины, словно сморщенная кожа, поднимались складки холмов. Весь этот пейзаж: дерево, зеленую траву, синие холмы, пурпурные холмы, небо – слишком сложно было уместить на маленьком листе бумаги.
– Воткните ножки мольбертов поглубже, чтобы они не шатались, – наставила мама. Она обошла нас, поправляя мольберты, надавливая на них, чтобы те вошли в сухую землю, и ее естественная уверенность, непринужденность по отношению к окружающему миру, смелость речи, движений были новыми для меня и немного пугающими. Мы скотчем прикрепили бумагу к доске, и она встала перед нами с заостренной кисточкой в руке, подняв вторую руку с выпрямленной ладонью, изображающей лист бумаги.
– Перед тем как мы начнем, я хочу научить вас пользоваться кистью, – сказала она. – Не надо давить ею, вот так, – она ткнула кисточкой в ладонь, отчего та распласталась, как швабра. – Ведите ею по бумаге в одном направлении, не против щетинок, а вместе с ними.
Я уже давным-давно умела пользоваться кистью, поэтому злилась оттого, что меня инструктируют наравне с остальными.
Мы приступили к рисованию. Сначала коричневыми четырехгранными карандашами Конте, которые сами были похожи на ветки. Поверх рисунка мы должны были нанести краски, чтобы добавить цвета.
– Рисуйте не то дерево, которое, как вам кажется, вы видите, – сказала мама. – Рисуйте дерево. Доверьтесь своему глазу.
Я не понимала, где на моем листе должно начинаться дерево, как оно должно пробиться к небу сквозь холмы, возвышающиеся на заднем плане. Внимательно присмотревшись к пейзажу, я заметила, что трава на земле занимает почти столько же места, сколько холмы. И испугалась, что дерево у меня получится лишь точкой в центре ничем не занятого белого пространства, которое вызывало у мамы отторжение.
– Первый штрих требует смелости, – сказала она, мельком взглянув на мой пустой лист. – И запомните: в природе не бывает прямых линий.
Я сделала несколько прямых штрихов.
– Лужа на земле может быть интереснее рисунка, – сказала она. Я и раньше слышала от нее эту фразу: так говорил кто-то из ее преподавателей в муниципальном двухгодичном колледже. Когда мы с ней рисовали вместе, она не разрешала мне пользоваться черной краской из набора, настаивая, что черный – это не цвет и что если я присмотрюсь повнимательнее, то замечу другие оттенки. Еще она не верила, что персонажи в книге или фильме делятся на хороших и плохих, и сердилась, когда я их так называла. Мне же и такие эпитеты, и черный цвет давали облегчение, казались удобным уступом, где можно наконец передохнуть.
Пока мы работали, мама ходила между нами, помогала одному затереть неправильно нарисованную деталь, другому – изобразить то место, где из ствола вырастала ветка.
– Не возражаешь? – спросила она у Мэри-Эллен, обращаясь к ней, как ко взрослой, прежде чем взять у той карандаш.
– Я хочу, чтобы вы попытались ухватить дух дерева, – сказала мама. – Не только его внешний вид, но и жизненную силу внутри.
Меня удивило, что ее слова ни у кого не вызвали насмешливой улыбки, наоборот, все рисовали сосредоточенно, чего не получалось у меня. И если поначалу я боялась, что остальные будут ассоциировать меня с мамой, то теперь мне хотелось, чтобы во мне видели ее дочь, близкого ей человека, владеющего знанием, недоступным для остальных. Мне казалось, она говорит на непонятном никому, кроме меня, языке, и мне было неловко понимать его, хотя остальные ученики слушали так, будто тоже понимали, и им совсем не было неловко.
Сложно было видеть дерево таким, каким оно выглядело в действительности. Как для правши писать левой рукой. Глаза и пальцы обманывал привычный образ дерева, поэтому, когда я что-то подмечала, мне приходилось рисовать это очень быстро, чтобы успеть до того, как увиденное снова трансформируется в образ.
– Закройте один глаз, это помогает, – сказала мама. Я попробовала, и мир стал плоским. А потом случилось нечто неожиданное: ветка, которую я рисовала, больше не торчала. Теперь это была не ветка, а силуэт, сотканный из света, среди других сотканных из света силуэтов. Меня охватил трепет. Дерево было всего лишь силуэтом, никак не связанным с ветками. Я быстро зарисовала его таким, каким оно выглядело, не таким, каким было.
На этом я закончила. Всего на мгновение я увидела дерево. Этого было достаточно.
Мы взялись за акварели, стали наносить на рисунок цвет.
– Деревьям нужен солнечный свет, вода, питательные вещества, – сказала мама. – Но если их слишком много, в избытке, они чахнут. Борьба делает их сильнее, а их плоды – слаще.
Она неоднократно повторяла эту фразу в течение многих лет, и в какой-то момент я поняла, что это метафора.
– Постарайтесь увидеть цвета такими, какие они есть, а не такими, какими должны быть, – произнесла она.
Однажды она показала мне, что апельсин в чашке может казаться голубым, когда отражает небо, или фиолетовым в тени, или белым под ярким солнцем. Когда такое происходит, это всегда вызывает удивление, сказала она, и ты понимаешь, что это по-настоящему.
Не существует цвета безотносительно других цветов. Даже тон бумаги играет роль. Все имеет значение не только само по себе, но и относительно всего остального. Должно быть, в какой-то момент она коснулась лица, чтобы откинуть прядь, и, взглянув на нее, я увидела на переносице коричневое пятно.
– Мам, – сказала я. – У тебя краска на носу.
– Это не важно, Лиза, – ответила она.
Перед приездом родителей она обошла нас, делая замечания по поводу наших рисунков. Она назвала это «критикой».
– Мне нравится композиция, – сказала она об одном рисунке.
– Тонко, изящно, – сказала она о другом.
Особенное впечатление на нее произвел рисунок Джо.
– Вот эта часть, – сказала она, указывая на холмы, – превосходна. Браво!
У меня она похвалила изгибы ветвей и ствола, но назвала рисунок незавершенным. Сказала, что я закончила слишком быстро, нетерпеливо делала штрихи и накладывала краски, будто это был урок рисования на скорость.
♦
– Завтра должен приехать Стив и привезти кровать.
Она назвала его по имени, как будто мы с ним были хорошо знакомы. Он уже дважды обещал привезти кровать, но в назначенное время не являлся. В гостиной была отгорожена занавесками ниша со слуховым окном под потолком. Там на полу лежал матрас, который служил мне постелью, когда я спала отдельно от мамы, и который должна была сменить кровать. Нам даже позвонила его девушка, с которой мы никогда не встречались, извинилась и пообещала, что на этот раз он приедет.
Стив. Я так мало о нем знала. Он был как скульптуры Микеланджело – мужчины, застывшие в камне, местами гладком, местами необработанном, что вызывало в воображении те их части, что еще не явились миру.
– Он не приехал в прошлый раз, – сказала я. Мы прождали час. Может быть, он не знал, какую кровать купить, а может, не знал, как найти наш дом. Возможно, мама сказала ему неправильное время.
– В этот раз он обещал приехать, – ответила она. – Посмотрим.
Сначала мы ждали дома, потом вышли на улицу, на асфальтовый пятачок, и стали смотреть на дорогу. Меня так взбудоражил его приезд, что я надела нарядное платье, которое мне подарил альпинист, и в животе у меня порхали бабочки. Мимо проезжали машины. Внутри каждой из них мог оказаться он. Мы ждали.
– Похоже, он не приедет, – наконец сказала мама. Мы вернулись в дом. Я чувствовала себя опустошенной. День, предвещавший нечто новое, увлекательное, экстраординарное и загадочное, оказался скучным днем, похожим на все остальные. Мы снова были только вдвоем, и нам нечем было заняться.
– Поехали кататься на роликах?
Когда мы с мамой катались на роликах, любимым нашим занятием было искать новый, мягкий асфальт. Когда идешь пешком, никогда не обратишь внимания на швы на мостовой, но когда катишься по дороге на роликовых коньках, всегда чувствуешь разницу между свежим и бывалым покрытием. Мы говорили, что мягкий асфальт, «как масло». Катиться по такому после жесткого, бугристого асфальта, на самых неровных участках которого вибрировали бедра и коленки, тряслись щеки и даже глаза, было все равно, что парить в воздухе.
Одну такую дорожку мы нашли рядом с парковкой на Оак-Гроув, где мы когда-то жили. Нашу старую однокомнатную квартирку снесли вместе с домом, к которому она была пристроена, и на их месте возвели здание банка «Комерика» с коричневой кровлей.
– Где-то там, в земле под банком, закопана твоя пуповина, – сказала мама, когда мы проезжали мимо. Это меня взволновало: другие матери наверняка не закапывали пуповины во дворе.
Мягкий асфальт был перед офисным зданием в псевдо-палладианском стиле с двумя галереями, дугой спускающимися над альпийскими горками ко входной двери из тонированного стекла. На подъездных дорожках, обрамленных изогнутой железной оградой, асфальт был как шелковый. Мы катались по кругу, сначала вверх по одной дорожке, потом вниз по другой, снова и снова. Мама все время поглядывала на меня, а я делала вид, что не замечаю.
– Знаешь, ты именно та дочка, какую мне хотелось, – сказала она. – Точь-в-точь. На ферме, где ты родилась, жила с мамой маленькая девочка, ей было три или четыре года. Телец по знаку, маленькая, но рассудительная и смышленая. Я подумала, что хочу такую же.
– Знаю, – ответила я. Она мне уже об этом рассказывала. («Я не просто люблю тебя, – часто говорила она. – Ты мне нравишься».) – И он назвал компьютер в честь меня?
– Потом он притворился, что нет, – и она заново поведала мне историю о том, как они вместе выбрали мне имя в поле, как он забраковал все ее предложения, кроме последнего – Лизы.
– Он любит тебя, – уверила она. – Но не знает о том, что любит.
Это было сложно осмыслить.
– Если бы он увидел тебя, по-настоящему увидел и понял, что упускает, когда не приезжает к тебе, это бы его убило. Это было бы вот так, – она остановилась, вцепилась в ограду, схватилась за сердце и, изобразив отчаяние на лице, сгорбилась, как будто сейчас упадет и умрет.
Я попыталась представить, что именно он упускает. Ничего не пришло на ум.
Впоследствии мне рассказали, что отец носил в бумажнике мою фотографию. За ужином с друзьями он вынимал ее, показывал присутствовавшим и говорил:
– Это не мой ребенок. Но у нее нет отца, поэтому я стараюсь заботиться о ней.
– Ему же хуже, – сказала мама, когда мы покатили домой. – Он столько теряет, столько… Однажды он это поймет. Он вернется к нам, и его сердце разобьется, когда он увидит тебя, увидит, как ты на него похожа и сколько он упустил.
Я чувствовала, что это как раз подходящий момент, чтобы выпросить себе котенка.
Местный офис общества защиты животных находился в здании казенного вида на краю заповедника «Бейлендс».
– Там слишком много котят, – сказала мама на пути туда, в то время как я старалась сдерживать восторг. – Если им не найдут хозяев, придется их усыпить.
Основное помещение было просторным, с каменным полом и балками под высоким потолком, о который ударялось эхо. Животные находились в соседней комнате, за дверью. Женщина за стойкой, одетая в форму цвета хаки с ремнем и множеством карманов, вытащила папку с бумагами и спросила, где мы живем и как долго.
– Дом в Менло-Парке, – ответила мама. – Уже несколько месяцев.
– А до этого? – спросила женщина.
– Два месяца у друзей, – ответила мама ровным голосом. – А до этого в другом месте четыре месяца.
С лица женщины, все это записывавшей, сошла улыбка. Я пожалела, что мама не соврала и не опустила подробности о некоторых из наших переездов, чтобы выставить нас в лучшем свете; до того как она начала их перечислять, я и не думала, что об этом нужно помалкивать. На ум закралось подозрение, что хотя мама и согласилась приехать сюда, чтобы выбрать питомца, она все еще сомневалась, а потому рассказывала все, как есть, не пытаясь сгладить дурное впечатление. А может быть, она была неисправимо честной. Или же четкость обзора с высоты птичьего полета, которая открылась ей, когда она отвечала на вопросы той женщины, приносила удовлетворение, и повествование в этом духе стало интересовать ее больше возможности заполучить кота. Сложный ландшафт нашей жизни развернулся перед ней: если смотреть свысока, он был только простым рисунком.
– У нас есть небольшой участок, – вставила я.
Женщина обратилась к маме:
– Думаете, вы сможете обеспечивать животному надлежащий уход, учитывая частую смену обстановки?
– Думаю, да, – ответила мама. – Мы теперь немного укоренились.
Женщина выпрямилась.
– Боюсь, что в данный момент мы не сможем отдать вам котенка.
Я не ожидала такой категоричности. Нам даже не показали животных. Мы с мамой молча вышли из здания на едкий, соленый воздух «Бейлендса», потрясенные и усталые.
Несколько дней спустя мы заехали в зоомагазин, и мама купила мне двух белых мышей и аквариум из стекла, самый дорогой, что у них был.
В какой-то момент кровать прибыла без отца. Это была кровать-чердак из множества красных металлических трубок, которые, закручиваясь, переходили одна в другую, что делало конструкцию похожей на городок для игр. Мама собрала ее и распрямила коробки, в которых ее доставили. К кровати был прикреплен такой же трубкой белый столик из ДСП и похожая белая полка над ним. Я залезала по лесенке на самый верх, под мансардное окно. Это была моя первая кровать и первый подарок от отца.
♦
Дебби, старшая сестра маминого бывшего бойфренда-альпиниста, стала брать меня на прогулки: в парк, зоопарк, по магазинам. Она давала уроки английского для иностранцев, работала продавщицей косметики в сетевом универмаге «Мэйсиз» в центре Сан-Франциско и убиралась в доме холостяка в соседнем городишке под названием Атертон. Как и маме, Дебби было под тридцать, но у нее не было детей. Она предложила брать меня на прогулки, вдохновившись примером девушки, которая когда-то, когда Дебби была маленькой и в семье возникли трудности, проявила к ней интерес, научила пользоваться косметикой, духами и аксессуарами.
В назначенный день мы с мамой ждали ее у дороги. Когда она вышла из машины, на ней были светло-розовые джинсы, белые босоножки на высоком каблуке и красный топ с оборками. Многочисленные пластиковые браслеты клацали при каждом движении, крупные серьги-кольца покачивались над легким узорчатым шарфом. Она напоминала тропическую птицу в мире, где царили оттенки коричневого.
Она водила красный «Форд Фиеста» с механической коробкой передач и излучала блаженный оптимизм, казавшийся ее особым призванием, светом, в лучах которого все остальное становилось несущественным. Она ввела меня в хорошую жизнь. Ее окружала парфюмерная дымка – аромат апельсинового цвета и запахи косметики, которой она пользовалась. У нее были короткие, тщательно уложенные волосы; их цвет и форма прически наводили на мысль о волнах, мягко разбивавшихся о ее голову, и я удивилась, когда, потрогав их, ощутила корочку.
– Лак для волос, – пояснила она.
Я надеялась, что, когда стану старше, тоже смогу пользоваться лаком.
Когда мы ехали в «Мэйсиз», зоопарк, городской бассейн под открытым небом, к ней домой и обратно по шоссе 280, или Эль-Камино, или Аламеде-де-лас-Пульгас, она говорила о том, что хорошо бы отыскать путь в небо, дорогу, бегущую, по ее словам, высоко над нами, в облаках.
– Если бы только мы могли его найти, – говорила она. – Где-то должен быть поворот на него.