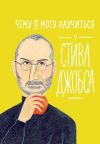Текст книги "Маленькая рыбка. История моей жизни"

Автор книги: Лиза Бреннан-Джобс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И мы обе высматривали этот съезд, хотя я не имела ни малейшего представления, как он должен выглядеть.
– Черт, – наконец говорила она. – Наверное, я его пропустила. Иногда его закрывают. В следующий раз.
Годом ранее Дебби жила в одной семье в Италии, в доме на побережье Адриатического моря, и подумывала остаться там навсегда, но за ней прилетела ее мать и вернула восвояси. И теперь она делала первые сложные шаги, чтобы обустроить свою жизнь. Но я в то время об этом не знала, и она казалась мне ничем не обремененной, чуждой взрослой серьезности, восхитительной, неотмирной, словно путь в небеса.
Всю неделю я с нетерпением ждала наших прогулок, заранее выбирала наряд, не надевала его и держала отдельно от остальных вещей, чтобы к назначенному дню одежда была чистой. Я влюбилась в Дебби, как иногда влюбляются девочки в женщин, которые не приходятся им матерью. Когда я была с ней, я больше всего нравилась себе. Дебби с ее воздушным голосом, непривычным взглядом на жизнь, мелодичным перестуком браслетов, мятежным, полным жизненной силы вихрем цвета и формы в одежде была полной противоположностью моей матери, все глубже погружавшейся в депрессию.
– Вот так всегда и должно быть, – сказала мама, посмотрев передачу о китах и узнав, что они с самого рождения умеют держаться на воде, плавать, нырять. Никаких подгузников, никакого отказа от жизни в пользу сидения с ребенком, никакой притупляющей разум рутины.
С тех пор как мама рассталась с художником, собиравшим палки, ей ничего особенно не хотелось, да мы ничего особенно и не могли себе позволить. Она готовила еду – бурый рис, овощи, тофу, – которая ни у одной из нас не вызывала аппетита, и подолгу, с полудня до самого вечера сидела в своей комнате при выключенном свете, гадала на китайской Книге перемен. Полумрак пугал меня, потому что в очередной раз заявлял о нашей непохожести, о том, что для нас не существует формальностей и границ.
Как-то раз, почувствовав себя лучше, она сказала, что мы поедем в Музей современного искусства Сан-Франциско, а по дороге заглянем в банк. В музее мы пройдемся по галереям, оглядим зал с огромными смешными скульптурами Класа Олденбурга, я посижу на скамейке или сделаю стойку на голове, пока она разглядывает экспонаты или пока шепотом рассказывает мне на ухо о художниках, и под конец мы перекусим в кафе.
– Давай не будем останавливаться у банкомата, – попросила я. – Пожалуйста.
Но мы все равно остановились на выезде из города. Денег он не выдал, только бумажку. Мама схватила ее, отошла на пару шагов, остановилась посреди тротуара, чтобы лучше рассмотреть. На ней не было лица. Мы поехали домой. Она не отвечала на мои вопросы, попросила помолчать и до конца дня не выходила из комнаты.
– Иди поиграй, – сказала она. – Все в порядке. Дай мне побыть одной, милая.
Рисовать, выбирать одежду, ухаживать за мышами в аквариуме – любое обыденное занятие казалось рискованным, будто я находилась в маленькой лодке посреди бушующего моря. Стоит на секунду оставить ее без внимания, и она перевернется в тот момент, когда этого не ожидаешь.
На следующей неделе мы с Дебби поехали в дом на Хобарт-стрит в Менло-Парке, где она жила с родителями. Ее мать – полная блондинка в фартуке, кожа на лице и руках похожа на пергаментную бумагу, – сидела за кухонным столом и вырезала прямоугольники из пестрой газетной страницы. Ножницы издавали приятный скрежет.
Я спросила ее, что она вырезает.
– Купоны, – ответила она. – Я отнесу их в магазин и получу скидку.
Каждый прямоугольник она клала в специальную секцию в пластиковой коробке.
В комоде Дебби было секретное отделение. Ящичек внутри ящика.
– Никто в семье об этом не знает, – прошептала она, склонившись к моему лицу. Это была шкатулка с украшениями, а в шкатулке – кулон, его тонкая цепочка совсем перепуталась.
– Может, у тебя получится распутать своими маленькими пальчиками, – сказала она. – Если распутаешь, можешь забрать себе.
Я села на ее кровать и стала потихоньку расплетать каждый узел, пока цепочка не приобрела привычный вид.
– У тебя есть муж? – спросила я, когда она застегивала ее у меня на шее.
– Пока нет, – ответила она. – Но будет. Однажды я буду прогуливаться по улице, и тут – бамс! – он свернет из-за угла!
Когда мы вернулись, мама была в одежде, в какой обычно рисовала.
– Смотрите, – сказала она, махнув рукой на почти законченную картину. Дебби подошла ближе, чтобы рассмотреть.
– Потрясающе, – сказала она. – Никогда не видела картины прекраснее.
(Позже Дебби сказала мне, что всегда удивлялась, почему мы бедны, если у мамы такой талант. По ее мнению, мама могла хотя бы продавать свои произведения на улице. Но ее творчество не приносило нам денег, у нее лишь иногда заказывали иллюстрации.)
Мы сели за стол, я – у Дебби на коленях. В какой-то момент во время разговора я подняла глаза и сказала:
– У тебя белые зубы. А у мамы желтые.
Мама поерзала на стуле: она часто жаловалась на состояние зубов.
– Дебби понятия не имеет, – сказала мама, после того как Дебби ушла. – Она поверхностная и судит обо всех и вся, а сама и понятия никакого не имеет.
Дебби действительно ее осуждала: пока сидела у нас, она заметила грязную посуду в раковине и пятно на стене – должно быть, прежние жильцы пролили выпивку. С течением времени это место потемнело, будто на него легла вечная тень. Дебби заметила это и наморщила нос.
– Заявляется сюда и увозит тебя, – продолжала мама, – ты прелесть, а меня она осуждает. Хотя это благодаря мне, моим усилиям ты такая замечательная.
– Мне она нравится, – сказала я.
– Знаешь, она тоже не идеальна. И она не все время счастлива. Она поверхностная.
– Тебе нужно вырезать купоны, – сказала я.
– Ни за что, – ответила она. – Я не такая. И не хочу такой становиться, никогда.
С того дня мама больше не ждала со мной приезда Дебби – утром выходного дня, на заасфальтированном круге у гаража.
♦
Как-то в выходные родители моей школьной подружки Даниэлы повели нас с ней на концерт. На мне были белые толстые шерстяные колготки. В середине представления мне захотелось в туалет, но выйти было нельзя. Я сопротивлялась, сколько могла, но наконец, не в силах больше держаться, надула в штаны. (К моему облегчению, когда зажегся свет, по ним было незаметно, что они мокрые.)
Во время антракта я попыталась спустить колготки в унитаз. Они намокли, распухли, скрутились и застряли в сливе. Когда я вышла из кабинки, очередь в туалет растянулась и начиналась уже в коридоре. Следующая по очереди женщина направилась прямо к кабинке, из которой я вышла.
– Возможно, вам стоит воспользоваться другой, – сказала я ей, тщательно артикулируя, как будто мы были заговорщиками. – Там в унитазе детские колготки.
Женщина бросила на меня удивленный взгляд, и я поняла, что выдала себя, только когда покинула уборную.
После концерта мама отвела нас с Даниэлой в пиццерию «Эпплвуд», и возвращаясь к машине, мы с подружкой по очереди крутили маминой холщовой сумкой на длинной ручке, чертя над тротуаром размашистые круги. Была очередь Даниэлы. Мама носила в сумке ножик, нужный ей для художественных проектов, и он, должно быть, провалился на самое дно, потерял чехол и проткнул ткань. Нож прошел повыше моего запястья и оставил глубокий порез. Позже он превратился в вертикальный шрам в форме буквы «I» длиной в пару сантиметров; он был не лишен привлекательности, и я к нему привыкла. Поначалу Даниэла чувствовала себя настолько виноватой, что едва могла смотреть на мою руку. Но годы спустя она стала показывать на него и восклицать: «Я оставила на тебе свою подпись!» Будто я была ее произведением.
Иногда мама мимоходом рассказывала о том, что делала или не делала ее мать, Вирджиния: не брала ее в кафе за тортом, не вступалась за нее в школе, не приносила перекусить в постель, когда ей хотелось есть, – в общем, все рассказы сводились к тому, что ее мать не баловала ее тем, что в собственном детстве мне нравилось больше всего.
– Когда я была маленькой, – рассказывала мама, – она заметила у меня талант к рисованию, пошла и купила моей сестре Линде мольберт и большой набор красок. А потом запретила мне к ним прикасаться.
Мне хотелось больше таких историй, историй о жестокости Вирджинии, но в основном она рассказывала о том, что ее мать великолепно готовила, развешивала по кухне толстую, нарезанную вручную лапшу сушиться, как носки, и покупала только пуховые одеяла еще до того, как их стали использовать все. Однажды зимой, в день, когда шел снег, Вирджиния выглянула в окно, увидела двух ярко-красных кардиналов на ветке, решила купить себе красные туфли – и купила. Через Вирджинию мы были связаны родством с покойным Бранчем Рики, братом ее деда и руководителем бейсбольного клуба «Бруклин Доджерс», человеком, который помог Джеки Робинсону попасть в Главную лигу бейсбола. Мама дала понять, как важно защищать Вирджинию, еще до того как я узнала, от чего мы ее защищали.
– Первое мое воспоминание: я младенцем лежу в кроватке, оглядываюсь и замечаю, какая жалкая у меня комната, – рассказывала она. – Как будто явилась из места, где было гораздо лучше.
В ее рассказах о детстве она представала порой беззащитной, а порой очень сильной. Суровой зимой в Огайо ее заставляли ходить в школу в юбках и тонком пальто; ей хватило предприимчивости и воли, чтобы собрать фишки из коробок с хлопьями, обменять их на бинокль и после бродить в одиночестве на рассвете, наблюдая за птицами. Теперь ей хотелось чего-то лучшего, чем то, что ей когда-либо довелось испытать, чего-то изысканного, что она могла представить, но никогда не видела и не пробовала, – для нас обеих.
♦
Мы с мамой отправились на прогулку среди заросших холмов заповедника к семинарии Мэрикнолл, где жили отошедшие от дел священники-миссионеры. Мы шли по широкой грунтовой дороге. Воздух вобрал запахи трав и крапивы, напоминавшие о благовониях и банном мыле. Громко стрекотали насекомые и вдруг резко умолкали, все сразу, будто падало давление, и воцарялась тишина, пустота в воздухе, а потом снова, постепенно нарастая, поднимался стрекот. Стояла змеиная погода. В такую змеи выползают на дороги понежиться на солнце.
– В Индии я видела детеныша кобры, – сказала мама. – Он поднялся и раздул капюшон, перегородив дорогу, – она изобразила гортанное шипение. – Они хуже всего. Они еще не знают своей силы, выпускают весь яд сразу.
Слушая мамины истории, я не представляла ее. Я видела все происходящее ее глазами, как будто это я была в Индии с детенышем кобры.
На склоне холма над нами рос зеленый кактус с ярко-красным плодом.
– Опунция, – сказала мама. – Мне как раз хотелось попробовать.
И она полезла на холм, вызвав небольшой пыльный оползень.
– Мам, не надо, – попросила я.
– Я рада, что ты не моя мать, – ответила она.
– Давай потом, – попросила я.
– Да ладно тебе, Лиза. Я всегда хотела попробовать.
– Там колючки, – сказала я.
– Я не со вчерашним дождем родилась, – ответила она, продолжая лезть вверх. Она повторяла эту фразу, когда я вела себя, как всезнайка. А дождь бы как раз пригодился: стояла засуха, самая сильная за последние годы. Нельзя было смывать, сходив по-маленькому. Склоны холмов пожелтели, сухая трава хрустела под ногами.
Мама забралась чуть выше кактуса и нагнулась к нему. Растение казалось не настоящим, а фантастическим, словно составленным из пластиковых частей, как кукла.
– Красный – знак опасности в природе, – сказала она, нагнувшись к ярко-красному плоду. – Он предупреждает: «Я ядовитый, не ешь меня».
Она обернула руку низом футболки, втянула живот, нагнулась, схватилась за плод и потянула. Он не оторвался так легко, как она ожидала.
Она принялась вращать его.
– Волокнистый, – крякнула она. – Не отходит.
Я хотела, чтобы она перестала: она вела себя как сумасшедшая, я ее ненавидела. Я все знала. Была полна предчувствий. Вокруг шипела трава.
Наконец плод оторвался, и мама спустилась с ним вниз, туда, где стояла я.
– Давай возьмем его домой и сварим, – предложила я.
– Я хочу съесть сейчас, – ответила она. – Если только получится содрать шкуру.
Используя футболку, чтобы защитить руку, она сняла кожицу и, стараясь не касаться ее, осторожно откусила мякоть сердцевины.
– М-м-м… вкусно. Интересный вкус. Хочешь?
– Нет, спасибо, – ответила я.
По дороге домой она принялась стонать.
– Мое горло, – сказала она. – Больно глотать.
Остановившись на светофоре, она привстала, разинула рот и стала разглядывать его в зеркале заднего вида. Несмотря на мою решимость не жалеть ее, я была в ужасе.
– А я говорила тебе подождать, – сказала я.
– Я знаю. Не могу говорить, Лиза, слишком больно, – должно быть, ей в горло впились тонюсенькие, прозрачные колючки с кожицы плода.
Когда мы вернулись домой, горло саднило. Она пошла достать одежду из сушилки и обнаружила, что из-за неосторожности ее любимая кофта из ангорской шерсти села.
– Черт, – сказала она. Кофта застегивалась на ряд жемчужных пуговиц. – Можешь забрать себе.
Мягкий трикотаж, цветочный узор на розовом поле – она пришлась мне как раз в пору, чуть ниже пупка и с рукавами до запястий, будто была связана для меня.
Следующие несколько дней перед очередной прогулкой с Дебби я старалась не носить севшую кофту: мне казалось, будто с ней я забрала что-то у мамы, будто это частица удачи, покинувшая ее и перешедшая ко мне.
Несколько дней спустя я зашла в мамину комнату и застала ее бросавшей три мелкие монетки на ковер рядом с книгой, ручкой и листком бумаги и заглядывавшей в Книгу перемен. Она сидела в углу, не включая свет. Был еще день, но в комнате стоял полумрак. Она согнулась, опершись локтем о колено и подперев лоб ладонью. Пряди волос, заправленные за ухо, падали на лицо.
– Что случилось? – спросила я.
– Я лишилась молодости.
Она снова бросила монетки, взглянула, начертила на бумаге какие-то линии, столбики которых покрывали почти весь лист, – тонкие, как лапки насекомых, – и зашелестела страницами небольшой книги.
– Но она у тебя была, – возразила я.
– Тебе хорошо, – сказала она. – Ты катаешься по городу и веселишься с Дебби. А у меня никого нет.
– Ты можешь пойти с нами, – ответила я, хотя знала: это не то, чего ей хотелось бы.
– Я хочу своих друзей, свою жизнь, – на слове «жизнь» она бросила монетки еще раз. Мы с ней не могли быть счастливы одновременно. Ее жажда жизни, веселья, опунции для меня была сигналом опасности. Я черпала счастье из ее ресурсов, мы как будто перетягивали канат. Когда длинный конец был у нее, мне ничего не оставалось, когда у меня – она сникала. Как будто душевных сил, богатства целого мира не хватало на нас обеих сразу.
– У тебя есть друзья, – сказала я.
Эти слова заставили ее всхлипнуть.
– У меня нет мужчины, мужа, парня, отношений. Ничего.
Воздух в комнате застыл.
– Но я люблю тебя, и я рядом.
– Я пытаюсь, но ничего не получается, – продолжила она, как будто не слышала. – Раньше у меня были такие красивые сильные руки, – теперь она плакала навзрыд, на губах показалась слюна, и она едва могла говорить. – И знаешь, что Фэй подарила мне на Рождество?
Она говорила о своей мачехе. Именно Джима и Фэй я звала дедушкой и бабушкой, потому что видела Вирджинию всего пару раз.
– Она подарила мне утюг, – сказала мама. – А знаешь, что она подарила Линде? – Линда была ее младшей сестрой, красоткой, той, кому достался набор красок. Теперь Линда управляла несколькими парикмахерскими сети «Суперкатс» и встречалась с физиком из НАСА, владельцем усов и джакузи.
– Ведерко для шампанского! – воскликнула она.
Я знала, что дело не в практической ценности подарков. Мы пользовались утюгом и гладильной доской, которая шла в комплекте, несколько лет. А Линда позже рассказала мне, что ведерко было не для шампанского, а для льда и она специально попросила его в подарок, как мама попросила утюг. Именно символическое значение подарка сделало его таким ужасным. Но все же мне хотелось, чтобы она сказала Фэй, что та ошиблась, попросила ее забрать подарок и подарить другой, который мама по правде хотела получить.
Она поднялась, вышла из комнаты, взяла со стола в гостиной ножницы для ткани, подошла к шкафу и стала яростно передвигать плечики, срывая с них рубашки и бросая в кучу.
– Не надо!
– Не указывай мне. Мне нечего носить. Нечего, – она схватила старую серую блузку и рванула с двух сторон; пуговицы расступились, обнажив изнанку.
– Этот вырез. Он просто ужасен. Ненавижу свою одежду, – она расплакалась, потом зарычала. Сделала надрез на краю футболки, потом схватилась за нее обеими руками и разорвала надвое, завывая от ярости.
Она поступала так с одеждой и раньше, когда злилась: обрезала воротники, укорачивала рукава и подолы, а потом никогда больше не надевала. Ей приходилось выбрасывать все это, и ее и без того скудный гардероб становился еще беднее.
Примерно в это время отец готовился с размахом отпраздновать свой тридцатый день рождения. Он пригласил и маму, поначалу она собиралась пойти, даже позвала с собой Дебби. Но чем ближе была дата торжества, тем сильнее становились ее сомнения. Она не могла позволить себе новое платье. И ей стыдно было появиться в обносках рядом с нарядно одетыми гостями, которые станут поздравлять его. Она отказалась в последнюю минуту, оставив ни с чем Дебби, вознамерившуюся найти на вечеринке мужа. Я ничего тогда не знала о вечеринке и замечала только, что мама все чаще предается меланхолии, постоянно занята мыслями о своем гардеробе и потерянной молодости.
Я знала, что ей в себе не нравится: лоб, бедра, зубы, морщинки над губой – и знала, что, по ее убеждению, из-за этих недостатков и старой одежды она никогда не получит то, чего хочет. На самом деле она была красавицей с высокими скулами, тонким носом. Она рассказала, что ее, Кэти и Линду в старших классах дразнили лобными сестрами, потому что у них был слишком высокий лоб, но мне он нравился – пустой и гладкий, как яичная скорлупа. Ее фигура походила на стан женщины с рисунка Родена, который я увидела годы спустя; та стояла лицом к зрителю, оглядываясь назад, и каждая деталь ее тела была женственной и удивительно пропорциональной: грудь, спина, ягодицы. Тонкая талия.
Тем вечером, готовя ужин, она мыла чечевицу, медленно перебирая ее подушечками пальцев и скорбно глядя на буроватую горсть, словно в тот момент от нее ускользало нечто бесценное.
* * *
Как-то раз, когда мы с Дебби возвращались домой поздним вечером, мама ждала нас у гаража. По ее виду я сразу поняла, что что-то не так: она стиснула зубы, нижняя часть лица была напряжена. Козырьком ладони она закрывала глаза от солнца, но я заметила, что она плакала.
Она заговорила, едва мы вышли из машины:
– Знаешь, мне это надоело. То, что ты считаешь себя лучше меня.
– Мам, – сказала я. – Перестань.
– Не вмешивайся, милая, – велела она.
Дебби, казавшаяся потрясенной несправедливым обвинением, попятилась обратно к машине.
– Не притворяйся, будто не знаешь, о чем я, – сказала мама.
– Я не… я никогда не… – запинаясь, пробормотала Дебби.
– Влезла в нашу жизнь и осуждаешь меня на глазах у дочери. Думаешь, ты такая идеальная, а на самом деле просто поверхностная, глупая, – сквозь зубы процедила она. В ее словах была доля правды, и оттого ее ярость казалась еще более пугающей.
– Хочешь, чтобы Лиза привыкла к тебе, пытаешься быть лучше матери. Это мерзко. Что ты о себе возомнила? Да это растление малолетней! – она перешла на крик. Ее лоб и губы сморщились, как фольга, зубы обнажились; Дебби, как громом пораженная, стуча слишком высокими каблуками и покачиваясь, отступила к двери машины.
Я боялась, что Дебби будет видеть во мне мою мать. Мне казалось, окружающие не различают нас и воспринимают как одного человека в двух телах.
– Мам, – позвала я.
– Тихо, Лиза, – сказала она.
От шока я впала в ступор, было тяжело говорить и двигаться. Я стыдилась матери. Какой страшной она была, когда орала, свирепая и всклокоченная. Скандал тем не кончился – он развивался, как две развязанные, а до того туго скрученные ленты: Дебби оправдывалась, мама наседала на нее, не переставая кричать. Дебби скользнула в машину, завела ее и уехала. Больше я Дебби не видела.
♦
Мама собиралась на первое свидание с Роном.
Он должен был заехать за ней, познакомиться со мной, а потом они вместе должны были отправиться на ранний ужин. Соседи были дома – на случай если мне что-нибудь понадобится. Я была достаточно взрослой – семь лет, – чтобы два часа посидеть одной, но детали были все еще на стадии обсуждения.
– А потом?
Предполагалось, что я лягу спать до ее возвращения.
– Возможно, он зайдет к нам, – ответила она.
Я заставила ее пообещать, что они не пойдут в ее комнату, и по какой-то причине она согласилась.
Увлекшись Роном, она перестала уделять мне столько внимания, сколько раньше. Не гадала больше на Книге перемен. От счастья она стала рассеянной, на губах играла та же полуулыбка, как когда она карабкалась на холм, чтобы сорвать опунцию.
Именно в промежутках между ее мужчинами – между одиночеством и отчаянием, которыми заканчивались одни отношения, и подъемом, которым начинались другие, – я и хотела остаться навсегда. Чтобы мы с ней были командой, единственными настоящими партнерами.
В тот вечер, на который было намечено свидание, Рон появился вовремя. Когда он постучал, мама наносила макияж, перегнувшись через раковину в ванной.
Я побежала открыть дверь. И сразу же поняла, что Рон не хиппи. У него была лысина с пучками волос, торчащими с обеих сторон, как у клоуна, и широкие кустистые брови, очки в золоченой оправе и раздутые рыбьи губы. Он выглядел чистым, от него пахло мылом и средством для стирки.
– Здравствуйте, – сказала я. – Я Лиза. Мама собирается.
– Приятно познакомиться, – ответил он, протягивая руку.
Он прошел за мной в гостиную; я заметила, что при ходьбе он сильно выворачивает носки наружу.
Мама крикнула из ванной:
– Мне нужна еще минута!
Проходя мимо книжной полки, я сняла с нее альбом с фотографиями моего рождения – я этого не планировала и сама себе удивилась. Моя рука потянулась к нему сама собой, будто я не могла контролировать свои конечности.
Я много раз просила маму избавиться от альбома, но она отказывалась и каждый раз, когда мы переезжали, брала его с собой. Обложка была плетеной, из коричневой соломки; она была такой старой, что стебли стали распускаться по краям. Для меня это было намеком на неприличное содержимое. Я подозревала, что у других детей дома нет таких постыдных вещей.
Мы с ним сели рядышком на цветочном диване.
– Хочу вам кое-что показать, – сказала я. – Наши с мамой фотографии.
Я уложила альбом на колени так, чтобы ему было видно. Мама, еще совсем молодая, лежала на кровати, длинные волосы собрались вокруг лица, словно темная вода в пруду. Это были фотографии моего рождения, черно-белые, с закругленными углами. На маме было нечто, походящее на мужскую рубашку, застегнутую на груди; ниже пояса она была голой. Ее согнутые и раздвинутые ноги – на переднем плане. Я перевернула страницу: вот и я – появилась между ее белых – пересвеченных – разведенных бедер, как черепаха, вынырнувшая из глубины озера.
На следующих фотографиях я уже вышла наружу, и можно было разглядеть мое сморщенное тело, восково-бледное лицо, асимметричное, сплюснутое.
Я чувствовала отвращение, отторжение, но продолжала переворачивать страницы. Я не знала, как это объяснить: мне хотелось, чтобы он почувствовал такое же отвращение, хотелось его отпугнуть. Показать ему, какие мы на самом деле, чтобы он не стал ждать и ушел сейчас.
– А вот еще, – сказала я нежнейшим голоском.
– Да, – ответил он. – Вижу.
Он даже не попытался подняться и сбежать, не шевельнулся. Вместо этого он сидел, поглядывая на снимки, а потом, словно в рассеянности, отвел глаза. Когда мама вышла из ванной и увидела нас, она выхватила альбом у меня из рук и поставила обратно на полку, наградив меня недобрым взглядом.