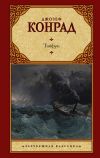Читать книгу "Правый берег Егора Лисицы"

Автор книги: Лиза Лосева
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В Ростов я добирался долго. Поезда появлялись на станции без расписания. Вагоны брали штурмом. Билетов ни у кого не было, счастливчики махали какими-то липовыми разрешениями. Пассажиры сидели прямо на полу. Те, кому повезло меньше, устраивались на сцепке между вагонами, лезли на крыши. Объединенные общим неустройством смотрели за узлами и не расспрашивали попутчиков. На станциях иногда можно было достать кипяток, за ним бегали по очереди и криком предупреждали остальных о проверке – тогда все бросались врассыпную под вагоны. Запахи немытых тел, мазута, нагретых рельсов… Мерная тряска усыпляла, но спать всерьез было нельзя, свалишься. Крепко обняв, как красивую женщину, грязную сцепку, я думал, что, может, и лучше не сходить с этого поезда, ничего не решать, не предпринимать?
Но и это бесконечное путешествие оборвалось внезапно. На станции я вдруг очнулся от того, что в лицо бил свет фонаря. Я мог попытаться удрать, но не стал. Бегать надоело. У меня не было при себе никаких документов, ничего, кроме чужой свернутой шинели. Я не мог вспомнить, срезаны ли на ней погоны. Могли, конечно, и задуматься, отчего это сверток такой тяжелый? Но, на счастье, мой грязный узел смотреть не стали. Под арестом я просидел недолго. Рассказал, что еду в Ростов к родным, документы и деньги в дороге украли – не редкость. На меня нашло то настроение, которое я хорошо знал. Полное безразличие и злость. Желание скорее со всем покончить. Если бы меня подробнее расспросили, я бы рассказал все. О деньгах атамана, убийстве в туннеле и других, моей истинной роли в нашей «компании друзей», отряде, созданном ЛК[13]13
Читайте об этом в романе Лизы Лосевой «Черный чемоданчик Егора Лисицы».
[Закрыть]. Но меня не расспрашивали. Моя молодость и нищие пожитки убедили, что я не представляю интереса. Еще сутки я ехал до Ростова самым шикарным образом, на лавке сидячего вагона.


С того самого времени я перестал отворачиваться от ясного, как свет фонаря путейца в лицо, вывода. Провал в Новороссийске моя вина. Я не сумел вовремя распознать убийцу, я допустил смерть ЛК и других. Уверен, самая губительная ложь – самому себе. Признав правду, я определил то, чем мог искупить вину перед другими. Иона был наказан заточением в чреве кита за то, что не понял своего предназначения сразу. Я прозаически проболтался несколько суток в грязном паровозе, но результат получил тот же. Я убедился, что выжил не случайно. Ведь была эта дорога, и стрельба в порту, и бестолковая звериная драка у комендатуры, и вырванное плечо. Но как-то обошлось, а значит, судьба решила использовать меня. И то главное, что ведет меня вперед всю жизнь, заставляет искать причины, ответы, – окончательно оформилось как раз тогда. Окрепла моя цель – работать, используя криминалистику, передовые подходы к раскрытию преступлений. Само время, эпоха романтиков и безумцев, потворствовало мне и поддерживало мои идеи. Ураган переворота разметал старое и расчистил место для нового. Казалось, из чужого мяса, крови и барахла алхимически родилось иное существо – новый мир. Но тогда, год назад, я еще не знал, как подступиться к мечте.
Когда я вернулся в Ростов, знакомые, как будто договорившись, избегали спрашивать меня о Новороссийске, об отступлении, судьбе моих товарищей. А врач Эберг, у которого я до этого снимал комнату, выслушав один раз, больше не возвращался к этой истории, казалось, нарочно обходя ее. Мой университетский приятель Захидов, коммерсант, был готов помочь с заработком. С началом НЭПа он снова широко развернул торговлю и настойчиво предлагал мне место счетовода в его конторе в порту. Я отшутился и сказал, что почерк у меня не очень хороший. Но других предложений не было. В те дни я чаще всего просто бродил по главным улицам, злясь на свою незначительность, особенно очевидную среди высоких пятиэтажных домов. Необыкновенной удачей стало место санитара в лечебнице Рыдзюна, тяжелая работа помогала меньше думать. Иногда я помогал Эбергу на операциях. Но все же главным было чувство ненужности моего существования.
Да, это все было год назад…
Сейчас, поднимаясь и спускаясь по горбатым ростовским улицам, я не торопясь разглядывал город. Хорошо помню, какое впечатление он производил тогда, сразу после Новороссийска. Улицы были завалены мусором. Канализация работала с перебоями, было много случаев холеры. Освещение вышло из строя, лифты в домах и конторах как-то окончательно и безнадежно встали. В квартирах и учреждениях буржуйки топили штыбом – угольной пылью. Драгоценный уголь выделяли только для пуска трамвая. Его звон, привычно бодрый, давал надежду на то, что жизнь снова войдет в привычную колею. «Социализм должен победить вошь, а не вошь социализм!» – натянутый на столбы каретного подъезда бывшего кафешантана Чарахчиянца «Марс» широкий лозунг нависал над головами прохожих. Тиф и Гражданская упразднили знаменитые почки в мадере и борщок с дьяб-лями – отчаянно острыми гренками с кайенским перцем, которые готовил в «Марсе» повар, выписанный из Варшавы. Почки, каша с пармезаном и борщок подавались на тарелках, где с одной стороны было написано «Карапет Чарахчиянц», а с другой – «украдено у Карапета Чарахчиянца». Так популярен был когда-то «Марс», что из него, случалось, воровали дорогую посуду. Но тиф и Гражданская заколотили двери кафешантана, казалось, навсегда. Пармезан был забыт, а в первые годы новой власти в городе пришлось провести серьезную разъяснительную работу насчет маринованного хрена. В приказах, расклеенных на тумбах у базара, говорилось, что «все овощные запасы: капуста, морковь, перец, хрен и пр. как в свежем, так и маринованном виде, – берутся на учет». За неисполнение и невыдачу продуктов приказ обещал наказывать по всей строгости законов революционного времени. И не врал, обыватели имели возможность увидеть строгость законов своими глазами. Хотя здесь, на юге, хотя бы не приходилось, к примеру, жарить картошку на касторовом масле из аптек, но все-таки с продуктами было трудно. В станицах дейстововала продразверстка.
– Незасеянное поле – лютый враг республики! – ранней весной, как галки на пустых полях, кричали газеты, но сеять было нечего.
Новым бедствием стала чума скота, почти все округа́ Донской области были заражены. Однако сырое мясо и потроха продолжали отправлять в Ростов, на колбасный завод – провизии не хватало. Упорно ходили слухи, что на базаре «один доктор» точно узнал среди товара мясника берцовую кость человека. Немного выручали карточки. По ним в городе можно было получить «шрапнель» – мелкую пшеничную крупу. Удавалось достать фруктовый чай, а иногда сахарин и даже эрзац-кофе. Повсюду в бумажных кульках продавали тюльку и хамсу – мелкую рыбу, соленую до чрезвычайности. Привязчивая, как семечки, она забивала голод.
Вечерами ждали обысков и реквизиций – «самочинок». Опытные обыватели снимали портьеры и скатывали ковры. Убрав с глаз долой портрет дяди-генерала, цепляли на его место кнопкой листовку или вырезку из газет – прикрыть светлый квадрат обоев. Ценности изымались в фонд революции, на них, бывало, оставляли нечто вроде расписки. Самая крупная реквизиция прошла в Ростове и Нахичевани зимой, сразу после окончательной смены власти. Ходили разговоры, что в домах вокруг Покровской площади рабочие и красноармейцы в одну ночь экспроприировали два пуда серебра и не счесть деникинских денег. Однажды поздним вечером пришли и к Эбергам, как назло, я был на суточном дежурстве в клинике. Я боялся за Глашу, его дочь, и старался вечерами чаще бывать дома. Но, в общем, обошлось. Даже феноменально повезло, что обыск был именно официальным, с бумагой, залепленной густыми фиолетовыми печатями. Вечерами и белым днем в городе грабили бандиты, часто выдавая себя за сотрудников милиции. Как я позже узнал, к Эбергам явились «трое товарищей в составе комиссии» – с ними топтался смущенный дворник. Доктор пригласил «комиссию» к столу, настояв, чтобы непременно вымыли руки. Возник было неприятно острый момент, когда один из комиссии заинтересовался черепом – медицинским пособием с номером синей краской, а потом и коллекцией хирургических ланцетов, подозревая холодное оружие. Объяснения были приняты вполне мирно, этот самый товарищ задержался – спросить совета насчет стыдной болезни. Ушли они скоро, не оставив большого беспорядка, после обыска недосчитались только пары вещиц из кабинета и хорошей шапки доктора.
Вспомнив про Эбергов, я остановился на углу Свиного спуска, – по привычке я чуть было не повернул к их дому. Хотя и не жил там уже несколько месяцев.
От Эбергов я съехал почти сразу же, вернувшись из Новороссийска. У доктора был небольшой собственный дом с садом, где я занимал комнату как жилец уже довольно давно. Раньше мне удавалось платить за жилье, хоть и немного. Но денежных переводов от тетки я давно не получал и, признаюсь, боялся додумать мысль – как она там? Жива ли? На мои письма ответа не было, и я убеждал себя, что не налажена работа почты. Эберг снова часами пропадал на службе, он оперировал в Николаевской больнице, названной в честь спасения наследника в Японии. Конечно, теперь больница была просто городской. Он взял гораздо больше часов преподавания в университете. Его дочь Глаша была занята то на курсах, то с домашним хозяйством. После декрета о том, что домашняя прислуга должна получать не менее ста рублей в месяц, кухарка ушла искать место на бирже получше. Я понимал, что мое присутствие, а особенно отсутствие платежа за комнату наверняка стесняет Эберга. Тем более что жилец ему был вовсе ни к чему, Эберг мог не опасаться уплотнения. Врачам по роду занятий были оставлены метры, новая власть признавала, что они нуждаются в лабораториях, а кроме того, часто принимают на дому заразных больных. Эберг ничего не говорил, но я отлично понимал, что такой постоялец даже для его благородства был лишней нагрузкой. Выручил меня рояль.
В доме Эбергов был хороший инструмент Беккера. Доктор, Карл Иванович, неплохо играл. Считал, что это помогает разминать пальцы перед операциями. Раз в полгода, весной, в доме появлялся настройщик. В это время выставляли зимние рамы, убирали теплые вещи. Пахло нафталином и сухой оконной замазкой. Эти запахи включали и резину – какие-то штуки из этого материала настройщик приносил с собой для регуляции октав. Той весной он появился с неизменной точностью. Абсолютно не изменившийся, в сюртуке и шляпе, в руках сверток с инструментами. Тогда удивляли самые обычные вещи, и то, что посреди разрухи, бандитов и реквизиций настройщик – вот он – ездит и настраивает рояли, было удивительно.
Борух Нахимович Фейгин, дядя Борух, был настройщиком с большим опытом и таким же, внушительным, глядящим вниз носом. Когда я с ним познакомился, он жил на свете уже очень давно, но точного его возраста никто не знал. Дядя Борух осторожно и нежно копался во внутренностях инструмента, поддергивая нервы – струны. Ругался, что рояль передвинули к окну, по его убеждению, инструмент боялся сквозняков. Вообще, проделывая свои манипуляции, он не переставая говорил, выступая живой газетой. За звоном, скрипом и гаммами его рассказ тонул, терялся и получался захватывающим.
– Вообразите, господин товарищ студент, – здесь звон, слова пропали. – Будут демонстрировать аппарат, который способен показать небесных тел! Конечно, самых крупных. Не в том смысле, как…
– Где демонстрируют?
– Планетарий, – это новое слово настройщик произносил с детским азартом, – можете представить! Проекционный аппарат. Новейшее изобретение, способное изобразить полное затмение Солнца.
– Да, но где же?
– Молодые люди теперь слышат хуже, чем старые. В Германии, в газете, говорю я вам. Сказано, что будут выделять средства, чтобы все могли увидеть звезд. Но какие звезды, когда не видишь белого света? Вчера я был в городских банях…
Но что именно случилось в банях, какие земные тела и что в целом там повидал настройщик, тонуло в звоне. Он тер нос, качал головой. Распахнутая крышка инструмента ловила блик от окна.
Под такие разговоры я обычно отвлекался. Да и дяде Боруху собеседник не требовался. Но вдруг, совершенно неожиданно, оказалось, что он смотрит прямо на меня, явно ожидая ответа. Но какой вопрос был задан?
– Вы согласны, господин Лисица? Да или все-таки нет?
Я подтвердил, что горячо согласен. Соображая про себя, с чем это я мог согласиться. Настройщик смотрел на меня с сомнением.
– Значит, переезжаете?
Он предлагал мне комнату, вот в чем дело! Вместе с женой Борух занимал квартиру в бывшем доходном доме Гвоздильного Короля, известного в городе фабриканта. Дочь их давно вышла замуж и уехала в Одессу. Сын, член Коммунистического интернационала молодежи, состоял рабкором при какой-то московской газете. Велика была вероятность, что дядю Боруха в скором времени уплотнят. Этого боялись как чумы. Вопрос квартиры тогда стоял крайне остро. Вернувшись вечером со службы, можно было внезапно обнаружить в своем ватерклозете чужую личность, вселенную на «лишние метры». В квартирах обитали по пять-шесть семей, разумеется, временно, пока не решится жилищный вопрос в самом широком смысле. Декрет «О мерах правильного распределения жилищ среди трудящегося населения» разрешал 18 квадратных аршин на человека (9 кв. м). В то же время искать соседей к себе на «лишние метры» бумага дозволяла самостоятельно.
Я угадал, именно страх уплотнения сыграл свою роль. А кроме того, Борух явно сочувствовал мне, настройщик давно знал Эбергов, от него не было секретов во всех городских домах.
– Да, но ведь много платить я не смогу?
– О чем вы говорите! – он так энергично нажал на клавишу, что она жалобно запела, – главный гешефт – мы оформим бумагу от уплотнителей, а кроме того – вы доктор! Как бы я хотел, чтобы Яков, мой сын, стал доктором! Он, однако, стал вовсе «революционэром», – настройщик нажал на «э», как на клавишу, – я не говорю об этом с моей женой, его матерью, она и так давно кушает без аппетита. А вот вы сможете ставить ей уколов. От нервов.
Жена его была корсетницей в известной швейной мастерской «Жюль Гармидер».
Этот сказочный настройщик стал моим спасителем. Не пришлось долго объясняться с Эбергами, которые пытались меня отговорить, но, уверен, только из вежливости. Доктор заявил в своей резкой манере, что не видит причин для моего переезда, но тогда как раз шли разбирательства в университете. Кого-то там увольняли за непролетарское происхождение, лишали званий и пенсии. Пришло письмо о высылке из Петрограда за границу русских ученых как предателей, и Эбергу было вовсе не до меня. Он часто запирался в кабинете, расхаживал там ночи напролет, и открытое окно не помогало прогнать резкий запах спиртного и лекарств. Глаша, узнав о предложении настройщика, не сказала совсем ничего. Стыдясь, что был им такой обузой, в один вечер я, собравшись, съехал. Имущества было немного. Мне удалось сохранить мой старый врачебный чемоданчик. Я привез его из Новороссийска, завернув в шинель. Кожа вытерлась в складках до рыжины, но замок отлично держал. В нем я хранил фотографии, бумаги, кое-какие вещи на память о родителях. Кроме этого, было что-то из одежды, книги. В общем, собрался я быстро и вот так, в последний месяц весны, оказался в доме Гвоздильного Короля.
Дом гвоздильного короля
Длинная кирпичная кишка – здание мануфактуры. Следом короткая, как цирковой псевдоним, вывеска торгового дома «Шпис и Прек», лучшее оцинкованное железо с гарантией. В нос шибает простоквашей, значит, проходим молочную Сериковой. Следом склады химических товаров и стеклянной тары с пестрой рекламой «пробок всех сортов». И вдруг – острый запах свежего хлеба, пекари-персы вымешивают в подвале тесто на тонкие лепешки, жарят пирожки на скверном, как машинное, масле. Другой запах, сладковатый, гниющих фруктов и немного земли – это лавка, где продает не библейские, а земные яблоки Петр, сын Апостола Сайтери Оглы, нарочно захочешь – такого не выдумаешь. И вот, наконец, в конце улицы высокий, в четыре этажа, краснокирпичный дом.
Первым его владельцем значился агент страхового общества «Саламандра». На память о нем на фасаде обрастает зеленью медная табличка, утверждающая, что здание застраховано от всех превратностей судьбы, пожаров и ураганов. Не учли только революцию. Потом дом переходил из рук в руки, пока наконец его не приобрел известный ростовский купец, владелец гвоздильно-проволочного завода, который был крупнейшим на юге, поэтому купца прозвали Гвоздильным Королем. В этом королевском доме я и занял одну из комнат настройщика. Удачным приобретением был отдельный ход в комнату. Она торчала на манер богемной мансарды или попросту чердака на самом верху, под крышей. Железная лестница вилась вместе с виноградом по углу дома, шаталась и раскачивалась, как трап корабля, когда я по ней поднимался.
Комната была очень чистой, но невероятно тесной, узкой, как шкаф. В ней можно было только лежать и сидеть. Лежать на деревянной кровати у окна, сидеть там же – работая за небольшим столом. В общем, места для фокстрота не оставалось. Средневековый студент-медик из всего имущества имел при себе ночной горшок, замок для письменного стола, свечи и чернила. Я решил, что это достойный пример скромных потребностей, и довольно удачно разместил в моей комнате носильные вещи и книги. Немного пришлось только потесниться ради моей вполне буржуазной роскоши – кофеварки.
Бульотку-кофеварку я добыл на толкучем рынке. Медная, натертая до красноты, с горелкой-спиртовкой, она варила отличный кофе даже ячменный, а на спиртовке я, наловчившись, жарил хлеб. Этот жареный хлеб с солью и перцем! Таких ужинов я потом не припомню и в отличных ресторанах.
Кофеварку настройщик с сомнением утвердил. Но при этом ни примуса, ни керосинки очень просил не держать, опасался копоти и пожаров, ведь на «Саламандру» надежд больше не было. Говорили, страховое общество предусмотрительно перевело все денежные активы за границу и отчалило на Балканы вместе с первым маршем красных знамен. А потом и вовсе открыло представительство в Америке. На моей карте мира – подарок Эберга на прощание – Северо-Американские Штаты плавали жизнерадостным зеленым островом между двух океанов. Карту я прицепил канцелярскими кнопками к стене над кроватью. Кроме нее, здесь в общем глядеть было не на что.
Доходный дом Гвоздильного Короля смотрит и на пустырь, и на проезжую улицу. В глубине двора каретник, вход сквозной через арку сразу на две улицы для удобства проезда экипажей. Каретник давно переделан жильцами под сараи. Над ними торчит шест голубятни. При постройке дома в моей комнате была задумана глухая стена без окон – брандмауэр для того, чтобы лепить здания плотно, единой линией фасадов – защита от пожаров. Но этому дому соседа не досталось. Он стоял отдельно от всех, и ушлые жильцы наделали беспорядочно в стене окон. Мое выходило на широкий пустырь – границу между Ростовом и армянским белым городом Нахичеванем. Над пустырем ветер несет лай собак, звуки выстрелов. За рекой в степи вспыхивают молнии, когда осенью и весной идут грозы.
Армян на Дон переселила Екатерина. Их поселение начиналось на остатках старой крепости, где вскоре вырос город, замечательный по своей стройной наружности, как писали путешественники. Они же отмечали, что народонаселение Нахичевани отличается смышленостъю и ловкостью в торговле. Местные армяне, космополиты, бойко торговали с соотечественниками от Астрахани до Лейпцига. При этом, в точности как отмечали путешественники, вели дела ловко, к примеру, скупая на донских виноградниках вино и выгодно сбывая его под видом наилучшего французского шатолафита. Ростов лепится на берегу плотно, кирпичными зданиями мануфактур, заводов, куполами церквей русских и греческих. А Нахичевань строилась по примеру столицы и строгому плану, улицы-линии ровные, идут под номерами, без названий. Вдоль тротуара – белые и розовые акации. Давно прошли те времена, когда этот небольшой городок сравнивали с Константинополем. Улицы освещены, протянута телефонная линия. У Дона построен павильон местного яхт-клуба. Белые стены особняков с широкими верандами, укрытыми виноградом. Кофейни, где слышен стук игры в нарды. И – снова открывшиеся ювелирные лавки, где за прилавком всегда стояли только мужчины, рождали впечатление чего-то экзотического. Огни в домах гасили рано – местные мужчины проводят время в ростовских кафешантанах и на ипподроме, женщины в заботах о доме.
Однако тишь да гладь здесь только на первый взгляд. Всей России известны нахичевансские умельцы – делатели фальшивых банкнот и документов. В их работе и на монетном дворе не нашли бы изъяна. Широкий пустырь в восточной части города – «Горячий край». Здесь работали вентерюшники, уличные грабители. Прозвище они получили потому, что брали свежую жертву, как рыбу, в вентерь, то есть в ловушку. Здесь промышял и известный вентерюшник Кусок, Мишка Халезов. Он проходил подозреваемыми в убийстве актрисы театра «Буфф». Из-за этой стрельбы в центре Ростова меня когда-то и выперли из университета[14]14
Читайте об этом в романе Лизы Лосевой «Черный чемоданчик Егора Лисицы».
[Закрыть].
Между Ростовом и Нахичеванью – межа. Граница. Установлены даже полосатые столбы, хотя это курам на смех – на пустыре-то. Раньше в церковные праздники здесь гуляли ярмарки. В другие дни ставился шатер цирка. А как стемнеет, ростовские уголовники подкидывали на этот пустырь трупы. Логика была проста: раз тело на земле другого города, то местная полиция не станет им заниматься. Однако вскоре Нахичевань и Ростов объединило общее полицейское ведомство. По меже бегут рельсы трамвая, который ходит между армянским и русским городом. С трамвайной линией, которая начинается от ростовского вокзала, вышла история вполне в духе этих мест. Трамвайные пути в Ростове и Нахичевани строили бельгийцы, концессия. Вот и сделали дорогу европейской ширины. Такой нет нигде в России, и вагоны поэтому пустили заграничные – брали подержанные. Эти европейские рельсы блестят в пыли пустыря – нахичеванской межи. Бич пустыря – бродячие собаки. Возмущенная общественность даже предлагала испытать на них стрихниновые пилюли, но собаки по-прежнему живы-здоровы и с лаем носятся за трамваями. Днем, презирая пограничные столбы, по меже гуляют гуси и коровы. Время все сильнее притягивает города друг к другу. Когда я въехал в дом Гвоздильного Короля, Ростов тянулся к меже приземистыми желтыми корпусами Николаевской больницы. А со стороны армянского поселения подступал бывший Александровский сад, теперь он имени германского революционера Карла Либкнехта. Ниже пустыря, ближе к Дону, виднелись плешивые огороды кооператива «Мысль и хозяйство», где непривычные к лопатам учителя сажают картошку и лук. Как вещь с чужого плеча, особняком на пустыре бросается в глаза помпезное здание управления Владикавказской железной дороги, дворец в стиле модерн. Иногда прямо из окна моей комнаты можно было послушать яростную декламацию на острые темы: в правлении дороги поместился кружок поэтов-любителей, и летом, в жаркие вечера, они выкрикивали рифмы и спорили на улице до темноты. А однажды стекло задребезжало от крика и свиста. Выглянув, я посмотрел до победного гола футбольный матч. И болельщики, и спортсмены действовали необычайно азартно. Не мешало даже то, что все игроки были без формы, в чем придется, а в воротах не натянута сетка. Но ночами пустырь казался пустым темным морем.
Отлично помню свое первое лето в этом доме. Бессмысленное, не занятое делом, первое после окончательной смены власти в Ростове. В тот год лето, как часто случается здесь, на юге, разом вычеркнуло весну. Пришла небывалая даже для здешнего климата жара. Отцвели каштаны. В палисадниках раскрылась и сильно запахла розовато-кофейная сирень «мулатка». От разогретой мостовой поднимался пар, под ногами пестрели красные и черные пятна зрелых ягод шелковицы. По-местному тютины. Тутового шелкопряда завезли армяне, те самые, переселенные Екатериной. Вентилятор из последних сил ныл, перетирая смазку, гоняя горячий воздух.
Помню череду однообразных дней. Липкая жара заходит в комнату, садится на кровать и душит. На кухне хозяйка разделывает толстенький упругий баклажан, лук, крошит помидоры – вздыхает – ведь сахар, сахар, а не помидоры! Стреляет разогретое масло. Готовится, как здесь говорят, «жарить синеньких»[15]15
Название баклажанов на юге России.
[Закрыть]. Запах поднимается ко мне, вмешивается в аромат моего кофе. Через минуту начинает казаться, что я закусываю баклажанами.
Отложив в сторону «Практическое руководство по клинической химии и микроскопии Клопштока и Коварского», спасаясь от запаха и жары, я сдавался и выходил на галерею. Здесь, без укрытия толстых старых стен, жара наддавала сильнее. Этому затянутому в сюртук немцу Клопштоку такое пекло наверняка и не снилось. Это патентованная ростовская жара, когда испарина зноя и мелкая пыль оседают на мясистых растопыренных ладонях-листьях винограда. Его плети карабкаются по перилам галереи, и можно даже попробовать ягоды, мелкие, черные, едкие на вкус, как хинин.
Здание с общей галереей, двери квартир выходят во внутренний двор-колодец. Дом набит жильцами, как сазан капустой у не жадной хозяйки. Цветное белье развешано во дворе, здесь не отдают прачкам. Как белье, вся жизнь болтается на виду у соседей. Общая галерея – ярусы театрального зала, двор – сцена. В репертуаре этого импровизированного театра трагедии и комедии. Весь дом помнит, как поножовщиной закончилась свадьба красавицы-дочери авантюриста-молдаванина. Золотые зубы его могли бы служить превосходным залогом в каком угодно ломбарде. Один из сараев был накрепко заперт и принадлежал ему, как пещера разбойника. Необычайно предприимчивый жулик, он зарабатывал, сбывая кофе, перемешанный с желудями и дубовой корой. Толкал на базаре сигары, скрученные в ростовском дворе, под видом наилучших импортных. Широко и блестяще улыбаясь, молдаванин продавал там же коровье масло с «сюрпризом» – камнем, сверху обмазанным плотным слоем масла хорошего качества. За дочерью как приданое он дал ведро серебряных портсигаров. Правда, самих портсигаров никто не видел. Приданое красавицы носили с подвод в квартиру молдаванина весь день до вечера, составляли в ряд полосатые матрасы, подушки и трюмо орехового дерева. Все жильцы были уверены, что в этих самых матрасах и припрятаны настоящие ценности. Свадьбу молдаванин закатил широкую. Его дочь, невеста, сидела во дворе под вишней с цветами в волосах. И все соседи пили красное вино, которое он разливал за здоровье молодоженов. Каждый знал, сколько бутылок было выставлено и откуда они взялись.
Молдаванин, как и многие другие, появился в доме сравнительно недавно. До революции доходный дом Гвоздильного Короля считался местом приличным. Волны приезжих разбивались о него, как о гранитную набережную. И как днище фрегата ракушками, дом обрастал новыми жильцами. Еще более пестрой здешнюю публику сделала кампания по уплотнению. Но жили мирно. По очереди дежурили в арке двора, когда в городе то и дело менялась власть. Помогали соседям закрывать окна подушками и чем придется, когда стучали пулеметы. И совместно вычисляли вора, наладившегося таскать дрова из сараев. Однако дружбы здесь не водилось. Чувство общности было как у людей, связанных одним делом, но не близостью и приязнью.
Тем летом каждый вечер на галерее заводили патефон с одним и тем же романсом «Голубка». Его в доме хорошо выучили все, даже самые не музыкальные жильцы. Патефонная иголка, начав со строк в ритме хабанеры, заедала, зацепившись за припев или куплет, повторяя его без конца.
– Когда из Гаваны отплыл я вдаль… – музыка прищелкивает кастаньетами в унисон с шумом двора. Звенит на одной протяжной ноте камень точильщика «ножи, ножницы». Гремит ручка уличной колонки – из нее берут воду все, водопровод непредсказуем.
– Лишь ты угадать сумела мою печаль… – напевает, поднимаясь над этим звуками, чистый женский голос из черной коробочки патефона.
Рефреном, как резиновый мячик в гулкой подворотне, летят от стены к стене выкрики:
– Чик и бук! Тала! Арца!
Мальчишки играют в айданчики – азартную игру, где нужно разбить пирамиду из айданов, бараньих косточек.
– Когда я вернусь в Гавану, в лазурный край, – поет голос, звенит трамвай, сворачивая на пустырь между армянским и русским городом.
Мостовая остывает, отдавая влажный плотный воздух. Долгожданный ветер надувает сохнущие простыни…
Дом, увешанный бельем, как никогда походил на забытый в степи корабль под кое-где штопанными пестрыми парусами. А я думал, что там, в этой тропической Гаване? Так же жарко, так же мокрая рубашка пристает к спине. Искал ее на карте, прицепленной кнопками. И помнил только, что именно там было найдено средство от желтой лихорадки. Инфекцию переносит комар вида Aedes aegypti. Комары, правда, самые обычные, вида надоедливые ночные, чертовски злобные мелкие твари были бедствием и здесь, в этом городе. Ночами, когда я маялся от бессоницы и зуда укусов, то почти верил, что плотная жара и испарина на стеклах окон – жар неминуемого пожара мировой революции, которую в Советах ждали со дня на день. И сейчас, в особенно утомительные ночи, в голове всплывает иногда навязчивая мелодия, звуки двора-колодца…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!