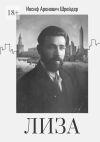Автор книги: Лиза Николидакис
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Подросток Теодорос щеголял в черной футболке с греческим флагом и красной куртке из искусственной кожи, как у Майкла Джексона в клипе на песню «Триллер», которая вышла за три года до этого. Готова поспорить: одеваясь перед этой поездкой, он думал: «Я знаю, в Америке я буду смотреться круто!» – хотя не понимал, что Джексон уже перешел к милитари-образам. Со своими мелкими глазами и крючковатым носом он напоминал мне мерзкую греческую крысу. Димитрий стоял позади него, его щеки были надуты, как у белки по осени, а рот окружала липкая синяя слизь. В свои десять или одиннадцать лет он выглядел более мягким, чем его брат – мальчик, который мог за него заступиться.
Георгия подошла ко мне, слегка прихрамывая, согнулась в талии так, что ее лицо оказалось в паре сантиметров от моего, и сказала: «Ясу». Я поздоровалась в ответ, и в ту же секунду она заключила меня в объятия и стала раскачиваться из стороны в сторону, напевая при этом. От нее пахло нафталином и фрикадельками.
Греки, к моему облегчению, набились в машину отца. Их багаж занял оба багажника и заднее сиденье, возведя вокруг меня небольшую крепость. Должно быть, там я задремала, потому что проснулась сначала от гудка, который издала мать, а затем от ее ругательств. Я просунула голову сквозь окружающий багаж, чтобы посмотреть, что там происходит. Она снова нажала на гудок, мигнула дальним светом и случайно включила дворники.
– Вот тупорылый!
– Что такое? – спросила я.
– Они что, не видят, что знак показывает на Коннектикут?
Мы следовали за ними на север целый час, сигналили им и мигали фарами, пока они там не поняли свою ошибку. Да, они не увидели знак. Вместо этого они были с головой поглощены семейными узами.
* * *
В «Британнике для подростков» под заголовком «Семьи по всему миру» говорилось:
Во всех семьях родители в течение определенного времени контролируют жизнь своих детей. В этих детско-родительских отношениях родитель обладает физической силой, средствами для обеспечения жизни всей семьи и властью наказывать. Мать или отец могут показывать или не показывать привязанность, которая является основой для чувства принадлежности.
Георгия и ее сыновья должны были провести с нами все лето, но уже после нескольких дней жизни с ними я не могла дождаться августа и молилась, чтобы их пребывание здесь не заняло половину десятилетия. Майк переехал в мою комнату, его двухместный матрас прижался к противоположной стене, и хотя меня и раздражало то, что он делит со мной пространство, его присутствие позволяло моим мышцам немного расслабиться. Руки и дыхание моего отца не нашли бы меня в три часа ночи, только не когда его любимый ребенок спит в другом конце комнаты.
Летом 1986 года мне было девять лет, поэтому мои воспоминания о том времени похожи на взгляд через запотевшее лобовое стекло: я вижу какие-то очертания по ту сторону этого стекла, но ни одно из них нельзя назвать четким. Я полагаю, что мы чем-то занимались вместе, одной семьей – сидели за обеденным столом, а может, ездили на пляж – но я этого не помню. Я не помню ни трудностей, связанных с тем, что одну ванную комнату делили девять человек, ни моментов умиротворения перед телевизором. Мать говорит мне, что там был еще и Пит, отец мальчиков, но я тоже его не помню – из моей памяти этот человек стерся целиком.
Все, что я помню хорошо, так это разделение.
Взрослые, никто из которых в то время, казалось, не работал (а это не могло быть правдой), уединялись на кухне, пили кофе, курили и смеялись, а моя ия-ия ждала, пока высохнут опустевшие и перевернутые чашки демитас, чтобы прочитать на их кофейном дне судьбу гостей. Но вот то, чего никто другой не видел – ни моя предсказательница ия-ия, ни моя ясновидящая мать, – так это то, что мои двоюродные братья были плохими. Не просто странными, чего я боялась в самом начале, а плохими в том смысле, в каком бывают плохими мальчишки, которые ругаются, плюются и хватают себя за интимные места. Мальчишки, которые заставляют тебя ощущать стыд, хотя ты не понимаешь, почему. Каждый раз, когда я подходила к кухонному столу, родители отмахивались от меня и без долгих раздумий бросали мне через плечо свой новый девиз: «Иди поиграй со своими братьями». Я бы предпочла втыкать канцелярские кнопки себе в ладонь, чем проводить время с этими братьями.
В Древней Греции, если верить «Британнике для подростков», «отец обладал абсолютной властью над своей семьей и другими людьми, которые жили в доме». Для меня этот тезис не был ни новым, ни древним. Мой отец орудовал фразой: «Мой дом – мои правила», – словно Зевс молнией: перед этой штукой нужно было падать и преклоняться. Он также был поклонником абсурдного афоризма: «Когда я говорю: „Прыгай“, – ты должна спросить: „Как высоко?“» В детстве я узнала, что есть только один правильный способ застилать кровать, полоть огород, мыть пол. В последнем случае – на коленях, всегда на четвереньках, лицом в паре сантиметров от затирки между плитками. Всякий раз, как отец въезжал на дорожку у дома, мать быстро зажимала телефонную трубку, и в момент его появления весь внешний мир исчезал. Даже мой брат однажды за ужином ощутил на себе его гнев за то, что неправильно ел спагетти – он не умел пользоваться ложкой, когда ему было семь лет или около того, – но, хотя бо́льшая часть отцовского внимания доставалась мне, Майк, должно быть, тоже вскрикнул где-то глубоко внутри себя, потому что тогда он поднял свой детский кулачок и показал отцу средний палец. Мы все были так удивлены этим его возмущением, что не смогли удержаться от смеха, а Майк убежал в свою комнату, наказывая сам себя.
И хотя мой брат на самом деле был открытым фаворитом, тем ребенком, который передаст по наследству добрую фамилию моего отца, я ошибочно думала, что такая благосклонность была случайностью. Я не ожидала, что всем без исключения греческим мальчикам сходит с рук все, что они только пожелают, но мне стоило об этом знать. В тот год в греческой школе двое моих одноклассников-мальчиков пробрались в женский туалет, взяли там два тампона и связали их нитки между собой, а затем бросили эти «ватные нунчаки» в нашего учителя посреди урока.
Когда уже плохое поведение мальчиков перестанет меня удивлять?
Особенностью этих новых греков было то, что они не сидели на месте. Однажды, пока моя мать была на работе, Георгия, привыкшая стирать руками, залила всю кухню водой, а вместо того чтобы использовать веревки, протянутые через весь двор, она развесила свое нижнее белье на дереве прямо посреди нашего переднего двора, да так, что ветви оказались прямо задрапированы большими белыми трусами и бюстгальтерами – словно море хлопчатобумажных фонариков из исподнего, сохнущие на ветру и у всех на виду. В другой раз она отправилась прогуляться по району, а когда вернулась, то принялась готовить – этим она не прекращала заниматься все то время, что жила у нас. Позже вечером, когда она накрыла на ужин – это было овощное блюдо под названием «хорта», – оказалось, что оно напичкано ингредиентами, которые Георгия нашла по обочинам дорог, на заросших полях и в садах у наших соседей. Вот так хорта. Рагу из травы и сорняков.
Как и все младшие братья, Димитрий следовал указаниям своего старшего брата, а для Теодороса любая игра означала три действия: привлекать внимание, ломать вещи или заставлять меня всю скукоживаться изнутри. Когда взрослые уходили хоть на несколько метров от дома, мы, дети, собирались на лужайке. Я очень бы хотела сократить ущерб, который могли нанести эти двое, но это было бесполезно. Примерно через пять минут после приезда Теодорос взял велосипед из нашего сарая и часами катался по улицам в своей куртке с надписью «Триллер», крича так громко, как он только мог, напротив домов всех тех, с кем я ходила в школу. При этом он не произносил слова, только издавал протяжные радостные выкрики, но с таким же успехом он мог бы кричать: «Лиза – стремная, а если не верите – посмотрите на меня!» Несмотря на десять лет отчаянных попыток скрыть мои странности, мое лето было отдано Греции, и я чувствовала, как этот сине-белый флаг, торчащий прямо по центру моего лба, развевается каждому встречному.
Выйдя на улицу, я больше всего любила переворачивать камни или бревна, чтобы изучать пульсировавшие под ними микромиры, а вот у мальчиков главным развлечением была добыча моего стыда. Теодорос и Димитрий бегали вокруг меня по лужайке перед домом, зажав меня в некое подобие вращающейся спирали. Они кружили и кружили, шептали и дразнили меня по-гречески, щипали меня за задницу, показывали на мою промежность, пока я не застывала как вкопанная и не начинала рыдать, чувствуя, что убежать от них невозможно. В конце концов я начала представлять их себе как Ортра, двухголового скотокрада из мифов, и это существо стремилось подчинить меня себе. Они оба заставляли меня очень хотеть в горячий душ и заполучить силы Медузы.
Но когда они сталкивались со своими родителями или моим отцом, то сразу начинали источать ангельское очарование, такое же насквозь фальшивое, как монахиня в борделе. Поскольку я постоянно находилась под пристальным вниманием отца, то у меня часто возникали проблемы – как за то, что я действительно делала, так и за то, чего не делала. Из-за того, что мои двоюродные братья не получали никакого заслуженного наказания за свои поступки, получая искупление простой греческой фразой в духе «Мальчишки всегда мальчишки», у меня под кожей ярким огнем разгоралось одно слово: несправедливость. Оно горело все ярче с каждой секундой, пока эти ребята жили в нашем доме.
Однажды вечером старшие поехали в Атлантик-Сити, чтобы посмотреть шоу. Из всех возможных вариантов такого мероприятия – концерт хорошей группы, мюзикл, парень на тротуаре с укулеле – они выбрали театрализованное представление Линды Картер. Это та самая Линда Картер, которая стала известна за свою роль «Чудо-женщины». Почему кто-то решил, что кучке греков, не говорящих по-английски, это зайдет, мне непонятно, хотя я догадываюсь, что сама по себе она была кем-то вроде амазонки. Но тем не менее. Это означало, что остальные, младшие, оставались с няней по имени Кристи – это была прыщавая, помешанная на мальчиках девочка-подросток, которая, наверное, получала пять баксов в час и говорила на английском в лучшем случае средне, потому что каждое третье слово из всех, что она произносила, было слово «типа».
Все началось с пиццы и MTV – уверенное сочетание, – но в какой-то момент все стихло, мои двоюродные братья куда-то ушли, и Кристи отправила меня искать их. Я нашла их в подвале, в том его помещении, которое служило моей матери танцевальной студией, в которой она после своей работы официанткой проводила джазерсайз за пять долларов с человека. Переполнившись радостью, братья раскололи надвое ее пластинку, и пол оказался усеян треугольными черными осколками. Я крикнула им, чтобы они прекратили, и сказала, что у них будут неприятности (самая пустая угроза, которую только можно было придумать), но они продолжали смотреть на меня, продолжая ломать вещи моей матери. Вернувшись наверх, я сделала то, что сделал бы любой расстроенный ребенок на моем месте: наябедничала. Но Кристи не могла их остановить. Она их не понимала – а кто вообще понимал? – однако ей как-то удалось загнать их наверх. Она улыбнулась мне, и эта ухмылка означала – мол, видишь, теперь все в порядке! – но мальчишки тут же закрылись в моей спальне. Замки в нашей спальне можно было легко взломать, всего одним поворотом ногтя, если вставить его в щель, но с другой стороны к двери прислонились. Мы с Майком стали барабанить ладонями и кричать, чтобы братья впустили нас. Когда же наконец дверь открылась, Теодорос стоял и улыбался, а в глазах его явно читалось злорадство. Позади него на полу были беспорядочно раскиданы наши игрушки: куклы были расчленены, из фигурок животных был вырван наполнитель, все из пластмассы было разломано на две части. Боль словно молотком ударила мне в виски – это была моя недиагностированная мигрень, и когда мальчишки со смехом ушли, я встала на колени и зажала голову между дверью и проемом, это был единственный известный мне способ облегчить эту боль.
Но они не успокоились. Совершенно. Они вышли на улицу и продолжили веселиться, разбивая все, к чему только прикасались, и производя столько шума, что любой порядочный сосед вызвал бы копов. Кристи стояла на ступеньках и кричала, с тем же успехом она могла быть птицей, выводящей свою ночную песню.
К тому времени, когда вернулись старшие, Кристи уже несколько часов была заперта в ванной. Я уложила Майка спать, хотя он не смог почистить зубы, а сама лежала в темноте и ждала. Я знала, что лучше не вставать с кровати после полуночи, но слышала из коридора, как Кристи сопя отчитывается перед моими родителями, а отец переводит сказанное для своей сестры и ее мужа. Родитель обладает физической силой, средствами для обеспечения жизни всей семьи и властью наказывать. Я думала, что отец просто уничтожит их – схватит за уши и будет бить до тех пор, пока те не начнут рыдать и просить прощения. Но мой отец не мог наказать чужих детей. Я представляю себе, как все смотрели на отца этих мальчиков, готовые увидеть взрыв. Но вместо этого он был настолько смущен поведением своих сыновей, что просто отправился на долгую прогулку.
Такое вот у них было наказание. Моя мать посчитала это верхом абсурда и до сих пор еще вспоминает тот случай, но что она могла сделать? Женщина – мать других детей – не имела власти над этими греческими мальчишками. И я не была уверена, что вообще кто-то имел над ними власть.
Пока их отец гулял по нашим освещенным улицам, я слышала, как в соседней от меня спальне эти мальчики смеются в темноте.
К счастью, им пришлось сократить свое пребывание у нас. Пока они грузились в машину, чтобы ехать в аэропорт, и старшие махали нам на прощанье, а двоюродные братья показывали языки, я смотрела только на свою ия-ия, неподвижно сидевшую на заднем сиденье, и тихо плакала. Позже, когда я уже повзрослела, но кошмары об отце все еще мучали меня, ия-ия время от времени появлялась в моих снах, причем ее образ выглядел точь-в-точь как в 1986 году, хотя мое подсознание любезно лишило ее каких-либо костылей. Она приходила мне во сне четыре раза, каждый раз, когда я больше всего в ней нуждалась, и в этом пространстве сна она могла сделать то, чего я так долго хотела, пока она жила у нас: она заставляла моего отца вести себя хорошо.
Как только семья отца уехала, он погрустнел. Он не мог вернуться в Грецию – ведь он сбежал с корабля во время обязательной военной службы в торговом флоте. Если вернуться домой даже в гости, то у него не было сомнений – он не пройдет таможенный контроль, а отправится из аэропорта прямо в тюрьму, как в какой-то эллинистической версии игры «Монополия». Не знаю, насколько это было правдой, но, когда несколько лет спустя моя ия-ия доживала последние дни на Крите в своей постели, мой отец не рискнул приехать к ней. Тот день, когда она покинула Нью-Джерси, был ее последним днем, что мы с ней провели, и лучшее, что мы могли сделать всей семьей – это зайти в притвор православного храма Святого Фомы, зажечь свечу и воткнуть ее в мягкий песок перед огромным витражом с Богородицей. Я всегда зажигала одну свечу и для себя тоже. Я до сих пор не уверена, можно ли так делать, но не думаю, что Бог возразил бы на то, что я обманываю таким образом систему. В конце концов, мне пригодилась бы любая помощь.
Глава 3
Игры
Бледные дети с ямочками на щеках, будто взятые прямо из сериала «Три моих сына» или из «Шоу Донны Рид». Само собой, девочки носят юбки, мальчики – брюки, у всех на головах густые прически, а лица сияют радостью. На двух фотографиях они держатся за руки – стоят по кругу или в ряд, а на третьем снимке трое мальчиков стискивают зубы и наклоняются в позе, при которой перетягивают канат. В «Британнике для подростков» перечислены прятки, пятнашки, вышибалы и классики, хотя большинство страниц статьи занимают игры, о которых я никогда не слышала: «Статуи-мячи», «Отними яблоко» или наводящее тревогу название «Сидящий Иерусалим».
Самой загадочной из игр там была «Блеф слепого», правила которой выглядят так: «В нее можно играть группами от пятнадцати до тридцати человек. Существует так много разновидностей этой игры и так много людей о ней знают, что она вряд ли нуждается в описании». Это, пожалуй, самый ленивый абзац, когда-либо появлявшийся в энциклопедии. Вы прямо чувствуете, как автор выдыхает: «Фух, да тут и париться не о чем». Первая строка всей статьи под названием «Игры» звучит так: «Вы когда-нибудь придумывали свою собственную игру?» Да, есть одна. Называется «Блеф слепого». Потому что я без понятия, что это за игра. Я представляла себе стадо детей с повязками на глазах, которые идут к обрыву и гадают, кто из них первым струсит, прежде чем сорвется в пропасть. Прошли годы, и теперь я понимаю, как мне повезло, что у меня тогда не было от пятнадцати до тридцати друзей.
Наедине со своими игрушечными животными я играла в больницу: медсестра Банни и доктор Медведь теряли своих пациентов с угрожающей скоростью. В конце концов они прилетали и зашивали Крякерса – утку-крякву, которую то и дело требовалось оперировать. А еще я играла в непрекращающуюся игру под названием «Еще быстрее». Вынести мусор? Принести банку фасоли из подвала? СМОТРИТЕ, КАК Я БЫСТРО. Запыхавшись, я возвращалась на исходную позицию, уверенная, что побила свой предыдущий рекорд, хотя на самом деле я ни разу не засекала время. В черном купальнике и розовом трико я смотрелась в зеркала в подвале, исполняя приседания, махи ногами, пируэты и – Stop! Hammer time![4]4
Строки из трека MC Hammer – U Can’t Touch This. (Прим. ред.)
[Закрыть] – пока меня не прошибал пот и я не выдавала себе звание лучшей танцовщицы в мире. Поклонись, сделай реверанс, помаши ручкой своим невидимым поклонникам. Это были одинокие игры ребенка, который отчаянно нуждался в том, чтобы его похвалили.
Вместе с Майком мы играли в «Монополию», морской бой, парчизи, а однажды открыли невероятно утомительную «Мышеловку». Я жульничала при каждом удобном случае – это было мое право по старшинству, а мой брат был хитрее и перестал играть в настольные игры, так что мы придумывали свои собственные. За кухонным столом после школы, когда родителей не было дома, мы соревновались, кто запихнет в рот больше виноградин, а потом били ладонями по переполненным щекам, обрызгивая друг друга мякотью и соком. Однажды в ванной мы придумали еще более мерзкий вариант этой игры и намочили в ванне свои носочки, прежде чем запихнуть их в рот, и с наших подбородков, пока мы хихикали, стекала теплая вода вместе со слюной. Но лучшие игры выходили у нас на песке открытого пляжа.
Со времен юности моей матери ее семья снимала летний домик на острове Лонг-Бич в Нью-Джерси, и эта традиция продолжается до сих пор. Я перестала ездить туда где-то в двадцать лет, но в детстве очень любила эти каникулы за их анонимность. Взрослые, занятые смешиванием джина с тоником и обгрызанием мяса вареных голубых крабов, теряли детей из виду, так что я гуляла по всему острову – неоправданно дорогие магазины в Бэй-Виллидж, по витринам которых ползали крабы-отшельники; разочаровывающие ресторанчики на пирсе номер 18, которые можно было описать двумя словами: «Только жареное»; одурманивающее детское казино в Фэнтези-Айленд с покером, хватательными кранами и непрерывным звоном монет, сыпавшихся в автоматы. Однако настоящее удовольствие заключалось в том, что никто здесь не знал ни меня, ни отца. Днем мы загорали, купались и копали песчаных крабов, карабкаясь на дюны только когда появлялся мороженщик с рожками и фруктовым льдом. А на закате мы стали супергероями.
Прежде чем уйти с пляжа готовить ужин, мать повязала на наши шеи полотенца, поцеловала наши головы, и вжух! – я стала Чудо-женщиной, а Майк Суперменом. Если бы мы только знали, что в 2013 году DC Comics расширит сюжетную линию, добавив отношения между героями, мы плюнули бы на них с отвращением и выбрали бы других персонажей. Но тогда солнце низко висело над водой, небо вокруг него пылало розовым и оранжевым, а мы гонялись друг за другом по песчаным замкам и забирались на пустые кресла спасателей, чтобы спрыгнуть с них на мягкий песок внизу. Затем мы играли в пэдлбол, а наши плащи позволяли нам отбивать такие мячи, на которые не способны простые смертные. В конце концов мы побрели домой, голодные и измазанные песком, а наши мышцы гудели от непрерывного смеха.
Но и на пляже не обходилось без трудностей.
Мы всей семьей вчетвером, а еще наши две тети и два дяди, их дети и моя бабушка жили в одном помещении, обычно это был дом с тремя или четырьмя спальнями, и в дождливые дни мы не могли прятаться друг от друга, поэтому дремали днем или садились играть в «Руммикуб» или «Уно», ожидая, когда пройдет ливень. Мой отец в эти моменты старался очаровать семью и сдерживал свой гнев, но эта его легкость была притворной. Словно курильщик травки перед тестом на наркотики, он готовился к тому, чтобы показать себя с хорошей стороны, очистив себя от всего плохого. Так было и в мои десять лет, ночью перед нашим летним отъездом на побережье. Тогда отец пришел ночью ко мне в спальню.
Меня разбудил звук, будто что-то проскрежетало или процарапало, и я осмотрела комнату в поисках его источника, но ничего не обнаружила. Если бы в моей комнате что-то оказалось, я бы проснулась. Даже сегодня, как только кто-то оказывается за дверью моей спальни, я просыпаюсь еще раньше, чем этот кто-то дотронется до дверной ручки. Когда я снова услышала тот же звук, то села, и прошло время, прежде чем звук приобрел свою форму, как будто я смотрела на увеличенную дольку нектарина, и поначалу она казалась апельсином, но потом фрукт стал уже ясно различим. В фокус моего зрения попало лицо отца: он стоял у окна моей спальни в саду, наблюдая за мной сквозь щель в занавесках и поглаживая ногтем сетку оконного экрана. Когда я подошла к окну, я поняла, что что-то не так: мое тело обдало жаром.
– Ключи забыл, – пробормотал он. – Впусти меня.
Он показал на входную дверь. Я проследила за его пальцем и увидела его фургон на дорожке. Если он потерял ключи, то каким образом доехал до дома?
В темноте, спотыкаясь, я добежала до гостиной, открыла дверь и побежала обратно в свою кровать. Я решила, что если двигаться достаточно быстро, то он сможет забыть о моем существовании.
Его силуэт появился прежде, чем он закрыл дверь, и я почувствовала его вес на краю моей кровати. Все мое тело горело, на ощупь оно было горячим, и этот жар будто булавками колол каждый миллиметр моей кожи. А потом я не чувствовала ничего.
* * *
Здесь не будет описания неприятной сцены, но не потому, что я не хочу ее описывать, а потому что диссоциация прилетела ко мне, словно летний ветерок. Травма манипулирует временем, а сексуальная травма вся испещрена бороздами пробелов и накладывающихся воспоминаний. Я не думаю об этом как о самом первом случае – по правде говоря, я могу почти с полной уверенностью сказать, что это не так, – но это был один из тех случаев, когда «до», «во время» и «после» остаются связанными в памяти. До – это скрип его ногтей по оконному экрану. Во время – это мое тело на кровати, зажатое под отцом, а мой разум где-то в другом месте, где угодно, но только не в настоящем. После – это я неподвижно, часами, смотрю в потолок, мои глаза привыкают к темноте, в то время как по другую сторону стены моей спальни отец храпит в постели рядом с матерью. Если постараться, я могла заглушить его храп, поэтому какое-то время я напевала придуманную мелодию и переворачивала подушку, чтобы охладить раскаленную кожу. Я помурлыкала эту мелодию еще немного, но прекратила, когда услышала новый звук: в стене возле моей головы прострекотал сверчок. И конечно, где-то далеко-далеко, возможно, на кухне, отозвался другой сверчок. Я представила, как они играют на своих крыльях, будто на скрипках, и потерла одну свою лапку о другую. Мое движение было бесшумным, но, возможно, в глубине дома кто-то услышит этот мой зов и отзовется.
* * *
Следующим утром мы отправились на остров Лонг-Бич, а вечером пришли в ресторан, построенный в форме корабля, и заказали свои любимые морепродукты – я взяла гору нежных морских гребешков. Заведение было переполнено, шум стоял слишком громкий, поэтому я снова ушла в себя, оказалась мыслями далеко от стола. Когда мы вернулись домой, я заперлась в ванной и терла кожу между ног, пока кожа не стала сырой, красной, опухшей и коловшей от боли. Я терла, чтобы освободиться. Я терла, чтобы стереть себя. Я терла до тех пор, пока не потеряла сознание на кафельном полу, стыдясь того, кем я была: сломленной девочкой.
Когда я очнулась, то вся чесалась, а под моими ногтями была запекшаяся кровь. В таком виде я пошла искать свою мать. От кожи на голове до самых ступней мое тело было покрыто розовым слоем крапивницы, и зуд был настолько сильным, что мне хотелось вылезти из своего тела и забраться в стакан холодного молока. Она отвезла меня в больницу, и там врач любезно сделал мне укол бенадрила и потом еще чего-то, я этого почти не помню, потому что уже клевала носом. На краю моей больничной койки сидела моя мать и гладила мои волосы. Я повернулась и перенеслась подальше от нее, погрузившись в самый крепкий сон за всю свою юность, мой мозг был одурманен, а моя повышенная бдительность отключилась. Мир потемнел почти на двадцать четыре часа, а когда я пришла в себя, то оказалось, что вся семья уже придумала миф, чтобы объяснить, что со мной такое: наверняка я съела испорченный гребешок.
* * *
Через несколько недель после поездки на пляж отец снова вошел ко мне в спальню, и мое тело напряглось. Он сел на дальний угол кровати и очень долго молчал, единственным звуком оставался стук моего пульса в ушах. У меня перехватило дыхание, и я почувствовала, как задрожала кровать. В ту ночь он не тронул меня. Вместо этого он плакал.
– Прости, что я сделал тебе больно, – говорил он в слезах. – Я не хотел этого. Совсем не хотел. Ты должна мне поверить.
– Я тебе верю, – тихо сказала я.
– Мне нужно, чтобы ты меня простила. Пообещай, что прощаешь меня, – он вдохнул и при этом издал шипящий звук из-за соплей в носу.
Его теплая рука обхватила мою лодыжку, и беззвучные слезы потекли из моих глаз к нему в уши.
– Я обещаю тебе: больше никогда, – сказал он.
В его голосе было столько искренности, столько абсолютного раскаяния, что я сказала:
– Я прощаю тебя.
И в темноте мы обнялись и разрыдались друг у друга на плече.
Я помню около дюжины таких извинений за те годы, каждое из них происходило в слезах и очень сумбурно, его голова была низко опущена и склонялась все ниже, пока я не давала свое прощение. Я всегда прощала, отчасти потому, что это позволяло ему убраться из моей комнаты, но главным образом потому, что я верила ему. Видеть горе так близко, изучать его и вычислять его правдивость – все это наполняло меня стыдом, как будто, лежа рядом с этим его стыдом, я выпускала в воздух его заразу. Возможно, так было потому, что я присутствовала при тех самых действиях, которые и вызывали у отца раскаяние и позволяли такому чудовищному опустошению подняться и выйти наружу из него. Я не знаю, в чем тут дело. Но точно знаю, что, когда он просил прощения, я ему верила. Я должна была. Без надежды на то, что он прекратит, без веры в то, что он способен контролировать себя, у меня не оставалось причин жить.
* * *
Я знаю, что некоторые считают семейные встречи радостным событием – это барбекю или выходные, полные солнца, выпивки и воспоминаний о старых добрых деньках, но я все еще чувствую себя неуютно в комнате со своей семьей, и тяжелый груз всего того, о чем они не знают, висит на мне, словно болотный камуфляж.
За год или около того до поездки на пляж семья моей матери собралась на курорте в Вирджинии, и вновь отец выпустил наружу свою скверну за ночь до того, как исполнить роль хорошего парня. На следующий день, на заднем сиденье машины, я прижалась лбом к прохладному окну, а пейзаж за ним менялся от дубов и сосен к канадским багрянникам и кизиловым деревьям. Я не спала полтора дня. Мне было десять лет.
Курорт представлял собой отель с темными панелями и был похож на лыжный домик летом – новое пространство для изучения, где так много мест, где можно спрятаться. Я быстро нашла лошадей, к этим животным я до сих пор обращаюсь, когда испытываю сильный стресс, и, хотя я слишком боялась ехать верхом, я подошла достаточно близко, чтобы поцеловать их мохнатые морды. Родственники прилетели туда со всех концов мира – из Венесуэлы, Германии, с Западного побережья, – и на этой вечеринке серебряные подносы всегда ломились от предсказуемой еды: там были квадратики мраморного сыра на крекерах «Ритц»; колбасные рулетики, разложенные веером; креветки, обнимавшие лужицы своего специального соуса. Там не было ни тарамасалаты, ни долмадес, ни тем более какого-нибудь животного целиком с мордой, которое вращалось на вертеле. Эти мерзкие взрослые каким-то образом были и моей семьей: рыжие и веснушчатые, люди с аллергией на полуденное солнце. Я не понимала, как могу вписаться в их компанию.
Кристи, сестра моей матери, долгое время была организатором в семье, и она придумывала развлечения, которые, как я полагаю, были призваны не дать всем напиться до невменяемости, а может быть, они проводились потому, что забавнее наблюдать за тем, как люди проверяют свою ловкость рук, в то время как запивают один коктейль другим. Сначала там была семейная игра «Двойное желание». Да, прямо как в шоу на канале «Никелодион» в восьмидесятых.
Мы собрались на широком и выжженном поле под июльским солнцем, а Кристи объясняла правила каждого этапа. Однако меньше всего мне хотелось играть со своим отцом. С тем же успехом нас можно было связать вместе для бега на трех ногах – такого конкурса там, к счастью, не было – и он побежал бы со всего маху, а мое детское тельце волочилось бы за ним по ухабам. У меня прекрасно получалось исчезать, оставаясь где-то на заднем плане, но «Двойное желание» – это было уже слишком. Все пристально следили за моим фальшивым весельем, а отец подбадривал меня, в такие моменты моя отчужденность становилась глубочайшей.
Когда игра прекратилась, мой отец все еще был заряжен адреналином.
– Наперегонки? – спросил он, но меня было не провести.
Я видела, как он бегает, и его скорость была просто нечеловеческой. Он рассказывал нам о том, как бегал на Крите быстрее мотоцикла. Я что, дурочка?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?