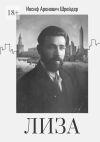Автор книги: Лиза Николидакис
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Когда мать вышла, я вытащила с полки том на букву «B» и раскрыла его. Сначала, отвлекшись на эссе о диких кабанах с иллюстрацией, напоминавшей бобра, я прочитала заголовок: «Лодки» [2]2
По-английски Boars и Boats соответственно. (Прим. пер.)
[Закрыть]. Оказалось, что на свете бывают легкие и моторные лодки, парусные суда и яхты. Я обнаружила там скучные факты о шпангоутах и вантах, стрингерах и лонжеронах. Однако ни одной лодке еще не удалось превратиться из самолета в морское судно. Я захлопнула книгу, и ее страницы крепко зажали мой большой палец, а в это время правда моей юности лишний раз подтвердилась: со мной определенно было что-то не так.
* * *
Мой отец родился в маленькой деревушке в центре Крита, небогатого острова южнее материковой Греции – это был самый крупный остров страны, полоса земли, напоминающая улыбку. Там есть и пляжи, и горы, и пещера, в которой родился Зевс, а также лабиринт, в глубине которого топал Минотавр. Оливки и виноград зреют на его твердой и сухой земле, а со всех сторон остров окружен глубокой, глубочайшей синевой Эгейского моря. Спросите любого жителя Афин, и он скажет вам: Крит – жемчужина Греции.
Но каждый хочет убраться оттуда, где родился.
Отец рассказывал нам о героях древности. Одиссей отправился из Итаки, чтобы спасти Елену и сразиться с троянцами, хотя его предупреждали, что путешествие домой займет годы. Он так хотел остаться со своей семьей, что притворился сумасшедшим, но греки хорошо умеют обманывать, поэтому Одиссей уплыл, и десять следующих лет его жизни пролетели, словно одно мгновение. На острове Серифос Персей счастливо жил со своей матерью, но царь перехитрил его, и тот нехотя отправился за головой Медузы, пиная камни, попадавшиеся ему на пути. Отважный Тесей прошел почти всю Грецию – маршрут его путешествия напоминает своей формой треугольник чипсов «Доритос» – и в конце концов убил минотавра в Кносском лабиринте. Даже Бэлки Бортикомус из «Идеальных незнакомцев» убежал от своей пастушьей жизни на выдуманном острове Мипос с вещами, запихнутыми в багажник, и табличкой, на которой было написано «В Америку, иначе лопну». Тут подразумевалась посредственная английская шутка, но все-таки «лопну»… Ну и слово. Как будто если останешься здесь, то умрешь. Чтобы по-настоящему состояться в жизни как грек, тебе нужно покинуть свою пыльную деревню, но ты глупец, если думаешь, что это проще простого сделать. Если мифология нас хоть чему-нибудь учит, так это тому, что там, вдали от дома, жизнь будет испытывать тебя на прочность снова и снова.
Если верить отцу, то его переезд в Штаты был не менее героическим. Он рассказывал подробности о своих приключениях так много раз, что бо́льшую часть этих рассказов я не могла слушать без поминутного закатывания глаз, однако одну из историй я запомнила очень хорошо. Когда я училась в первом классе, мы всей толпой направились в зоопарк Филадельфии на ежегодную экскурсию. Каждый день, держа в руке коробочку с обедом, я ходила одна до школы в конце нашей длинной улицы, но когда в то утро я открыла дверь, чтобы выйти, мой отец бросился за мной.
– Подожди меня, – сказал он и поймал сетчатую дверь, прежде чем она захлопнулась.
Я смутилась и посмотрела на него.
– Я отведу тебя сегодня, – сказал он и улыбнулся.
Мой отец отведет меня. Это был единственный раз, когда он вызвался сделать хоть что-то подобное, пока я училась.
Остановившись как вкопанная на нашей грязной лужайке, я оглядела его: темно-синяя майка, обрезанные джинсовые шорты, на шее висит камера, зубастая улыбка блестит золотой коронкой. Почему он не может выглядеть… по-нормальному? Позже «Британника для подростков» поведет меня по ложному пути, я стану мечтать, чтобы моим отцом был Тедди Рузвельт – не из-за его военных достижений, которые нагоняли скуку, а из-за его жилета и усов. Он никогда не носил майку на виду у всех, я была в этом уверена.
– Не хочешь, чтобы я шел с тобой? – спросил он, наполовину обвиняя, наполовину задевая меня, и у меня забурчало в животе. Мать говорила, что у меня «нервный желудок», но на самом деле мои внутренности заставляло извиваться слово, которым я не владела – «разоблачение». Мой отец, с его зарослями волос на груди и вязким акцентом, короткими шортами и золотым зубом, был моей тайной. Я не хотела, чтобы одноклассники видели меня сквозь его призму.
И хотя разоблачение было угрозой, от которой у меня едва не сводило судорогой все тело, под этим словом скрывался еще один слой правды: мой отец собирался пробраться в единственное пространство моей жизни, которое еще было свободным от него. Я была отчужденной ботаничкой, и школа была моим убежищем, отдушиной вдали от дома, единственным местом, где я могла рассчитывать на отсутствие отца. Рассматривая его на нашей лужайке, я думала о нем не как о том, кто проводит меня в школу, а как об армии захватчиков, которая пришла занять все пространство у меня в жизни, какое только сможет найти. Как Наполеон, только отец был выше.
– Конечно хочу, – тихо ответила я, и выражение на его лице стало более спокойным. Но как только мы вышли, я бойко зашагала в трех метрах впереди него. Когда мы так прошли половину улицы, он выкрикнул мое греческое имя:
– Гарифалица!
Я остановилась, и мои щеки обдало жаром. Он догнал меня и присел на корточки, положив руку мне на плечо. Ростом он был ниже нашего холодильника и невероятно подтянутый, смуглый, с густыми черными кудрями, которые обрамляли его голову, словно мягкий шлем. Сидя на бортике ванны, он не шевелился, пока я распрямляла ему волосы, отделяя ножницами прядь за прядью по сантиметру, а затем смотрела, как они волшебным образом заворачиваются обратно. Я думала, что он похож на Джонни Мэтиса с обложки альбома Hold Me, Thrill Me, Kiss Me – затхлой и потрепанной пластинки, обитавшей у нас в подвале, и, хотя никто никогда не соглашался со мной в наличии этого сходства, женщины явно находили его привлекательным.
– Ты что, стыдишься меня? – спросил он, приблизив ко мне свое лицо так, что я чувствовала запах «Олд Спайс» на его шее.
– Нет, – сказала я и посмотрела на его сандалии, в которые вцепились волосатые пальцы ног, будто какие-то экзотические гусеницы.
– Ну так и веди себя как следует, – он протянул мне свою тяжелую ладонь. Когда моя рука скользнула навстречу его грубой хватке, я была уверена, что больше со мной никто никогда не заговорит, что взять с собой этого человека на школьную экскурсию – все равно что притащить с собой пчелиный улей, чтобы все таращились.
Но он был там: в автобусе рядом со мной, сидел на трибунах в зоопарке, ожидая, когда покормят больших кошек, пока их рев и ворчание отдавались гулом в нашей груди.
Весь тот день у меня на глазах были плотные шоры, как и в другие моменты моего детства. Я не помню ни слонов, ни обеда, ни даже долгой поездки домой на автобусе в час пик. Вместо этого в памяти всплывает бронзовая статуя варана на задних лапах, установленная на высоком камне, и мой отец, который фотографирует меня и девочек, которых он оставил за старших. Нас трое, одна из них – та, с которой я сильнее всего хотела поменяться жизнями. Бет была со мной одного роста, у нее не было передних верхних зубов, но была идеальная челка и кожаный пояс, казавшийся мне настолько модным, что в ее присутствии я часто ковырялась в вылезших нитках у себя на одежде, надеясь, что смогу вырвать их раз и навсегда.
Отец сказал нам забраться на камень и встать вокруг скульптуры. Варан был сантиметров на десять выше, чем каждая из нас, а на ощупь был теплым. Когда отец закончил со снимком, то начал рассказывать.
– Знаете, эта статуя меньше даже, чем осьминог, с которым я боролся, когда приехал в эту страну.
Девочки переглянулись с широко открытыми глазами. Одна из них быстро втянула воздух.
– Да-да, это правда, – продолжил отец. – Чтобы попасть в Америку, мне пришлось плыть. Я не мог позволить себе место на лодке. Но к счастью, я неплохо плаваю, – сказал он и показал свой крепкий бицепс.
Мои одноклассницы захихикали.
Отец опустил камеру и стал держать ее перед грудью. Его голос стал глубже, будто сейчас он раскрывал тайну.
– Но когда появился осьминог, я знал, что должен быть сильнее его, умнее его, – при этом он постучал пальцем по виску. – Я хватаю его за шею, и он… его… Лиза, как сказать plokamia?
Сказав это, мой отец повертел рукой.
– Щупальца.
Он повторил это слово, но звучало так, будто его произнес Сократ. «Щу-пальцы».
– Когда я схватил его за шею, эти щупальцы били мне по лицу, по ногам.
Тут он прервался, чтобы провести своей извивающейся рукой по девочкам, которые завизжали от восторга.
Отец вздохнул и посмотрел в пустоту, ничего не замечая вокруг.
– Ну ладно, мы пойдем смотреть на животных?
Классический трюк.
– Подождите! Что случилось дальше? – спросила Бет.
Моего отца никогда не нужно было просить дважды. Он снова разыграл битву, схватил невидимого осьминога за шею, ударив сначала его своими собственными щупальцами – здесь раздался оглушительный смех, – а затем ткнул его в глаз, и этот прием в стиле «Трех бугаев» так напугал чудовище, что оно уплыло, окруженное шлейфом собственных чернил. В конце концов, устав плыть так долго, отец сел на спину кита – в тот день это был кит. В других случаях это был дельфин [3]3
Дельфины – это тоже китообразные, но, само собой, в первом классе я еще этого не знала.
[Закрыть], и такая подробность имела для меня больше смысла, потому что сидя на спине дельфина хотя бы есть за что держаться. Он сцепил пальцы за головой, чтобы показать, как расслабленно он сидит на спине горбатого кита. В этот самый момент позади отца свободно прошел павлин и приостановился, чтобы расправить перья. Его шикарный хвост открылся таким образом, что казалось, что это мой отец расправляет свое шикарное оперение. Когда рассказ был окончен, девочки смеялись, хлопали в ладоши и были готовы к новым историям.
На следующий день во время перемены ко мне, задыхаясь, подбежала Бет и пролепетала влажным, липким шепотом:
– Твой папа такой крутой!
– Правда? – спросила я, испытывая нечто между смущением и восторгом.
– Он такой забавный, – сказала она, и при этом капелька ее слюны вылетела и попала мне на рубашку.
Мне бы хотелось пробормотать что-нибудь себе под нос, может быть, расстроенно буркнуть: «Он тебе так нравится? Тогда забирай!» – но я совершенно точно этого не сделала. Я не могла сказать о нем ни одного плохого слова. Кроме того, я была из тех детей, что частенько не могут ничего выговорить.
Я ушла, чтобы посидеть в одиночестве под деревом. Там я взяла палку и провела ею по земле, так чтобы прочертить тонкие линии. Первая линия получилась неровной, я растопырила веером пальцы и стерла ее, а затем попробовала снова. Получилось тоже криво. Мне нужно, чтобы линии выстроились как римские цифры или же солдаты какой-нибудь войны, из тех, что я видела в одном из томов «Британники», но я продолжала натыкаться палкой на камешки, которые нарушали всю симметрию. Я чертила линии одну за другой, и вдруг в моем горле что-то толкнулось, это означало, что я сейчас заплачу, но вдруг показался черный муравей, и мое тело расслабилось. Я изучала его, пока он пытался проползти по моим линиям, его брюшко покачивалось над бороздками в земле и переваливалось через них. Пока он пересекал мою небольшую пустыню, я представляла себе, как он устал, пока добрался до вершины одного из углублений, а затем обнаружил, что перед ним еще одно такое же. Я задавалась вопросом, понимал ли он, что именно так теперь выглядит мир – бесконечная цепь холмов и низин. Когда он добрался до последней линии и его трудности почти закончились, я воткнула тупой конец палки в его маленькое тельце и повернула ее.
Даже тогда, в начальной школе, я понимала, что с моим отцом жить сложно. Как я могла объяснить, что у него есть как бы два прожектора внутри? Один светил теплым белым светом и заставлял тебя замереть, будто ты на сцене и готова поймать букет из дюжины роз, брошенных из зала, под бесконечные аплодисменты. А вот из другого прожектора бил глубокий красный свет, и под ним все твое тело становилось мишенью для ярости и жара. Иногда этот красный свет доставался моей матери и Майку, но, если где-то оказывалась и я, отец переводил этот прожектор на меня. Я помню, как он дважды ударил Майка, но только мой брат может сказать, сколько раз это случалось на самом деле. В конце концов есть своя выгода в том, что ты золотой ребенок. Но когда отец окрашивал весь мир в этот красный цвет, он мог кричать до тех пор, пока ты не начнешь дрожать и плакать, а мог и шлепнуть тебя по лицу, причем его тяжелая рука занимала все пространство от твоего лба до подбородка одним впечатляющим махом. А еще он умел цепляться ко всему, что ты считаешь хорошим в себе, и превращать это в твой недостаток с помощью всего нескольких слов. Ужасный дар, если чем-то отец и был одарен. Следы от пощечин исчезают, синяки заживают. Но отвергнутая любовь оставляет в душе клубок невидимых и незаживающих шрамов.
Как я могла выразить все это в детстве? Весь мир падал к ногам моего отца, когда он источал свое обаяние. Кто бы прислушался ко мне или поверил моим словам? Люди видели только белый свет прожектора, и я не могла винить их в том, что они ухватывались именно за эту красоту, за эту любовь. Красный свет он никогда не показывал никому вне семьи. Если бы я попыталась объяснить это Бет – да и вообще кому угодно, – она бы стала переводить недоуменный взгляд между мной и отцом, в этот момент отец сделал бы ей комплимент, попадающий в самую точку ее неуверенности в себе, и окончательно покорил бы ее этим.
* * *
Мне понадобилось больше двадцати лет, чтобы признаться матери в том, что рыба на фотографии была ненастоящей – и не потому, что это был наш с ним самый грязный секрет, а потому, что мать не из тех женщин, которые чтят семейную мифологию. Уверяю вас, я говорю это без осуждения. Просто мы приходим в этот мир каждый со своими навыками и целями. Я, например, охочусь за историями. Я настигаю их, прижимаю к земле, чтобы увидеть, из чего там они сделаны, даже если при этом они набиты жгучей крапивой, а моя мать позволяет историям проскальзывать мимо, словно незнакомцам в супермаркете: едва замечая их и мгновенно забывая.
Во многих отношениях ее выбор кажется мне более приятным, чем мой.
Когда я сказала ей по телефону, что никакой рыбы на самом деле не было, что все это обман, она задала вопрос, который задает всегда: «И как это я не поняла?» Звучит так, будто есть некая объективная истина, которую можно просто выудить из воздуха. Или будто если мы живем в одном доме, то у нас должны быть одинаковые впечатления и воспоминания.
Ясное дело, так просто не бывает.
В одних семьях жестокость заменяет узы. Представьте семью, которая заперлась в шкафу, и каждый обеими руками вцепился в дверцы, чтобы не выпустить из шкафа чудовище. Это настоящая командная работа. В других же семьях, таких как моя, жестокость – это игра в наперстки. Каждый из нас накрыт собственным наперстком и видит друг друга лишь изредка и мельком, когда рука ведущего тасует нас по своей прихоти. Я понятия не имею, что там, под чьим-то чужим наперстком. Я только знаю, что под моим было темно, там все было наполнено болью и ужасом, и лучшее, что я могла сделать, чтобы там выжить, – это включить лампу для чтения.
Глава 2
Семья
Мы жили в рабочем районе, на большинстве улиц которого стояли одинаковые дубы и одноэтажные дома. Изредка у кого-то появлялся двухэтажный дом или бассейн, и, насколько я понимала, такие люди были богатыми. Это все, что требовалось, чтобы произвести на меня впечатление: лестница и вода.
Мы были ячейкой общества из четырех человек – моя мать, отец, брат и я – а еще несколько кошек и собак, живших у нас в разные годы. Сибирский хаски, который, как я думаю, сбежал на Аляску от жары в Джерси. Золотистый ретривер, который, как мне сказали, провалился сквозь огромную дыру в полу гостиной нашего первого дома, который я не запомнила, и благополучно приземлился в подвале. Неряшливый терьер по кличке Маффин, которого я обожала, а все остальные проклинали. Тыковка, Китти и несколько других, их имена уже забылись, потому что они не прожили у нас достаточно долго, чтобы запомниться. Я была ошеломлена, когда кто-то в школе рассказал о своей пятнадцатилетней собаке. Даже наши домашние животные знали, что здесь лучше не задерживаться.
В первом абзаце статьи под заголовком «Семья» в «Британнике для подростков» написано:
От каждого члена семьи ожидают определенного поведения по отношению к другим ее членам. Эти виды поведения отчасти определяются обществом, в котором живет семья, отчасти – традициями, которые передают старшие члены семьи. Люди склонны вести себя так, как от них того ожидают. Если же они неспособны вести себя таким образом, то их не принимают другие люди в общине.
В слове «ожидают» заключена опасность. Кто следит за этими ожиданиями? Наших соседей, то есть нашу «общину», мы знали очень слабо: по соседству жили Бейкеры, эта пара выглядела несчастной и замкнутой; на углу жили Келли, точно такие же несчастные и замкнутые; странный дом рядом с нами менял хозяев чаще, чем пиццерия на соседней улице; напротив нас жили злые старики со своей ворчливой белой собакой, которая с годами становилась все более розовой. Никто из этих людей не был нам другом. Ни о какой взаимовыручке не шло и речи.
Я росла в греческой традиции и полагала, что вся наша община читала и глубоко усвоила басню «Волк и ребенок». В ней ребенок сидит на крыше и вдруг видит внизу волка. Он начинает забрасывать хищника камнями и палками, обзывает его по-всякому. А волк, хитрый до невозможности, смотрит на него и говорит: «Легко быть храбрым, когда ты так далеко». Это мысль в духе Эзопа: «Скажи мне это в лицо, братишка».
Может быть, люди вокруг заметили, что наша семья не такая, как все. Может, я чувствовала себя в такой изоляции, потому что нас не принимали другие. Может, соседи и говорили о нас за ужином или лежа под льняными простынями. Но никто ни разу не постучал к нам в дверь. Никто не вызвал полицию. Никто не перешел дорогу волку.
Оба моих родителя работали в закусочной: отец – поваром на гриле, мать – официанткой, там они и познакомились. Во время поздней смены мой отец вышел с кухни и подошел к стойке из холодного мрамора, за которой стояла моя мать, там он уверенно оперся на локти и попросил стакан сливового сока. «По понятным причинам», – шутил он. И каким-то образом его борьба с кишечными запорами смогла очаровать мою мать настолько, что она согласилась пойти с ним на свидание, которое должно было состояться на набережной Джерси в бургерной, которая с ног до головы утопала в ностальгии по пятидесятым годам. Рабочие графики моих родителей в закусочной и наши школьные расписания накладывались так, что кто-нибудь из нас всегда или торчал в классе, или горбатился в ночную смену, или отсыпался после долгой ночи, проведенной за приготовлением или подачей еды.
Как и многие другие, кто разрушает свою семью, мой отец утверждал, что семья – это самое главное. «Без семьи ты ничто», – часто говорил он, а затем повторял эту фразу на греческом, как будто если что-то прозвучало на двух языках, то это лишь укрепляет высказанную истину. А воскресный ужин был самым большим проявлением семейного единства.
Однажды вечером я помогала ему на кухне. Я девочка, которая вечно чистит картошку над мусорным ведром и вылавливает оттуда скользкие картофелины, которые так и норовили выскочить из моих рук. Несмотря на то что отец зарабатывал приготовлением еды, его не напрягало заниматься этим и дома. Он руководил всеми процессами на плите, наполнял дом ароматами Греции – тушеная рыба, курица или кролик, причем на всех блюдах оказывались орегано, лимон и оливковое масло.
Когда мать раскладывала еду по тарелкам и подавала на стол, отец сказал: «В этой рыбе мелкие кости. Будьте осторожны». Я и Майк кивнули, и действительно, бо́льшая часть трапезы ушла у нас на то, чтобы отдирать острые косточки от языка, а не на то, чтобы наслаждаться вкусом морского окуня.
Мои родители говорили о подготовке спальни – к чему именно, я не понимала, – но тон отца по мере разговора становился все более резким, и в конце концов мать просто смотрела к себе в тарелку.
После еды отец разделил на десерт два апельсина – каждую дольку отдельно, причем кожуру полностью не снял, – и мы с Майком засунули кожуру с этих долек перед зубами и широко улыбались этой челюстью, а сок яркого цвета стекал по нашим шеям, когда мы пытались так говорить и смеялись. Родители перешли в гостиную, чтобы выкурить по сигарете перед телевизором, а я заворачивала остатки еды и загружала посудомоечную машину. От фасолакии (это блюдо из печеных помидоров и зеленой фасоли) осталось, наверное, пара кусочков – явно недостаточно, чтобы завернуть их на хранение – так что я вытряхнула их из сковороды в мусорку с помощью бумажных полотенец. Спустя несколько часов, уже после того, как я легла в кровать, мои глаза в темноте открылись в тот момент, когда отец коснулся ручки моей двери.
Он оказывался в моей спальне всегда не к добру.
Я стала вспоминать, что могла сделать не так, и тут же прокляла себя за то, что выбросила еду. Все-таки, если у нас на тарелках оставался нетронутый кусок печени, нам часто напоминали, что в мире есть голодающие дети.
– Что это? – спросил он, его голос прозвучал рыком и басом.
Я прищурилась в темноте, его силуэт освещала лампа в коридоре, и когда мои глаза привыкли к свету, я поняла, что он держит в руках те бумажные полотенца, которыми я пользовалась после ужина.
– Не заставляй меня спрашивать снова.
– Там осталось совсем немножко, и я… я… выбросила, – запинаясь, проговорила я.
Когда он шагнул вперед, я ползком села и вжалась спиной в угол кровати.
Мой отец наклонился и провел холодными грязными остатками пищи на салфетках по моей щеке.
– Никогда, никогда больше не трать бумажные полотенца, – крикнул он и вышел из комнаты.
Я ждала, когда раздадутся его шаги в спальне, когда я услышу, как закрывается дверь. Я все ждала и ждала, пока томатный вонючий сок стекал по моему лицу, когда отец захрапит – это был единственный знак о том, что теперь можно пойти в ванную и вымыть лицо – стараясь не встречаться глазами с девчонкой в зеркале.
Прямо через дорогу от окна моей спальни стоял самый красивый дом в нашем тупиковом квартале: полукирпичный, с террасами, с ландшафтным дизайном во дворе. Однако меня не волновали ни ухоженные газоны, ни архитектура. Меня волновала только Стейси. Она была старше меня на семь лет, у нее были длиннющие волосы с искусственной сединой, а еще была джинсовая куртка, сплошь покрытая нашивками. Когда она выходила из дома, то уносилась в своем «Понтиаке Файрбёрд», на капоте которого золотистым металлическим цветом была нарисована огромная «кричащая курица». Я думала, что у Стейси есть все, чего нет у меня, и вместо того, чтобы ненавидеть ее за это, я любила ее. Из своей комнаты я следила, как она перекатывает машину на дорогу, и изо всех сил старалась запомнить все, что с ней связано, с момента ее выхода из дома и до момента, как захлопывается дверь гаража.
Помните ли вы этот юношеский голод? Жажду быть частью чего-то, навязчивое желание быть старше, нравиться подросткам, которые при этом едва считают тебя человеком? Если я стояла на нашей лужайке, когда подъезжала Стейси, то выпрямляла осанку, старалась выглядеть как можно более нормальной и молилась, чтобы она сказала мне что-то, ну хоть что-нибудь. Она никогда ничего не говорила. Ну еще бы. Зайдя внутрь, она наверняка думала: «Опять эта странная девчонка пялилась на меня. Какая же она жуткая», – и она была права.
Но чего я от нее вообще хотела? Я хотела внимания, и только его. Любого внимания, которое только могла получить. А еще доброты. Я хотела, чтобы она заключила меня в свои джинсовые объятия и сказала, что я могу жить с ней, вообще без вопросов. И то, насколько я хотела этого, настолько сбивало меня с толку, что я скрывала это годами и была уверена, что это просто еще что-то прогнило внутри меня.
* * *
На четырех страницах, посвященных семье, «Британника для подростков» ни разу не упоминала о дедушках с бабушками, но моя ия-ия приехала с Крита, когда мне было шесть лет. Она навещала меня по-гречески: в течение пяти долгих лет хромала за мной с ложкой уксуса для питья, когда у меня что-то болело, ставила мне банки, когда болела я сама. Сгорбившись, она зажигала огонь рядом с моим телом в лихорадке, затем ставила стаканы на спину, и моя кожа втягивалась в их вакуум, создававший прохладный воздух. Другими словами, когда я болела, моя ия-ия покрывала мою спину идеально круглыми засосами.
Как и все ия-ия в Греции, она с головы до ног одевалась в черное, так как пребывала в вечном трауре по своему мужчине. Ее длинные волосы были убраны назад в тугой пучок всегда, если только она их не расчесывала, а когда все-таки распускала их, то они водопадом спадали ниже ее плеч. В своей толстой ортопедической обуви она передвигалась на костылях, ее суставы были зажаты в тиски артроза, пальцы и лодыжки распухали от узлов. Нас связывали двойные узы: мое второе имя было ее первым, Гарифалия, что переводится как «гвоздика», и она была единственной с голубыми глазами в моей семье – ее васильковые радужные глаза проливали свет на то, как я оказалась в этом нашем темноглазом клане.
Я надеялась, что приезд моей ия-ия заставит отца вести себя прилично, но и в ее присутствии ничего не менялось: он заявлял, что любит ее, но при этом обращался с ней, как со служанкой. Эта женщина лет шестидесяти целыми днями стояла, облокотившись бедром о плиту, и постоянно что-то помешивала, выпекала, ждала, когда поднимется тесто, а на кухонном столе дребезжало греческое радио. В конце концов она медленно садилась, ее лицо морщилось, и она издавала низкий хрип вместе со вздохом, это был звук тела, выпускающего воздух от боли. Если мой отец это и замечал, то не подавал виду.
Мы быстро поняли, что с ия-ия не стоит смотреть драматические сериалы по телевизору, потому что она верила – сколько бы раз мы ей не объясняли, – будто актеры на самом деле умирают в полагающихся сценах, и молилась Богородице за упокой их души, трижды крестясь. Я смотрела вместе с ней шоу «Верная цена», которое она называла «большой игрой», и я практиковала свой греческий в разговоре, пока шла реклама. Она называла меня paidi mou, то есть «дитя мое», это прозвище было насквозь пропитано добротой.
Но она была из тех женщин, про которых окрестные дети сочиняли разные байки и которых боялись, будто ведьму или странного отшельника. Хотя в нашем крохотном уголке Нью-Джерси любой, кто не говорил по-английски и одевался в черное, вполне себе смахивал на ведьму или странного отшельника. Когда в подростковые годы я была готом и панком, меня так часто называли ведьмой, что со стороны это выглядело, будто я ходила в среднюю школу в 1692 году.
И при этом она не особо старалась развеивать эти мифы. Ия-ия утверждала, что у нее на затылке есть глаза – она говорила эту фразу так часто, что ее вполне можно было вписать в центральной клетке при игре в бинго – и, хотя она почти не выходила из дома, эта женщина всегда знала, когда я замышляю недоброе. Так было и когда я крала четвертаки из родительского кувшина, чтобы купить дешевые конфетки, и когда пробовала ругаться нехорошими словами, скрывшись ото всех глубоко в лесу возле нашего дома. Поздним вечером я смотрела, как она достает свои зубы и кладет их в стакан на тумбочке. Я была ошеломлена тем, что женщина способна вытаскивать изо рта свою же челюсть.
Хоть она и обожала меня, само ее пребывание здесь обогащало почву для роста моего стыда – а это была настоящая луковица, много лет росшая у меня в груди. Я понимала: она не виновата в том, что жила тихой деревенской жизнью, что ее мир так мал, но меня возмущало, что она этим только заставляла меня чувствовать себя еще большей неудачницей. Я не задумывалась о том, как по-настоящему ей было трудно: женщине без образования, без мужа, без денег, а порой и без еды. Мне никогда не приходило в голову, что все эти трудности сделали ее самым интересным человеком из всех, кого я знала. Вместо того чтобы подумать об этом, я была слишком занята беспокойством о том, как она может ненароком повлиять на меня, как само ее присутствие может выдать тайну о том, что я не такая, как другие дети. «Хотя бы она не выходит из дома», – думала я. Моя единственная подруга Джина больше не приходила ко мне. Предыдущим летом мы забрели в подвал в поисках мороженого, но когда открыли морозильную камеру промышленных размеров – эту громадину отец приволок (или украл) с работы в закусочной – то на нас уставилась целая и невредимая козья голова. Так что я успокаивала себя тем, что скорее всего никто даже и не увидит мою ия-ия.
Но затем приехало еще больше греков.
В июне 1986 года мы впятером ехали по невыносимо скучному шоссе Нью-Джерси в аэропорт Кеннеди. Отец и ия-ия ехали в пахнущем новизной «Бьюике» – отец купил его себе в качестве подарка моей матери на День святого Валентина – а я сидела на заднем сиденье ее видавшего виды «Форда» и время от времени пинала сиденье, на котором сидел Майк. Звук вырывающихся выхлопных газов нашей машины резонировал по обе стороны моста Верразано, эхо от него разносилось между Бруклином и Стейтен-Айлендом, а мы неподвижно сидели внутри и задыхались в пробках без кондиционера, стекла были подняты, и широкие волны выхлопа окружали нас. Волосы мои прилипли к шее, я волновалась. Эта новая семья наверняка странная. Я была уверена в этом. Я снова пнула сиденье Майка.
Я была уверена, что узнаю своих двоюродных братьев, хотя видела только одну их фотографию, облупившуюся по краям, – на этой фотографии мальчики по имени Теодорос и Димитрий стояли на грунтовой дороге, прижав руки ко лбу, и щурились от солнца. Как по мне, они выглядели там довольно мило, но никто не посылает за границу фотографии своих детей, на которой они ведут себя как придурки. В зоне прилета международных рейсов все они выглядели одинаково в моих юношеских глазах: оливковая кожа, темные волосы, они обнимаются и кричат, а говорят так быстро, словно ветер дует мне в уши. Так продолжалось до тех пор, пока отец не вскочил и чуть не сбил женщину с ног своими объятиями, и только тогда я поняла, кто же именно мои родственники.
Георгия, сестра отца, была более грубой версией его, квадратной и приземистой, похожей на бульдога женщиной. Она ослепительно улыбнулась нам, при этом ее клыки выдались вперед и выглядели острыми, оба этих зуба были желтыми, как чай. Позади нее стояли два брата, которые только что провели шестнадцать часов в клаустрофобном пространстве салона, наверняка изводя друг друга и пассажиров вокруг, а теперь обменивались ударами в плечо, но на эти их поступки никто не обращал внимания, они оставались в тени воссоединения семьи, к которому все шло семнадцать лет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?