Текст книги "Вы не знаете, где ночуют чайки"
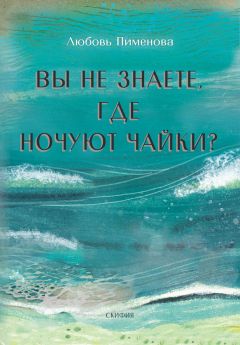
Автор книги: Любовь Пименова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава 2. Семья. Начало пути
В семью Нюра попала работящую и крепкую. Заправлял всем дед Филипп, суровый нравом и справедливый, не въедливый к молодой снохе. Да и матушка была к сношке добра и учила всему без выговоров, без характера. «Ты, девка, смотри и примечай, а чего не знаешь, – спроси, за спрос не бьют», – говаривала она. Нюра и спрашивала иногда, но больше старалась наблюдать, что и как. Как тесто поставить, как тщательно и медленно каймак с толстой поджаренной корочкой сверху сделать, как чисто-начисто белье в Дону постирать и просушить. Да мало ли. В девичестве, по младшинству в семье не все домашние работы поручались ей – берегли ее, а утром мама или бабушка шепнут: «Позарюй, касатка, позарюй еще!», да дверь ее комнатки покрепче и прикроют от шума на дворе. Не то сейчас – мужняя жена должна все успеть, – она работница в доме, а дела ежедневные шли косяком. К вечеру уже была без ног, даром, что молодая. Когда мужики приходили домой и умывались на дворе или в тазу, она поливала Гавриилу на шею, спину, на голову, утирала свежим полотенцем и радовалась преждевременно, что день забот окончен и остались только ужин и отдых.
Но всегда оказывалось, что и подать на стол и убрать с него, а потом перемыть и перетереть посуду, а после еще и подмести кроме нее больше некому. Понятно, что не свекровино это дело, но и сестра Гавриила, черноокая Мотя, не очень-то охоча была до дел на кухне. Она уже приближалась по возрасту к «перестаркам»:
восемнадцать с половиной – это по хуторским меркам много – и настроение у нее не всегда было подходящим для разговоров и нежностей, а сношка была проста и бесхитростна, так и пусть знает свое место. Мотя была отцовской любимицей, и это особое место в семье обеспечивало ей поддержку в любой спорной ситуации. Бывало, и обижала она Нюру резким словом или презрительным пожатием плечика в ответ, да и за спиной могла обидное сказать матери или Грише про неумеху и криворуку.
Аннушка, как и полагается снохе в семье мужа, только вздохнет неслышно и идет дальше работы работать. А жаловаться нельзя, не положено. Да и жилось ей по большому счету покойно и счастливо. И совету бабушки, аккурат перед свадьбой данному, она сама следовала, а потом дочерям и внучкам передала по наследству – что бы днем ни было, разругались-расшумелись или что еще, идешь в кровать – все забыла, все оставь там, в дне. И хорошо поэтому им было с Гавриилом, когда повечеряв, они шли на свою половину и попадали в свой мир, где не было ни обид, ни колких слов, ни усталых рук и ног.
Один день отправилась как-то Нюра родителей проведать, в одиночку, – муж со свекром по делам куда-то наладились, да и у свекрови заботы нашлись, она и одобрила: «Сходи, чего ж не сходить, пожалься на свекровь злую», – и улыбнулась.
Вот дома радости-то было, мамушка и слезинку пустила:
– Как ты там, жалкая моя? Не сильно забижают?
– Не забижают, нет, маманя, да и Гаврил не даст, он жалеет.
– Как Мотька-то, замуж еще не собирается? Видела ее надысь с Петрухой, Толстопятовых батраком. Уж и выбрала себе крученого, – нябось, Филипп не рад?
– Да и не знаю, маманя, мне они не говорят. А Моте недавно новую дошку и ботиночки со шнурками справили, свекор с ярмонки привез. И Авдокея говорила – Мотя у нее цветочки свадебные приходила смотреть, может, присматривает. Вы-то тут как, не скучно без меня? Управляешься? Ой, пойду в комнату свою, как там все сейчас?
– Ну сходи проверь, может, что еще забыла, так забери. А я пока на стол соберу – вон и Степушка к обеду возвращается.
Встреча со старшим братом была такой же сердечной. Рассказал, что родители скучают без нее, у мамушки иной раз глаза на мокром месте, переживает за дочку «в людях». В хозяйстве все ничего, слава Богу. Жениться вот надумал, скоро к Наталье сватов будем засылать. И так-то хорошо было побывать дома, втянуть ноздрями его воздух и снова почувствовать ни с чем не сравнимое ощущение покоя, любви и тепла.
Теперь ее жизнь была включена в круговорот времен года и сельских работ, а еще в то новое, что несло в себе ее новое положение – жены и, кажется, скоро-скоро – матери. К весне она уже ходила тяжелая первенцем, оказавшимся горластой крепенькой Анфисой. Гавриил ждал, конечно же, наследника, но, когда взял на руки это тепленькое тельце, взглянул в такие же голубые, как у матери, глаза, сказал: «Девка. Ну и хорошо. Следом парень будет».
А следом была опять девка. Назвали Параскевой, да только имя свое она недолго носила, за неделю истлел младенчик – никто не знал, от какой напасти-болезни. Долго-долго еще звучал этот хриплый плач и слабенький кашель в Нюриных ушах, и тельце горячее помнили руки. И душа свербила так долго, что казалось, никогда не отболит. Нюра едва не истаяла за полгода, почти без еды и сна, не слушая увещеваний матери и свекрови – у тебя дите! – потому что глотать разучилась. И сна не было ни в одном глазу, несмотря на усталость и полное изнеможение после долгого дня забот. Анфиса и вытащила. Уж такая ласковая девчонка получилась у Гаврила и его Аннушки, такая сноровистая и хваткая, все ей знать и понять надо. Вопросами замучает за день. И когда уже умучает ее вконец, а дела не переделаны, то и отправит ее на другую половину, к бабе с дедом. А тем и радость угостить лакомым кусочком и порасспросить ее о новостях ее младенческих, да и рассказать ей про Репку да Курочку Рябу, про Бобку-сторожа и свинью Машку в хлеву, про батенину Серую, да про лису и волка во полях и лесах. Бабушка особенно любила поговорить про Боженьку, про доброту его и всевидение (грешить-то нельзя – накажет).
– Баба, а я когда ночью под кустиком писаю, он тоже видит?
– А вчера я у Бобки мячик порванный взяла и выбросила, теперь Боженька накажет?
И так-то славно бабке эту головушку шелковую гладить и улыбаться неприметно в душистый затылочек.
Тут и опять отяжелела Аннушка, на радость мужу. Кто будет – не обсуждали, был бы жив и здоров младенчик. Носила легко, только в конце беременности не могла уже все управлять, так семейным советом решили, что Мотя будет за старшую и на кухне, и в хлеву. Той мало радости, да куда денешься, отец сказал – значит, приказал, а вопросов не задают в казацкой семье. К этому времени Нюрина золовка уж и в самом деле застарела, вроде, как и глаз не блестел уже тем озорством и своеволием, не было той бойкости и цекавости, но все так же не могли Филипп с Федосьей уговорить ее отказаться от крученого ее. Уже и отслужил Петруха и готов был хоть сейчас вести зазнобу свою под венец, но нет, ждали кого-то или чего-то отец с матерью. Невдомек им было, что встречи их непослушной дочери с неугодным кавалером уже приводили ее к бабке-повитухе, и того они, мудрые, предположить не могли, что когда-нибудь порадуются за нее, ставшую наконец женой по новым временам большого человека, Петра Ефимыча. Члена совета бедноты, вон как вышло-то. И посему избежит она участи всей ее кулацкой семьи. Одно плохо – деточек у них никогда не будет. Но на то Божья воля.
К самому цветению яблонь подгадала третья Гавриловна, Раиса. Родилась быстро и заголосила громко, чистый кочеток утренний. Весело, радостно, вот, мол, дождались, я и пришла. И все было как у первенькой: ручки-ножки на месте, тельце чистенькое, складненькое, – все бы хорошо. Одна беда – губа. Заячья. Как кормить, как растить, замуж выдавать? Простые житейские вопросы, и отвечать на них самим, – никто не подскажет. Снарядили процессию в Калач, найти врача и починить маленький ротик, пока дите с голоду не обкричалось – молочко материнское вытекало, и девочка никак не могла насытиться и уснуть покойно. Поехали Филипп, Гавриил и Нюра с маленькой. Нашли, зашил врач губку. Как смог зашил. Грубая, почти топорная работа его никогда не позволит Раисе говорить чисто и не стыдиться своего лица. Никогда не удастся ей избавиться от мысли, что она – урод среди нормальных, нежеланная среди любимых, и хоть мать жалела ее чуть больше, чем остальных, и помогала столько, сколько могла, Рая все равно будет жить с этой своей бедой и этой так остро ощущаемой обделенностью.
Но время двигалось то быстрее, то медленнее. Зима сменялась весной, весна летом. Только-только набухли почки на деревьях, а вон уже и яблоки спеют, а там и дожди зарядили. А вон, гляди, надо санки доставать – девчат катать с горки ледяной. Дети подрастали. Анфиса и Раиса были дружны, разница в возрасте была невеликой, и они делились своими маленькими секретами и тайнами друг с другом и иногда с бабушкой, если считали, что не продаст и не накажет. Грехи их были птичьи, радость жизни била через край – ну когда же и радоваться жизни, как не в детстве. Нюра же вернулась ко всем своим обязанностям ровно до той поры, пока не поняла: понесла. Зимним вечером, отужинав, уложив детей, сообщила мужу, зардевшись. Гавриил воспринял новость, как и положено отцу семейства, со сдержанной радостью и тайной надеждой.
– Может, парень теперь, – тихо спросил жену, стараясь не разбудить дочек в соседней комнатке.
– Ну кто ж знает, – пожала плечиками с улыбкой Аннушка, боясь дать ненадежную надежду. Да что ни будет – все наше. Вон они у нас какие, сверестелки, все бегом, все скаком, помощницы материны скоро уже. Чем нам девки-то плохи? Ну уж там что Бог пошлет…. Да по правде-то я ныне по-другому хожу, – может, и пацан.
Шустрый больно, так и толкается под сердце.
– Ну добре, ты уж тут управляй да не усердствуй, поберегись. А Аннушка тихо зашептала вечернюю молитву, расплетая густую, длинную по пояс, косу.
Глава 3. Дашенька
Стучала и толкалась в животе, как пацан, а оказалось – опять девочка. Темноволосая, глазастенькая, крикливая. Ночами воевала, требуя молока и рук. Пришлось перестроить всю жизнь на половине молодых: взяли ее на родительскую постель, к матери под бочок – Гаврилу и девчатам покой ночной дать. Ему с рассвета день крестьянский начинать, да и детишкам без сна никак нельзя. Вот и перешел отец-кормилец ночевать во флигелек, как они его называли, хвигель, благо, лето, теплый запах сена и свежий ветерок с Дона усыпят раньше, чем голова коснется подушки.
Ну вот уже и три их стало, три Гавриловны. Старшие две худенькие, тонкокостые, темноволосые и смуглолицые, в отца. Уж на что голосистые на улице, с подружками, – играют, да заспорят, да расшумятся, а потом и расхохочутся ни над чем, – дома же все по-другому. Никакого непочтительного слова и гама с шумом в присутствии старших (с мамой чуть попроще, конечно), а особливо, когда дед и отец возвращались после трудного дня, усаживались за стол вечерять и начинали свои, большие, разговоры. Так уж принято было в семье – мужчинам за столом лучший кусок и первая ложка, они работники, кормильцы. Мальцам – вторая очередь, мать же себя скорее обделит, если чего не хватит на столе.
Никто с законом, сложившимся задолго до них, еще в незапамятные времена, спорить не брался, да и зачем, – он и закон потому, что внутри – с молоком матери впитался. Батене и слов тратить не нужно было, его взгляда одного достаточно было, чтобы вопрос решался быстро и бескровно, а если какая малость и ерунда девчачья, то до него и не допускалось: мать с озорством справлялась сама. Инструмент воспитания был всегда «под рукой», объект тоже рядом – только наклонись, и хоть рука была маленькой и несильной, но шлепок приводил в чувство быстро и эффективно. В самом крайнем случае произносилась фраза: «батене скажу» – ну тут только глухой не услышит-не поймет.
Дарья, малая, пока еще лежала «поперек кровати», сосала мамино молоко и была, по мнению сестренок, плаксой, но это был, конечно, наговор. Она кричала строго по делу: голодная, мокрая, где-то колет, трет, болит, – в самом деле, как еще дать им понять, что ей требуется. А если все на месте, нигде не «свербит», – она могла долго сама с собой гулить, рассматривать потолок (что она там видела?) или свои пальчики, не требуя лишнего внимания со стороны. Через пару-тройку месяцев ее благополучно переселили с отцовской половины кровати в свою люльку в девчачьей комнатке, и с переменой места она утратила и особое положение в семье. Пока мать управлялась с пеленками и по хозяйству, надзор за нею передан был старшим. А она получала в руки какую-никакую игрушку мусолить и пробовать пробивающимися зубками, воду в бутылочке и полную свободу самовыражения – перекатываться на бочок, сосать пальчик, кряхтеть, пускать пузыри. По теплу в садок выносилось одеяльце, и уже там, на траве под яблонькой, она играла, засыпая под легким ветерком, набираясь сил и новых умений: хватать, сжимать, поднимать голову, когда удавалось перевалиться на животик, издавать новые звуки. За лето и осень набрала вес и пухлые щечки, стала справной, как говаривали хуторские.
В тот год осень стояла долгая и необычно теплая, ласковая, солнце уже не палило, но грело и землю, и деревья, раскрашивая в красный цвет спеющие фрукты и арбузы под зелеными тонкими корками. Поля еще не утратили своей зелени, а донская вода глубины и синевы. Стога соломы, с торчащими из середины стожарами, устремленными прямо в небо, казались золотыми шатрами из какой-то волшебной сказки. Теплая и жирная земля, виделось, готова была снова рожать. В один из таких дней Даша оставлена была на двух нянек, у которых появилась новая игра – пускать щепочки в кадушках, где отстаивалась и подогревалась вода для полива. Поливать было уже нечего, но по привычке вода все еще наливалась в деревянные бочки, наполовину врытые в землю, и использовалась для разных хозяйственных нужд. Подтянув одеяльце с маленькой сестренкой поближе к игрушечному морю, Анфиса и Раиса приготовились к состязанию, набрав щепочек-корабликов. Малая подтягивалась уже на ручках и ухватилась за край кадушки, пытаясь понять, что там происходит. Визг и смех, и брызги во все стороны!
– А твой утонул! Моя победа! – вопила старшая.
– Не-е! Вон всплыл, а у меня еще есть, и еще наберу, – это Раиса. Отползла от бочки и давай руками возить по земле, отыскивая новые деревянные кораблики.
– А мои все на воде и плывут дальше твоих! Смотри-смотри, а чего ты там ковыряешься? – она тоже нырнула вниз, пытаясь опередить сестру и найти еще хоть одну щепочку.
Маленькая Даша, пользуясь возможностью потрогать водичку и поплюхать в ней ручками, потянулась и неловкое тельце, покачавшись на краешке большой бочки, тихо, почти без шума, нырнуло в темную глубину. Там было плохо, она хотела закричать. И не могла.
Но закричала старшая откуда-то сверху:
– Мамушка, баба, Дашка утонула!
Ей вторила тонким писком Раиса:
– И-и-и-и-и, маманя, мамушка, ое-е-ей!
Пока Рая, голося, вглядывалась в глубину воды и шарила руками, пытаясь обнаружить маленькую сестричку свою, у старшей хватило умишка бежать к дому, крича во всю мочь:
– Ой беда, беда, скорее! Помоги-ите!..
Обе женщины уже неслись к огороду, Нюра добежала до кадушки первой и выхватила свою девочку, свою жалкую, прямо из цепких рук Кощея. Бабушка без звука схватила младенца и перевернула вверх спинкой.
Учить их, выросших на реке и перевидавших всякого: и утонувших, и только захлебнувшихся, что делать с маленькой своей, уже изрядно нахлебавшейся, было не нужно. Через некоторое время, остановив кашель и слезы Даши и рев старших, напуганных до смерти за почти утонувшую сестренку и страшащихся наказания, мать и бабушка не нашли ничего лучшего, как привести трясущихся детей в хату. Посадили за стол, покормили да отправили в кровать. Все разговоры – завтра. А сейчас только – слава Богу!
Все, Дашенька тоже накормлена, уснула у матери на руках, прижата к груди, качается вместе с мамушкой, напевающей-стонущей какую-то новую колыбельную с одним только ритмически повторяющимся звуком: «А-а-а-а, а-а-а, а-а-а-а, а-а-а…», и только снова и снова в перерыве между пением повторялось одно и то же: «Слава тебе, Господи! Жива».
Но происшествие это имело свои долгие последствия. Дашенька стремительно начала худеть и из крепенького младенца превратилась в худенькую бледную малышку, с синими веночками, просвечивающими сквозь светлую кожицу, так что бабушкино прозвище «синежилка» закрепилось за ней надолго. И хвори цеплялись одна за другой. То горло болит, а то кашель бьет, так и боролись с болезнями чаями на травах, медом да малиной пока не выросла.
Может, оттого, что сама много терпела и слаба была здоровьем, Даша росла уж такой жалостливой и нежной сердцем, что каждая пташка и козявка была ей другом. И кроме «синежилки» она и еще одно имечко получила и от сестренок, и от подружек: «Плакса». Нашла воробышка в пыли на дороге с открытыми навечно глазками, – сядет и плачет долго и безутешно. Потом хоронить понесет куда-нибудь, щепочку найдет, могилку выроет и цветок наверх холмика положит. Свинью Машку должны резать, тут уж и совсем драма, не только Даша ревет ревом, но и матушка ее вторит, что и в рот не возьмет мяса. Вроде даже и отбили болезную, но семейное предание не доносит точных сведений.
Долго ли – коротко ли, опять Аннушка понесла, – радым-рада, уж очень это трудное и самое главное дело ей было по нраву. Ребеночка вынашивать, ждать-мечтать, каким он будет, и как муж будет рад – опять семья полнится, за стол все садиться будут – надо локти поджимать – вот какая семьища у Гавриила Филиппыча. И свекровь со свекром радуются – плодовитая сношка у них – жена сынки старшего. Но что-то как-то в этот раз не так пошло, не той стороной. И головушка у Нюры кружиться начала, и живот все болит да ноет. А тут и у свекрови, Федосьи Илларионовны, ноги отниматься стали. Начали старики думать, где помощь взять и вспомнили про вдовую сестрицу троюродную Нюрину, которая сынка-десятилетку сама воспитывала. Поехали в село дальнее. Переговорили с нею, договорились месяцев на пять-шесть поселить в «хвигеле», утеплить его и оборудовать, а по окончании срока помочь провизией и дровами.
Работы у Авдотьи было немало, двух хозяек замещать – мальная ли махина. И старалась она и не лентяйничала, но норов у бабы был – не дай господь. Уж такая характерная: и не смолчит, и где надо-не надо встрянет, и всем все обскажет: как все быть должно.
И ко всему сказанному обязательно добавит: «Вот тах-то вот!». Спорить и объяснять было бесполезно. Нюра перемалчивала – у нее задача понятная была, а у свекрови иной раз и терпежу не хватало, так и хотелось иной раз крепенько и внятно сказать, по-простому, без церемониев.
Вопрос разрешился сам собой, как часто и бывает в жизни. Как-то дети играли на заднем дворе, называлось у них – на задах, верховодил, конечно, Авдотьин Никитка. По старшинству и по своему мужескому происхождению он начинал игру, обозначал правила ее и, конечно, выигрывал. И в прятки, и в догонялки, которые назывались у них «Чур меня!», а в этот раз Никитка посулил проигравшему показать что-то.
Ну конечно, маленькая Дашка, как она ни старалась, – перебирала своими худыми ножками не так споро, как большие, и, как обычно, проиграла. Никитка велел всем стоять на месте, а Дашу отвел в сторону, к кустам черемухи, и через минуту она с ревом выбежала оттуда. Присев на крыльцо и закрыв лицо руками, она продолжала плакать, тихо подвывая. Никита, стоя чуть в сторонке, сплюнул на землю и презрительно бросил: «Дура квелая! Не зря мамка говорит – малахольная». Успокоить ее не могли ни сестры, ни вышедшая на крыльцо мать. Бабушка, как всегда, тихонечко, приобняв, увела девочку в дом и там после допроса выяснилось, что пятилетняя Даша увидела то, что ей совсем не нужно было. Этот остолоп не нашел ничего умнее, чем спустить перед нею штаны и показать что-то такое мерзкое и страшное, что ребенка было не успокоить и не утешить.
И мать, и бабка, даже не взглянув друг на друга – не только что ни словом не обменявшись – приняли единодушное (вот уж точно, одной душой) скорое, но единственно верное решение. Ведь знали точно, что гнев мужиков будет страшным – и обидчику-охальнику не избежать сурового наказания. Девчат в доме никогда не били, но розги на подворье водились. Переговорили в срочном порядке с Авдотьей, она все поняла без разъяснений, собрала свои гуни и кое-что от Нюры (пусть берет, только от греха подальше!) и, сказавшись больной, вместе с сыном покинула дом в срочном порядке, не дожидаясь прихода мужиков.
Глава 4. Жизнь. Просто жизнь
Аннушка очень старалась: тяжелого не поднимала, руками вверх не тянулась, на холодное не садилась, и даже на детей, если и заслуживали, ни разу не шумнула. Почитай, восемь месяцев так, жалеючи себя, проходила. И в доме, и на дворе все как-то затихло, и даже скотина кричала, мычала и кудахтала будто вполсилы. «Ну еще чуть», – думалось ей, да и живот вырос куда выше прежнего, вот уж месяцок – и срок придет. Но случилось по-другому. День все тянуло, ныло, к ночи воды отошли, послали за Алтуфьевной на другой конец хутора, аж за мельницей. Пока она прибыла, все было готово: горячей воды вдоволь, пеленочки и легкое теплое одеяльце, и шапочка с кружевами, связанная бабкой для старшеньких и хранившаяся для такого первого одевания младенчика. Дети уложены были в дальней спальне у стариков и давно видели свои сладкие сны. Криков и суеты им не положено было слышать и видеть.
Момент торжественный и волнующий, и каждый раз все равно бывало страшновато: как все будет-обойдется. Ручки-ножки целы, закричит сразу, не порвется ли мать?
Все началось быстро: роженица уже знала и когда вдохнуть поглубже и как боль разрывающую в себе спрятать и не выпустить через сцепленные зубы, а тут и повитуха подоспела. Точно вовремя. Проворными движениями и односложными командами организовала все пространство вокруг и Нюру подготовила к главным движениям, а тут уж и головка маленькая показалась, крошечная, прямо как игрушечная. А вот и вся она здесь, деточка, снаружи. Но не кричит, а как спит еще. «Как же разбудить ее?» – думает Нюра сквозь туман полуобморока. Охи, ахи, шлепки легкие, – тихо. Повторяются те же звуки, шлепки погромче, тихо. Тихонечко, как сквозь тряпочку, плач, слабенький, – живая, живая моя деточка!
– Девочка али парень?
– Девчонка, еще одна Гаврилова наследница. Ой, Нюрка, ну ты и мастерица девок рожать, – хохотнула Алтуфьевна. И через минуту заквохтала, – Ох, стойте, бабы, там еще не все у нас. Нюра, давай, еще работай, тута их двое. Надо второму помочь.
Вторая девочка оказалась еще меньше и слабее первой, тоже невеликой, слабенькой, тоже недоношенной. Сколько ни старались, ни оживляли младенчика, никак кричать заставить не могли. «Не жилец, – произнесла свой приговор повитуха, – да и первенькую надо будет в шапке растить, уж больно слаба». Слабы оказались для этой земной жизни обе малюточки, к вечеру того же дня преставилась и младенчик Василиса, а ее уже и заждалась Акулинушка. Вместе в этот свет пришли – вместе и назад воротились к отцу своему небесному.
Двое суток сидела не вставая Аннушка у стола с двумя маленькими гробиками на нем и смотрела – насмотреться не могла на ангельские лица деток своих. Все в белом они были, и лица их белы, красивы уж и точно неземной красотой. На лицах покой и даже вроде как улыбка легкая застыла – не успели помучиться, ангелы. Плакальщиц не звали – шума и криков не перенести было ни матери-отцу, ни дедам, а девчат старших отправили к бабушке, Нюриной матери, где вовсю уже хозяйничала Степушкина жена молодая, Наталья. Она и кормила-поила, и говорить говорила им про смерть и про жизнь вечную, а глаза их испуганные показывали, что не понять детям этого и не поверить пока. (Ничего, поймут со временем, жизнь все разъясняет, хочется нам этого или нет).
На третьи повезли младенчиков хоронить, в той же тишине, которая крика громче. Нюра волосы на себе не рвала, в яму не кидалась; только уже все сделав: помыв поминальную посуду, расставив все стулья по местам, поцеловав головки дочек, приведенных назад домой, – легла и провалилась в беспамятство. Неделю билась в жару и бреду, – опасались, что уйдет вослед, но нет, крестьянские корни удержали на земле.
Придерживаясь за стеночку, слабыми шагами вышла на крыльцо, присела на завалинку, взглянула на небо. Первой подскочила Дашка, прижалась к мамушке, головку на плечо положила. Следом Раиса подошла, с другого боку села, потрогала мать за плечико, погладила, заглянула в лицо. Анфиса подобралась спереди, присела на землю перед матерью, положила руки той на колени, а свою голову на руки. Тихая драгоценная минута. Вы мои жалкие.
– Завтракать будем?
Дни шли за днями, жизнь на хуторе не становилась легче и веселее. Кто-то из батраков уходил в город, кто-то в колхоз, работы на хозяев падало все больше. Филипп, хоть и был еще бодр и так же жилист, как и в молодые свои годы, но чувствовал, что силы уже не те. К вечеру так ухайдакаешься – до утра силы не наберешь. Нужно было пристраиваться ко времени, уменьшить посевы, сократить скот на подворье. Все вопросы решались с сыном, они вдвоем главные решатели, но и жены их прежде принимали участие в этих семейных советах, их мнения принимались как совещательные. С некоторых пор эта вторая половина семьи – Мотя к тому времени вышла-таки за своего Петра Ефимовича и была отрезанным куском – так эта совещательная часть совета понемногу отказывалась от своих прав и добровольно отдавала все на откуп мужикам. Свекровушка Нюрина как-то неожиданно скоро слабеть здоровьем стала, и одна работа и одна радость занимали ее и мысли, и досуг. Внучки ее толклись в комнатке на «дедовской стороне», слушая ее истории из той давней древней жизни, когда она еще молодушкой была. Но и не только поэтому; они следили за тем, как проворно она режет и сшивает разноцветные кусочки ткани или считает петли, вывязывая очередной узор на жилетке или даже носках, и ожидали обновок. То одеяло из кусочков сошьет одной прямо к Рождеству, а на нем разноцветная степь и вода речная голубыми кусочками, да еще и подсолнухи из остатков нежно-желтого, купленного еще ее бабушкой и бывшего наволочкой на ее праздничной постели. То жилеточка к весне готова, с вывязанными жар-птицами на груди. И каждой обязательно к зиме теплые носки – ноги в тепле надобно держать. И внучкам выдано ужо по пять спиц, вот они и постукивают-пощелкивают ими, а бабка проверяет, так ли на пятку выходят, не теряют ли петли по дороге. И не ленится проверить да посчитать под прысканье в кулачки и переглядывания. Дело это хорошее, женское, да и веселое. И время с хохотушками да неумехами идет так споро и сил прибавляет, а не отнимает как бывалоча.
У Нюры работы не убавилось, а прибавилось. Девчата подрастали быстро, вон Анфиса уже и в невесту тянется. Как была малая, так и теперь такая же разумница: все ей знать надо, и сделает все в точности так, как велено. Да и учительница ею довольна. С недавних пор под школу и читальню выделили избу бабки Ильинишны, так что учили грамоте почитай рядом с домом, а не в соседнем селе, как раньше. Опять же, о приданом думать пора, потихоньку складывать в сундучок. А там следом и Раиса подтягивается, мала еще, конечно, да время пробежит и не заметишь. Послушливая и помощница первая материна, одна беда – обидчива очень. Особенно если ребятишки дразнятся да губку ее заячью поминают.
Дарья подрастала, такая же жалостливая и отзывчивая, последнюю корочку разделит. Да больно проста, всему верит, каждому слову, обмануть ее – и труда не надо. И как учить-то – не будешь же виноватить весь белый свет, чтоб оглядчивее была. А времена все круче и тяжелее. Земля как будто перед грозой большой, не глядя, что после семнадцатого года и до сего еще и не установилось все, и все то туда, а то сюда движется, как гирька в ходиках. И все новости одна непонятнее другой. Но надо жить, девок растить, работы работать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































