Текст книги "Вы не знаете, где ночуют чайки"
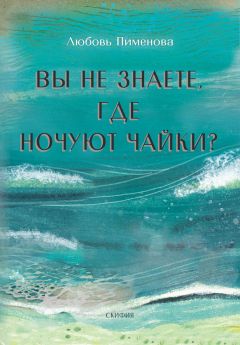
Автор книги: Любовь Пименова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава 5. Поскребыш
Зима сменяла осень, за нею шла красавица-весна, а там и лето поспевало. Краса вокруг – в любое время года, любуйся – не налюбуешься. Места во все стороны от Дона на версты – красивее не сыскать: разнотравье, полевое разноцветье – от нежно-сиреневого цветков клевера до желтого подсолнухов и ромашек, от небесно-голубого полевых васильков до страстно алого маков. Крепкие стройные деревья и разбросанные кучками по полям и дорогам кустарники долго сохраняют яркость и свежесть, едва ли не до первых морозцев. Летом дерева укроют от зноя путника или притомившегося работника зелеными пушистыми шапками, а как осень придет – цветами огня долго еще полыхать будут, сплетая вместе желтые, оранжевые и красные листья.
Воздух чист и свеж поутру, он пахнет арбузом и парным молоком, и речной прохладой тянет снизу от реки, вдоль по хутору и дальше, – туда, туда, к пашням и полям. После ночного томного соловья кажутся шумными, но оттого не менее родными, утренние звуки села: радостное пение петуха, довольное квохтание да кудахтанье выполнивших свой долг курочек на подворье, голодное мычание выгоняемых коров, радостное чавканье поросят, скрип колодезных цепей.
Аннушка любила эту пору дня: вставала легко и быстро, привычка ложиться рано и вставать затемно сохранится у нее навсегда. Утром, умывшись и прибрав волосы под светлый платочек, она уж мелькает то здесь, то там. Девчатам дозволяется позаревать, – ничего, у них еще все работы и заботы впереди, пусть понежатся чуть. В долгий сельский день им тоже хватит дела, у каждой свои обязанности и спрос серьезный. Животина не будет ждать, обкричится, – тут не отговоришься «не успела» али «забыла». А уж на кухне матери да бабушке помочь – это и работа, и забава. Картошку почистить да нажарить или яишню сварганить уже и Даша в ее семь-восемь умела, про блины и говорить нечего, да даже и тесто на пирожки-пироги поставить любая хуторская девчонка сумеет. И щи сварит, и холодец к празднику разберет, и за труд не сочтет.
А как праздники подойдут – радость и детям и взрослым: отдохнуть, сладко поесть да повеселиться. Собраться за большим столом, а по теплому времени его выставят прямо на дворе – вот это и начало гулянья, все лучшее – на белую скатерть: и разносолы и овощ поспевший и мясо, – хорошая еда празднику украшение. Про дела не говорят, шуткуют, смеются, на лицах – ни заботы и ни думы тяжелой, – этого и в будни хватит, это все потом. Сегодня душа и тело отдохнуть должны. А потом уж смотря какой праздник – церковный или какой другой – и веселиться будут по-инакому. Песни играть на голоса – это уж завсегда; голосистые на празднике в почете и всеобщем внимании, они ведут мелодию, голоса сильные и чистые, а остальные подхватывают и вторят. И все это вместе так складно и так душу над землей поднимает, век бы слушал – не наслушался. А плясать начнут под песни веселые – пойдут по кругу впристукочку-впритрясочку – ну павы, не смотри на возраст! Платочки белые подостают, кружавчиками мелкими отороченные, крючочком малым понавязанные, да как поднимут свою ручку вверх, как выбросят тот плат и закружат в хороводе. И юбки их длинные да оборчатые распушатся цветастым конусом, а монисто позвякивает свою мелодию на груди. А ежели гармонь завелась – тут уж никто не устоит.
Там и у мужиков начнутся свои игры да состязания: прыжки да кувырки. По большим хуторским праздникам и на поле да с конями казаки будут свои умения показывать в выездке и владении саблей.
А детвора, наевшись да налопавшись за своим детским столом, уже гоняет по селу, сегодня голосить и горлопанить можно – никто не заругает. Пацанам интересно подглядеть, как там отцы да старшие братья веселятся, послушать мужские разговоры – но со стороны: малы еще с большими рядом сидеть, не все для их ушей предназначено. Девчата, конечно, к женской половине ближе подбираются – песни послушать, моды посмотреть.
И шел тогда уже девятьсот двадцать восьмой год, обычный совсем год, даже революции и войны в тот год не случилось. И только два года оставалось семье Гавриила Филипповича и Анны Леонтьевны с их чады и домочадцы и родным и двоюродным их, и соседям частью, – порадоваться жизни и потрудиться до седьмого пота, да и поплясать, стуча каблуками, на гулянках, детей кормить да учить уму-разуму. Два только года оставалось им жить на родной земле, где могилы их предков, где каждый угол и закоулок понятен и знаком. Неведомо им еще это, ибо не дано нам знание будущих наших радостей и бед. Может, к добру неизвестность эта, иначе как бы люди жили да выживали на земле этой многотрудной и многострадальной. «Ну и слава Богу!» – сказала бы Аннушка…
И поэтому веселится Гаврил на свадьбе племяши своей двоюродной, выпил и водочки, как полагается. И полез поперед своих ровесников-сорокалеток – уже отслуживших казаков, сноровку и силушку свою показать. Дурашливо сражались и боролись они и кувыркались через голову прямо на траве зеленой шелковой. Скрутило его тут же, не отходя от ристалища. Подсобили мужики – отнесли домой, на кровать уложили. А тут уж и жена стоит головой качает:
– Ну чего случилось опять? Накувыркался, победитель… Живот сорвал? Где болит? Надо за бабкой посылать.
– Мать, сглазили, наверно… Болит живот – мочи нет…
– Ну да, вестимо… От черт красивый, сглазили его опять, – и, спрятав улыбку, уже громче Анфисе, готовой бечь на другой конец хутора: – Да скажи Егоровне, пусть чугунок сразу прихватит, поди опять живот поднимать надо.
Этот год, одна тыща девятьсот двадцать восьмой, был радостен еще одним событием, ничем не героическим, совсем не великим, почитай, едва ли не обычным событием в многодетной семье. Как будто нечаянно, без подготовки и ожидания (да и не ждали уже – все эти счета закрыты были и опечатаны) вдруг, словно в сказке взяла да и народилась у них еще одна дочка. Опять девка! Словно по взмаху волшебной палочки – раз и явилась она, не ожидаемая и тем более желанная. Вскричала сразу и, словно зная, что в этом мире надо всего добиваться самому, заголосила и затребовала еды и тепла. Обмыли, завернули в тепленькое, да и матери на грудь, – там-то самое лучшее место и оказалось. Матушка как прижала мягенько, да руками обвила – так и нормально и не страшно, даже и в этом новом месте неплохо. Да и молочко у мамушки нашлось. Вот и хорошо девчушке – на месте теперь.
А тут и народ набежал – родня, куда теперь от них: надо знакомиться. И батеня с усами и чубом седым; погладил по головке, – рука шершавая, но ласковая. Сороки, наперебой вскрикивая «ой, ушки», «ой, носик какой маленький», все потрогали, носами потыкались, целуя в нос и щеки, пообслюнявили и успокоились, сели на скамеечке подле маменькиной кровати. А тут большой, с волосами белыми по всему лицу и с голосом зычным, разглядел что-то в малом кулечке и отрезал: «Ну вылитый Гаврил, глянь, и шустра, видать сразу, – казак, чистый атаман!» – и рассмеялся счастливо.
А мягкие руки бабушки прикрывали ее еще одной толстой пеленочкой и крестили мелко и часто. Так в кругу семейства, в натопленной хате, спеленутая туго, как принято было в те дальние уже времена, среди радостных восклицаний и тихих улыбок начиналась ее жизнь на земле.
Наутро пришли дед и баба с Аннушкиной стороны, а братик ее Степан с женой и Мотя с мужем своим-начальником появились попозже, дав матери и новорожденной попривыкнуть друг к другу.
Ульяной назвали своего поскребыша родители, а дед Филипп, подумав день-другой, незнамо почему – да он и пояснять не стал, выдал свое патриаршье решение: «Ульку на меня запишите, – пусть не Пимкиной, как мы все, а Филипповой будет, в мою честь и память, пусть мое имя носит, таково мое слово». С патриархами не спорят – по его и вышло: из четырех дочерей Гавриила только одна Ульяна носила другую фамилию, – по имени деда своего, и перестанет она быть Филипповой только когда выйдет замуж. Таковы изгибы патриархальной истории.
Росла девчонка в любви и баловстве – самая маленькая, ну как не потетешкать, не посмеяться над неумелыми попытками все понять и попробовать; например, встать, держась за табуретку ли, стеночку ли и, оторвавшись, проковылять два шага, а потом со всего маху плюхнуться прямо на подскочившего некстати Ваську и потешно чесать поцарапанную попку. И тут же, забыв уже об инциденте, схватить махрак – сладкую замену пустышки – и, сунув его в рот, пускаться в новое приключение, ползком ли, короткими ли переходами-перепадами. И три няньки не помехой были для глубокой разведки в кухне, в сестрицыных коробочках да сундучках малых, а то и на дворе, если повезет исчезнуть незамеченной.
И ничего в ней, в этой малятке, не было суматошного или скандально-капризного, – да, если схотела чего, обозначит прямо и недвусмысленно. И заорет, если надо, если не поймут сразу или проигнорируют. Но все это как-то понятно, все натурально, из нормальных потребностей исходяще. Вот эта-то понятность и естественность, помноженная на уверенность в своем праве хотеть и делать то, что считает нужным, спокойная независимость маленькой совсем девчоночки, принимаемая иногда за упрямство (если чего задумала – достанет, потрогает и попробует обязательно) складывали ее характер.
И то: «казак, атаман девка», – сказал дед Филипп, а он, старый, знал в людях толк.
Глава 6. Мироеды
Весна тридцатого года. Как и всякая весна, она пришла не сразу, а с холодами да поздними заморозками, а потом раз – и потеплело. Стало казаться, что все козни и угрозы зимы уже позади. И вдруг, когда почки на яблонях набухли и готовы уже были выбросить первые белоснежные соцветия, откуда-то налетел легкий и самый последний снежок. Спасибо, солнце подогрело с утра и развеселило землю, а теплым ветерком и поголубевшим сразу небом обозначило полный переход власти к весне-красавице.
Полевые работы заканчивались – семена уже легли в подогретую землю. Усталость от тяжелой весенней страды снималась мыслями о будущем урожае, летних заботах, удлинившимся днем, когда и после работы оставалось светлое время для отдыха и семейных посиделок.
Забежала в кои-то веки на огонек да на чаек Авдокея. Нечасто виделись душевные подружки как стали за мужьями да с детьми да с хозяйством. Тем радостнее было отложить все дела хоть на часок да погутарить-посплетничать.
Душка вошла в хату, громко поприветствовала:
– Здорово были, хозяева, как живете-можете?
– Слава Богу! – это свекровушка Нюрина. – Как сами-то, здоровы ли? Парни-то твои как, мать-отец не хворают? Да садись проходи, чего давно не заходила?
– Все ничего, теть Фень. Родители здоровы, пацаны растут, одежи не напасешься, – как горит на них, окаянных. Уже и младший постреленок подрастает, а старшой и отца скоро перегонит.
– Да видала надысь Илюшку твоего, ну прям мужик, и справный и уважительный, узнал, поздоровался. Управляешься со всем кагалом своим?
– А куда ж их денешь? Приходится управляться. Вот только беда – бабушка как-то обезножела, совсем плохая становится, из хаты уж и выходить не хочет. Не знаю, сколько Бог даст.
– Ох ты ж напасть! Да Акулина всегда молодцом была, может, и выправится еще, Бог милостив. Поклон ей от меня. Ладно, девчата, пойду я, у меня там еще делов на базу, да Улюшка скоро подымется. А вы уж тут почаевничайте сами, без меня управитесь.
Она ушла, прикрыв за собой дверь. Авдокея взглянула на Нюру, покачала головой, нахмурилась чуть:
– Ты сама-то как, никак схудала? По правде, ты никогда справной и не была, а с вашим-то хозяйством, иии… Да и я умаялась с мужиками своими. Трое парней да сам как дите, ничего не справит. Как хотели дом довести до ума, так и хотим дононе. Руки у моего Ивана не так растут – ой, да ладно, опять меня понесло по той же тропиночке… Да, видела твою старшенькую на дворе – ну чистая ангел: уж такая расхорошая да голубоглазая, прям светится. И коса русая, и стать Гавриловская: высокая, как вербочка, – невеста, одно слово. Вот повезет кому-то скоро.
– Ну ты, подруженька, чего-то темнишь, чего нахваливаешь, уж не сватать собралась? – Аннушка усмехнулась, качая головой.
Прихлебнув из стакана горячий чай и улыбнувшись в ответ, Душка продолжила:
– Эх ты, мать, а главного-то и не видишь: Илюшка мой давно уж по твоей Анфисе сохнет. Может, и породнимся скоро.
– Окстись, Авдокея, она девчонка еще, пусть погуляет, ей только семнадцатый пошел. А твоему уж да, пора, вот ты и засуетилась. Ишь чего удумала, явилась в кои веки и заместо разговора доброго надумала тут меня пужать. В вашем-то хозяйстве работница нужна, чего ж непонятного, но нет, рано ей еще, – и, сменив тон и тему, – Чаю-то подлить? Вон кусок каныша бери, испекла сегодня, девчата любят…
– Ну на нет и суда нет, а я что хотела – то сказала. А ты думай головой, не говори потом, что не предупредила.
И еще одно сказала Душка, что всколыхнуло душу Аннушки и не отпускало до самой той минуты, пока не пришел муж и, отужинавши, не отправились они к себе. А новость эта была такая страшная и такая непонятная, что долго лежали они в эту ночь без сна и говорили, и вздыхал Гаврила, и всхлипывала жена его. И понять это было никак невозможно, и казалось, что кто-то недобрый придумал сказку страшную не для детей, а для взрослых, и взрослые и сильные не знают, как эту сказку отменить или хотя бы понять, где тот злодей сказочный обитает и что замышляет.
На дальней, километров за тридцать от Илларионовки, деревне Мариновке, оказалось, выслали несколько семей зажиточных казаков, забрав все, до сапог и головных платков, оставив почти в чем были, загрузив на подводы с детьми и стариками. Куда их отправили дальше – никто не знает. Бумага, вишь, пришла сверху – «раскулачивать мироедов». Дома и дворы, скотина и инструмент, одежа и мебелишка – все осталось в пользование обчества. Новость эта потихоньку кралась по хуторам и станицам, пока еще шепотом, заставляя замирать сердца сильных и злых на работу справных казаков, у кого и на базу и в поле порядок, и полито все мироедское хозяйство их едким потом. И дети сыты и поля засеяны в срок. Ан вишь ты – враги и злодеи они оказываются.
Слухи слухами, а Душка принесла эту новость уже из первых уст – у Ивана в Мариновке жил кум. Там и по сей день еще стон стоит. А с другой стороны и радость: кое-кто одежду справил, в кои-то веки сапоги целые надел да жене юбку с оборкой принес. Жизнь-то она такая: что одному смерть – то другому и хорошо…
Наутро мужики в Калач поехали будто по делам, а завернули они к Моте в дом ее новый, который она со своим Петром Ефимовичем только обустраивала. Темная какая-то история была с этим домом, ничего об этом Мотя не рассказывала и еще не приглашала отца с матерью новый дом посмотреть да благословить.
Филипп перекрестился при входе, вошел, дочку обнял. Гаврил был молчалив и хмур. Обошли с Мотей двор и сад. Добротный, хороший дом был, с мансардой, выходящей в сад. Яблони, вишни, груша и колодец справный – все было на месте и ухожено, прежние хозяева были с головой и с руками. Петра дома не было – он теперь важный человек, сказала Мотя, домой приходит поздно, иногда и ночью вызывают. Филипп хозяйство похвалил и перешел к главному – зачем и приехали. Спросил, правда ли люди гутарят про переселенцев, нет ли новостей каких у Петра.
– Спрошу Петю сегодня, папаня, – ответила уклончиво, – поешьте перед дорогой, спасибо, что попроведали.
Приехала через день, одна. Сказала, что да, есть бумага сверху. Решают местные советы, но распоряжение твердое – забирать у кулаков-мироедов все, что нажито: хозяйство, дома – все как есть, и одежу и обувь, и отправлять все их семьи со старыми и малыми на новые земли; куда – пока не знает. Про вас-де уже точно решили, и не отменить, и не оспорить, заплакала Мотя.
– А подумали мы с Петром Ефимовичем, чтоб не перешло все, кому попало – ведь все поразберут-порасхватают, завтра затемно подъедем мы с ним да заберем что вам не нужно, хоть что-то и сохраним в семье. Не в чужие руки – не так жалко, – сказала Мотя твердо.
– Вы мои жалкие, как же я без вас тут сиротинкой останусь, не к кому будет голову преклонить, – громко всхлипывала она.
– Ни дочки у меня, ни сыночка, а теперь и мамушку с батюшкой у меня забирают, – причитала Матрена Филипповна, утирая глаза кончиком головного платка.
Все молча сидели кругом пустого стола – не до угощения было – слушали Мотю. И не понимали. И не доходило это до сознания – как вот так-то: жили-жили, да и конец всему пришел в одночасье. Филипп смотрел на сложенные перед собой руки не мигая. Замер. Лицо окаменело, сердце бухало внутри.
Федосья очнулась, вскричала: «Окаянные! За что погибель на нас насылают, смерти нашей хотят, внучек наших на смерть посылают, ироды!» – больше слов у нее не было, были только крик и вой раненного в самое сердце старого зверя. Она вскочила и металась по хате, как безумная, не слыша увещеваний и отбрасывая руки сына, пытающегося обнять ее и прижать к себе. Она почти в беспамятстве голосила и это, наверное, было ее единственным способом не упасть прямо сейчас, перед всеми, бездыханной, – и как-то отсрочить свою смерть. Как, куда, с малыми детьми, из дома своего, на какие новые земли? И еще один главный вопрос бился в горячечном мозгу, хотя он еще и не прозвучал: «За что?»
Тихо, как-то по-детски всхлипывая, плакала Аннушка, слезы заливали ее лицо, они текли сплошным потоком, не останавливаясь, как весенний нескончаемый ливень и сквозь эту водную пелену она с трудом разбирала родные лица, переводя взгляд со свекра на мужа, на свекровь и снова на мужа.
Казалось, это никогда не кончится – это пугающее молчание седовласого великана, отчаянные крики старой женщины, беспомощные попытки сына удержать ее на самой границе безумия, этот поток заливающих лицо и руки слез женщины – весь их мир и вся жизнь подошли к пределу, краю, последней черте. И тут на половине молодых заголосили, закричали дети; запричитала старшая, Анфиса, залилась криком младшая, Улька. Аннушка бросилась к детям.
Когда она вернулась назад, Филипп сказал ей уже спокойно: «Беги к Душке, пусть идут с Иваном, будем разговаривать, – может, хоть одну спасем».
Жене приказал идти в кровать, а с утра узлы собирать. Моте велел домой отправляться и сделать как сговорились.
Отправив женщин, сели вдвоем. Сидели полночи, говорили, решали, перед рассветом разошлись. Начиналась новая жизнь, неизвестная и непонятная, и даже они, сильные и мудрые, не знали, что она им уготовила.
Утром Нюра и Гавриил говорили с Анфисой. Разговор был непростой. Гавриил не пугал дочку – она и так смотрела в стол, дрожа всем телом, иногда поднимая испуганные глаза на мать, на отца, словно ища защиты и спасения. Отец произносил непонятные слова и говорил о решении, которое они, большие, приняли. Он говорил, и мать согласно кивала, что лишь ей одной, Анфисе, можно будет остаться здесь, на хуторе, среди подруг и знакомых людей, на своей земле, остаться и жить, иметь семью, мужа, детей. Что ее сватают за Илью, и они готовы благословить. Потому что вся семья: и дед с бабой, и мать с отцом, и сестры должны отправиться далеко, и они – и пока никто – не знает, что их ждет. И что они хотят, чтобы она осталась здесь, где она родилась, где у нее будет семья и защита. Он не говорил о том, что страшится участи трех младших, что он, ее сильный и строгий отец, не знает, сможет ли спасти их, но она уже это поняла. Девочку била нервная дрожь, хотелось глубоко зевнуть и уснуть прямо сейчас, здесь, положив гудящую горячую голову на стол. А потом проснуться – и все будет как раньше, как всегда. И не надо будет думать ни о чем непонятном и страшном, и не будет треснутого голоса отца и полных слез почерневших глаз матери. И что такое замуж, она не хочет замуж, зачем ей туда? Илюшка, конечно, бродил мимо ворот, да поглядывал со значением, он вроде и хороший да ладный, но как же она без мамушки своей и батени, без деда-бабы, а сеструни – как же без них-то?
Анфиса поняла уже, что никогда больше не будет «как раньше» и «как было всегда». Она представила себе, что к ней, как в страшной сказке, подступило какое-то огромное чудовище без жалости и без лица, и оно готово наступить и раздавить ее, как букашку, как муравья, что-то такое большое и страшное, от чего не убежать и не спастись ни ей, ни всем тем, кого она так любит.
– Я пойду за Илью.
Помолчала. Потом: «А когда вы приедете назад?»
Аннушка поспешила к матери-отцу; события развивались слишком быстро, она должна была все успеть, ничего не позабыть, ничего не пропустить. Здесь, в родном доме, было так же трудно, так же трагично, столько же сердца и безнадежности.
– Нюрушка, да ты об нас-то сердце не рви: мы тут как-нибудь переможемся. Степушка, ежели чего, подсобит. Хоть и редко его видим сейчас, как они с Натальей съехали в Егорьевку, да не оставит нас с дедом ежели чего. Дед-то какой хозяин теперь, все больше лежит да охает, грыжа его замучила, да и на базу работы уж не то, что ране. Нас-то уж точно не тронут, мы лет десять как бесхозные с поры, как дед в негодность пришел. Ну ты не думай про нас-то, у тебя самой вон выводок какой! Ох ты ж…
И мать заплакала, наконец, разрешила себе, – отчаянно, с подвываниями – это были не слова, разобрать можно было только отдельные восклицания «ну как так-то?», «эх, креста на них…», «жалкие мои», «не увижу-не прощусь перед концом своим», «цветочки мои»… И плакали обе, и душа рвалась, но обе знали, что другой труднее, и понижали голос и смиряли себя, чтоб пощадить кровинку свою.
– Мы вечерком зайдем внучек обнять, да гостинец принесу.
– Какой гостинец, мамушка, они ж, злодеи, все равно все позаберут, – слыхала, и юбки и платки считают, даром что в чужую землю отправляют, где что с собой прихватишь – тем и выживать будешь. Не надо ничего, береги для себя. И себя береги, и батюшку.
Выходя из двора, крикнула через забор соседке материной, своей ровеснице Прасковье, наливающей еду дворовой собачонке в разбитую миску: «Здорово были, Прасковьюшка, как дети, муж, старики?». В ответ услышала:
– Мы-то здоровы, Богу слава! А вот вам, кровопийцам, скоро погибель придет! Мало вы нашей кровушки попили, ели-пили сладко, да спали мягко под перинами пуховыми. Хватит, нажились. Теперича наша очередь панствовать. Я первая к твоей хате приду да помогу все, что вы напрятали, чем на нашем горбу обзавелися, повытаскивать да на свет Божий. Пусть другие теперь на перинах спят, мои, к примеру, дети али я с мужем моим. А вам в пути сгинуть и добра не знать, мироеды! – провизжала истерически и сплюнула злобно прямо себе под ноги.
– Ты, Прасковья, побойся Бога, али креста на тебе нет? – вышла на крыльцо маменька Аннушкина. – Ты чего деткам безвинным беды да несчастья кличешь, али сама не мать? Али Нюра моя тебя чем обидела? Ах ты, нечистый ты дух, больше и глаз ко мне не кажи, я и знать тебя больше не хочу, охальница!
Обняла дочку: «Ничего, не слушай, собака лает…» – заканчивать не стала.
Так проходили последние дни на земле родимой, которая изгоняла их за неведомые им самим тяжкие грехи, за кои страдать теперь надлежало не только им самим и старикам их, но и детям малым, невинным.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































