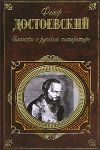Текст книги "Текст в диалоге с читателем: опыт прочтения русской литературы в начале третьего тысячелетия"
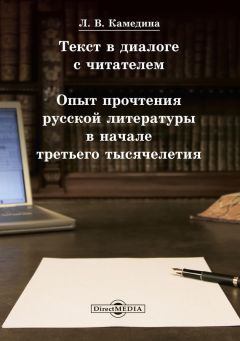
Автор книги: Людмила Камедина
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Возможных смысловых открытий гениального романа Пушкина может быть бесконечное множество, важно только при этом не выходить за пределы текста и не заниматься домысливанием, как это было принято в недавнем прошлом.
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
Возможные смысловые уровни к изучению романа Лермонтова, могут быть самыми разнообразными. Этот роман так же многогранен, как и пушкинский. В нем тоже возможно определить несколько уровней.
Психологический роман. Это уровень определяется постановкой вопроса в «Предисловии журнала Печорина»: История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа… (26, 51). Лермонтов пишет о сложности природы человека и многомерности структуры человеческой личности. Двойственность Печорина, о которой он нам заявляет, не результат столкновения с социальной средой, как это считают некоторые исследователи, а сложнейшие соотношения природно-физиологического и духовного начал. Характер физический зависит от наших нервов, обращения крови, а душа – другое дело, душа либо покоряется природе человеческой, либо борется со злом и побеждает его в себе, – так ставит вопрос Лермонтов. Печорин отвергает все уготованные ему судьбой социальные роли, пытаясь угадать свое «высокое назначение». В романе мы не видим его в сфере социальной, а только в частной, личной жизни, которая лучше открывает состояние души, здесь нет ограниченности социальных преломлений. Перед нами тоскующая душа. О чем же тоскует душа Печорина? По человеческим ценностям, которые он отверг как несостоятельные. Нет идеалов, веры, любви, дружбы, семьи, дома, где можно обрести приют, нет ощущения Родины, поэтому тянет все время за пределы ее и умереть хочется где-нибудь в Персии. Потеря ценностной ориентации «загоняет» Печорина в круг, из которого он не находит выхода. Внутри круга – смерть. По мнению Д. Овсянико-Куликовского, никакая другая, только «психологическая причина делает Печорина непригодным для службы, в нем душевное бессилие, это – натура резко эгоцентрическая» (27, 98-121). Ему кажется, что все создано для него и поэтому ни на минуту не может забыть о себе. Он склонен преувеличивать свою душевную значимость. Почему Печорин сделал несчастной Бэлу, Мери, Веру, Максима Максимыча, почему он вмешивается в жизнь людей и вносит раздор и хаос? Ответы Д. Овсяннико-Куликовский в своих психологических опытах предлагает искать в характере Печорина. Он в силу эгоцентричности поставил себя в центр Вселенной, поэтому определил себе кресло власти, управления и подчинения себе чужих жизней.
Профанация высшего смысла ведет Печорина к душевному прорыву за пределы земной неволи, к небесной отчизне, которая, пока это было мечтой, выглядела красиво: Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы… все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять (26, 27). Затем противоречия в душе Печорина достигают такого накала, что душа сдается во власть Зла, и желание смерти становится неодолимым. Печорин разрывает плен земной жизни и устремляется за пределы бытия.
Печорин не только эпохальный тип, но и всевременной. Он возникает в любую эпоху, когда личность утрачивает ценностную ориентацию. И место Бога в душе занимает «другой».
Философский уровень романа ставит проблемы смысла бытия, личности и свободы, безграничной воли и традиций, рока, провидения и презрения к предопределениям судьбы. Итак, в центре романа альтернатива. С одной стороны – вера в рок. Отсюда игровое начало в жизни. Можно поиграть со смертью, если она еще не рядом, ибо уж как на роду написано, так и случится, целое небо со своими бесчисленными жителями… смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. (26, 138). С другой стороны, – жизнь вопреки судьбе, иначе зачем же нам дана воля, рассудок? Лермонтов рисует две модели мира. Модель, где господствует случай, представляет серб Вулич, игрок. Он любит карты, ибо там тоже – случай. Мир – колода карт, вся жизнь – вопрос фортуны. Здесь можно быть храбрым. Другая модель – мир борьбы. Здесь тоже требуется мужество и уже упомянутый эгоцентризм. Бороться с Высшими силами бесполезно и небезопасно. Печорин – скептик и рационалист, ни во что не верит и во всем сомневается. Раз жизнь есть борьба, Печорин ищет деятельности. Высокое отсутствует в его душе, поэтому вся его деятельность мелкая. Украсть, а потом бросить Бэлу, позлить Мери, посмеяться, а затем убить Грушницкого, не подать руки Максим Максимычу, потому что настроение плохое и т. д.
Все, с чем соприкасается Печорин, разрушается, распадается. Он себя спрашивает, зачем он все это делает и толком ответить не может. Но ему это делать необходимо, потому что он выбрал путь борьбы. Видимо, это и составляет смысл его жизни – борьба со всем и всеми. На земле Печорин ограничен земным, традициями, а ему нужно властвовать, ему нужна безграничная свобода, поэтому он мечтает умереть. Смерть как призыв в небытие, к безграничной свободе. А результат? Ни небу, ни земле.
Роман нравственный, ибо ставит проблему нравственного долга. Печорин испытывается любовью к женщине и не выдерживает этих испытаний. История с Бэлой для него не более чем тривиальный сюжет (любовь европейца и восточной красавицы), при котором ему быстро делается скучно. Мери – женщина светского общества и тоже хорошо знакома Печорину, это любовь под контролем рассудка, скорее, игра, забава. Ундина для Печорина – женщина-враг. Но любопытство берет верх. Печорин любит бывать в пограничных состояниях между жизнью и смертью, он любит пощекотать себе нервы. Расплата приходит через Веру. Это единственная женщина – недоступная для Печорина, потому что она замужем и не хочет адюльтера. Вера – это наказание Печорину за смерть Бэлы, издевательства над Мери. Оттого он и упал на мокрую траву и как ребенок заплакал… душа обессилела, рассудок замолк… (26, 130).
Нравственность Печорина «перевернута», он циничен, коварен, хитер. Все, с чем он соприкасается, делается хуже. Так, добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном, Бэла и Грушницкий погибли, в Мери поселилась «ненависть», «встревожено спокойствие честных контрабандистов». Игра с понятием нравственности обостряется. В романе четыре убийства. Можно поставить вопрос о праве на убийство. Однако идет война и появляется равнодушие к убийству.
«Восток – Запад» в романе Лермонтова. На этот уровень указывает Ю. Лотман. Эта проблема не только романа, но и всего творчества писателя. «Весь комплекс философских идей, – пишет Ю. Лотман, – волновавших русское мыслящее общество в 1830-е гг., а особенно общение с приобретавшим свои начальные контуры ранним славянофильством, поставили Лермонтова перед проблемой, специфики исторической судьбы России… Своеобразие русской культуры постигалось в антитезе ее как Западу, так и Востоку» (6, 219–220). На данную проблему указывает и статья Б.Ф. Егорова «Славянофилы и Лермонтов» в «Лермонтовской энциклопедии». Ранняя попытка коснуться этой проблематики осуществилась в «Песне про царя Ивана Васильевича». Лермонтов обреченно писал как о «дряхлом Западе» («Умирающий гладиатор»), так и о «дряхлом Востоке» («Спор»).
В «Герое нашего времени» площадкой романа делается Восток – Кавказ, кавказцы, магометанин Вулич, игрок и фаталист, мистик в восточном духе. Запад представлен «поврежденным классом полуевропейцев» – Печориным, Грушницким, водяным обществом, мишурой, модой, отсутствием своего (Грушницкий все время говорил чужими словами). Русская цивилизация, еще молодая, приняла пороки дряхлой европейской культуры: скепсис, скуку, рационализм, эгоцентризм.
Печорин поставлен между Востоком и Западом. Он, как чеченец, крадет Бэлу, предсказывает смерть Вуличу (хотя не верит в рок), путешествует на Восток и умирает по дороге из Персии. В то же время он – европеизированный тип. И одновременно Печорин – русский, то есть принадлежащий и Востоку, и Западу, ибо сущность России – середина. «В своем синтетизме, – пишет Ю. Лотман, – это срединное царство представляет положительную альтернативу разорванности мира экстремальных ценностей…» Позиция Лермонтова в отношении России «мыслится как третья, срединная сущность. Именно срединность ее культурного (а не только географического) положения позволяет России быть носительницей культурного синтеза, в котором должны слиться печоринско-онегинская (европейская) жажда счастья и восточное стремление к «покою» (6, 234).
Русским культурно-психологическим типом в романе является Максим Максимыч – «старый младенец». Русская цивилизация еще молода, народ молод и не вышел пока из стадии «духовного детства». Грибоедов и декабристы считали, что Россия вступила в мировую историю с 1812 года и русская культура еще юная. Это мнение о вечно молодой России, видимо, тоже является выражением сущности русского национального сознания. В петровскую эпоху Россия была молодой, во времена Ивана Грозного указывалось на молодость Руси, а Нестор-летописец сравнивал Русь с младенцем, который только что получил крещение и находится ближе к Богу, ибо Бог любит детей, как родители любят младших больше, чем взрослых. Если посмотреть перспективу проблемы, то мы увидим то же самое. В. Маяковский называет Советскую республику «подростком", а Олжас Сулейменов на Первом, шумном Съезде народных депутатов в начале перестройки прямо заявил, что страна – юная невинная девица.
Интеллектуальный уровень романа можно было бы связать с его экзистенциальной сущностью. На экзистенциальную природу души Печорина указывает В. Маркович (24, 55). Перед нами персонаж – носитель развитого (хотя и противоречивого) сознания. Роман носит форму дневника, записей мыслей по поводу происходящего. Печорин чувствует свою мысль, свое настроение. Другие чувства и чужие мысли его не тревожат. Его жизнь есть «цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку». Печорин в меньшей степени проживает жизнь и в большей – созерцает ее, вспоминает события, лица, свои чувства, и они вновь оживают, как будто он снова прожил тот опыт жизни. Наша душа подчиняется закону забвения, а Печорин ничего не забывает, его душа одержима призраками прежних чувств, его состояние тягостное и угнетенное. Герой погружен в себя, в изучение своего внутреннего Я. Он рассматривает каждую свою мысль – Я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно… (26, 139).
У Печорина связь с миром чисто интеллектуальная. Это и выводит его на уровень экзистенциального персонажа. Д. Овсянико-Куликовский видел в романе Лермонтова «ритмы представлений», набегающие друг на друга впечатления. Печорин всякий раз пытается отделить себя от своих переживаний, действий. Мир кажется Печорину абсурдным, необъяснимым, и он часто совершает безрассудные или бессмысленные поступки и не может их объяснить.
Непосредственное отношение к проблеме интеллектуального уровня имеет и ум. Автор скептически относится к уму Печорина. Современник Лермонтова Иван Киреевский критиковал интеллектуализм. Он писал о том, что разум не признает ничего, кроме себя и личного опыта. Отвлеченный разум постепенно утрачивает веру во все убеждения и, в конце концов, во всемогущество самого разума. Бесчувственный холод рассуждений становится законным состоянием человека, который раздробил цельность своего духа на части, а отделённому логическому мышлению предоставил высшее состояние истины, и таким образом человек оторвался от действительности и сам явился на земле существом отвлеченным, как зритель в театре. Эти рассуждения И. Киреевского могли бы иметь непосредственное отношение к уму Печорина (28). Киреевский утверждал, что ум – источник неполного и искаженного знания.
Образ Печорина выстраивается на полемическом постулате. Ин. Анненский, как и Овсянико-Куликовский, считал Печорина отображением самого автора: любил жизнь, как фаталист; любил созерцание; если не мог быть сильным, оставался равнодушным; был безразличен к собственному счастью и равнодушен к смерти (29).
И. Анненский все образы романа считал мыслями Лермонтова. Например, Грушницкий – это не пародия, по его мнению, а «скорбная мысль о человеке, который боится быть собой и, думая, не хочет додумывать до конца»! (30, 139).
Мир познается не только эмпирически – путем опыта, но и метафизически – недиалектическим путем. Метафизика говорит о духовных первоначалах бытия, «о предметах, недоступных чувственному опыту. Метафизический уровень романа связан с определением сущности Печорина как демонической. Он нигде не назван Демоном, но по сути своей есть именно он. Печорин переступает грань, разделяющую добро и зло, такое «смешение» добра и зла придает Печорину черты демонизма» (31, 105).
О преображении материала из уровня эмпирических событий в план метафизический рассуждает В. Маркович. Он пишет о том, как в романе Лермонтова постепенно «…набирают силу иносказательные «сверхсмыслы» (24, 42). В. Маркович указывает на обилие метафор, образно-эмоциональных элементов, на внелогические смысловые связи, ассоциации, «всплывающие» повторения – все это говорит о смысловой глубине текста. Кроме этого роман имеет особую структуру, он – фрагментарен, а это превращает характер персонажа в тайну, не позволяет узнать его до конца и установить все логические и смысловые связи. Такая недоговоренность намекает на неисчерпаемость текста. Метафизический смысл образа Печорина, по определению В. Марковича, «в постоянном стремлении возвыситься над всем окружающим и над всем происходящим в собственной душе» (24, 56). Исследователь ссылается на Аполлона Григорьева, который также называл Печорина «Демоном, низведенным в обычные условия человеческого существования, но не утратившего прямых отношений с миром высших сил» (24, 57).
У Печорина нет предыстории, нет родословной, нет дома. Он странствует. Он проживает жизнь не в первый раз, и ему скучно. Разговор о нем заходит ночью (Солнце закатилось, и ночь последовала за днем), в разгар метели (в такую метель через горы не переедешь), и продолжается при спуске в Чертову долину (дорога опасная), а заканчивается первый рассказ о Печорине в тот момент, когда метель утихла, небо прояснилось. Демоническая натура Печорина сказывается и в его отношении к миру: а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает (26, 93), и в другом месте – А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души… (26, 92). Печорин «увидел», предсказал смерть Вулича, хотя и не верил предопределению.
В. Турбин, исследуя этот пласт романа, отмечает: «Печорин – демон в мундире, он «своевольничает, мистифицируя», наконец, ему удалось «скрыть свою инфернальную родословную и принять обличие эксцентричного чудака.» (20, 211, 216). Герой разрушает все заповеди: не убий, не прелюбодействуй, не укради, возлюби ближнего своего, не лги. Он вгоняет себя в метафизический тупик, из которого выход только один – за пределы бытия, к смерти.
Уровень игры. Так же, как и в «Евгении Онегине», В. Турбин исследует этот уровень, причисляя и роман Лермонтова к барочному. Та же кукольность персонажей: Грушницкий – ряженая кукла, он напомажен, надушен, говорит чужими словами и всё время «делает вид». Печорин – кукла, у которой руки не двигаются, глаза не смеются, позвоночник отсутствует, на лице – детское выражение и детская улыбка, нежная кожа и, как у куклы, нет родословной. Ни у кого в романе нет дома, все странствуют. Игра персонажей – это их жизненная сущность. Ю. Лотман подчеркивает и игру ассоциаций: «Печорин кодирован образом Онегина, но именно поэтому он не Онегин, а его интерпретация. Быть Онегиным – для Печорина роль», он – герой романа, а его жизнь – «реализация некоторого сюжета» (6,101).
Нет необходимости подробно излагать этот уровень в силу его текстовой очевидности и аналогии с пушкинским романом.
Лексико-семантический уровень романа заключен в лермонтовских антитезах: жизнь – смерть, свет – тьма, история – космос, Бог – человек, добро – зло, небо – земля, Восток – Запад, на охоте мерз, не болел – сидя в комнате простывал, на кабана ходил, не боялся – ставнем стукнет, он вздрогнет; то молчит часами – то рассказывает без конца; темная душа – ослепительно чистое белье, глаза не смеялись – когда он смеялся; скромен – обвиняли в лукавстве; добр – злопамятен, любил весь мир – выучился ненавидеть, говорил правду – начал обманывать и т. д.
Роман построен на таких парных оппозициях. Лермонтов всегда находит полюс идеи прямо противоположный. Так выстраиваются персонажи в мире лермонтовского романа. Герои живут в пространстве оборванных связей, нет языка понимания, нет общения.
Этим не исчерпывается постижение смыслов романа Лермонтова «Герой нашего времени», и каждый читатель может увеличить глубину текста дополнительными смыслами.
Н.В. Гоголь «Мертвые души»
Земное и духовное в поэме Гоголя. В 1843 году Гоголь писал: «Мертвые души», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное?.. герои мои потому душе, что они из души; все мои последние сочинения – история моей собственной души» (32, 77). По мнению Гоголя, «Мертвые души» испугали Россию не потому, что вскрыли ее болезненные раны или представили картины «торжествующего зла», а испугала всех пошлость. Герои один пошлее другого, негде перевести дух и «по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на Божий свет» (32, 77). Гоголь признается, что это не карикатура, как полагают некоторые, а его «собственная выдумка»! Душе человеческой представлена картина тьмы, и пугает отсутствие света. Ничтожные люди, выведенные Гоголем, «не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется только в разжалованном виде из генералов в солдаты» (32,79).
Таким образом, Белинский, трактуя поэму Гоголя как сатирическую, оказался далек от авторского замысла и авторского смысла произведения. Гоголь еще раз уточняет, что кошмаров не выдумывал, т. к. кошмары давили его «собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло» (32, 81).
В «Авторской исповеди» Гоголь вновь вынужден был уточнять свой замысел. Он писал о том, что Пушкин подсказал смешной сюжет и родилась охота посмеяться, смех создает много «смешных явлений», «но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер»? «Я почувствовал, – писал Гоголь, – все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально» (32, 211–212). Гоголь четко определяет для себя план поэмы: предмет наблюдения – душа человека. «Я оставил на время все современное; я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением» (32, 214).
Наконец, издан том духовной прозы Гоголя, где можно ознакомиться подробнее с кругом чтения писателя.
Итак, Гоголь исследовал душу человеческую. Он исходил из учения церкви о триединстве человека: тело + душа + дух. Тело более всего пострадало от греха, оно подчинено природе, поэтому все, что ни есть несовершенного и недостаточного в человеке, открывает его животную сторону. Эта «животная жизнь» затрудняет и обременяет духовное начало в человеке. В учении святого Григория Нисского, которого активно читал Гоголь, заявлено, что материальность в мире есть следствие греха. Человек должен стать миротворцем: примирить и «уничтожить в самом себе вражду естества, брань между плотью и духом…» (32, VIII, 534).
В «Мертвых душах» Гоголь призывает бороться с земными пороками: праздностью, скопидомством, лживостью, сквернословием, озлоблением. Указаны и телесные пороки: обжорство, телесная лень и любовная страсть (например, как у Манилова, к долгим поцелуям). Гоголь указал огромное количество пороков, не замечаемых человеком. Свыкся человек с ними, бес пошлости вселился и ужился с душой человеческой, прирос, как «голландские рубашки» к Чичикову. Человек видит в земной жизни только материальную сторону, цель его – борьба за реальное существование, поэтому герои Гоголя много едят (Чичикова все пытаются накормить), пьют, накапливают вещи, собирают их в коробочки и шкатулки или сносят в кучу (как Плюшкин), а Чичиков занимается накоплением «мертвого капитала», самого выгодного, ведь он никогда не тратится. Герои поданы на самом «низшем» уровне. Гоголь использует прием зоологизации: описан внешний вид, повадки, зона обитания, причем, у каждого своя. Гоголь рисует не лица, а рожи, одна интересней другой: Собакевич похож на медведя, Манилов зажмурил глаза, как кот, Ноздрев совершенно слился со своими собаками. А что такое Иван Антонович кувшинное рыло? Прозвище? Общественная сущность? А звучит как фамилия.
Персонажи олицетворяют жизнь человеческую: земную и духовную, то есть бездуховную. В. Маркович, исследуя таинственный гоголевский мир, пишет, что автору удалось отыскать «тайну русской жизни в той косной массе будничной пошлости, которая составляет, казалось бы, всю изображаемую реальность общественного быта и общественных нравов» (33, 187). Вот это «казалось бы» вновь уводит от земного к откровению самого Гоголя: Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу… (34, 201). И вновь, замечает В. Маркович, «мистическое прозрение (сверкающая, чудная, незнакомая земле даль). неожиданно обрывается вполне прозаичным и земным: Держи, держи, дурак! Это уже кричит Чичиков Селифану. Авторские откровения возвращаются к «холодной, раздробленной, повседневной» действительности» (33, 189). Пошлость – материя жизни, поэтому все духовное теряет связь с этой материей. Только в конце одиннадцатой главы, в авторском монологе о «страстях человечески»» открывается высший смысл изображаемого.
Пространство и время в поэме Гоголя. «Но высшая сила меня подняла, – пишет Гоголь в 1843 году, – проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращение к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему»? (32, VI, 76). Гоголевский богатырский дух витает над эпическим пространством поэмы. Россия для Гоголя – синоним необъятного, беспредельного. «Но беспредельное, – пишет Е. Трубецкой, – не содержание, а форма национального существования. Чтобы найти Россию, надо преодолеть пространство… В поэзии Гоголя мы находим человека в борьбе с пространством. В этом – основная ее стихия, глубоко национальный ее источник» (35, 324). Русский человек не любит чувствовать себя прикрепленным к единому месту, отсюда такая необыкновенная подвижность, «охота к перемене мест». «Чем меньше удовлетворяет его окружающая действительность, тем сильнее в нем влечение к беспредельному, тем больше манит его дальняя дорога», – заключает Е. Трубецкой (35, 324).
Странничество – русское явление, оно связано с исканием лучшей отчизны. Гоголь искал Бога и Россию. В письмах он не раз писал о том, что его поиск России должен быть связан с отъездом, только через странствования он обретает Россию. Движение есть то, что объединяет Русь в одно целее, поэтому дорогой Гоголь пытается соединить распавшееся, хаос обратить в космос. Бричка Чичикова, завершив круг русских странствий, преображается высшей силой в могучую птицу-тройку, которая вылетает на просторы Вселенной.
Дорога – это поиск. Блуждает душа человеческая в поисках истинного пути и никак найти его не может. А ложных путей много: путь праздности, пустой мечтательности, «собирания сокровищ» на земле, путь буйного разгула и вселенского вранья, культа тела – обжорства непомерного (сколько съедено за несколько дней!). Дорога эта негладкая, поэтому и застревает все время бричка Чичикова, и спорят мужики возле трактира, доедет она до Москвы или не доедет; и ночь застает в пути с грозой и ливнем. Дорога размыта, ухабиста, часто вовсе исчезает, и вынужден человек спрашивать о ней. Скорее, бездорожье, а не дорога. Едет человек и все время сбивается с пути истинного.
Чичиков, путешествуя от помещика к помещику, все время попадает не туда, куда едет. В губернском городе пригласили Чичикова к себе два помещика: Манилов и Собакевич. Первым по дороге оказался Манилов. Но и к Собакевичу Чичиков попадает не сразу. Ночью он заблудился, сбился с дороги и «случайно» заночевал у Коробочки. В тексте очень много случайностей, несоответствий, разорваны логические связи. После Коробочки Чичиков снова не сумел сразу попасть к Собакевичу, потому что на пути ему попался Ноздрев, уйти от которого непросто. От ноздревского вранья и брани Чичиков сбежал в окно и с испугу сразу же приехал к Собакевичу, попав, разумеется, на обед. Плюшкин тоже случайно встретился на дороге и привлек великого приобретателя своим внешним видом.
Чичиков проделал круг: он выехал из губернского города и вернулся в губернский город. Это дорога внутри круга и по кругу.
Время в тексте поэмы также подчинено внутренней структуре произведения. Исследователи давно заметили явные противоречия во временной организации «Мертвых душ» (36). В поэме нет линейного времени. Каждый персонаж приспосабливает время к себе, к своему характеру и среде обитания. Так, например, Манилов пребывает в цветущем мае, у него в имении цветет сирень. Его душа хорошо себя чувствует в это время. Мужики же его сидят на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах (34, 23). Никто ничего не делает. У Манилова Чичиков пробыл недолго, но, уехав, попал в грозу, потерял дорогу и заночевал у Коробочки. У Коробочки на дворе август: урожай созрел, фруктовые деревья закрыты сетками, чтобы воробьи не клевали. Да и Чичикову она предлагает то, что сама «насобирала»: мед, пеньку. У Плюшкина – лето, хмель цветет, жара. В губернском городе, куда возвратился Чичиков через два дня, – зима. Помещики надели зимние картузы и медвежьи шубы.
Таким образом, книга Гоголя с условной пространственно-временной организацией. Следует заметить и тот факт, что Чичиков движется по временному кругу: от «молодого» Манилова к «старому» Плюшкину.
Символический уровень поэмы Гоголя тоже достаточно исследован. Можно обратиться к книгам Ю. Манна, М. Бахтина, Ю. Лотмана и других исследователей. Каждый персонаж – символ, каждый воплощает определенный порок, да еще и не один. У Коробочки, например, несколько: скопидомство, страсть к накопительству (неясно, правда, для кого – ни родственников, ни знакомых), дубинноголовость, непонятливость.
На уровне символов и имена помещиков. Не поймешь, то ли на самом деле фамилии, то ли прозвища – Коробочка, Собакевич и тут же Антон Иванович кувшинное рыло. Вещный мир соответствует возникшим образам. Человек отождествляется с вещью. На огороде Коробочки было «водружено» несколько чучел, на одном из них был чепец самой хозяйки (34, 47); на стенах дома Собакевича висели картины, изображающие греческих полководцев с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу, потом следовала героиня реческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные (34, 89).
Символом разобщения нации является не только обособленность помещиков (Коробочка не знает ни Манилова, ни Собакевича, хотя и живет рядом с ними), но и разобщенность между помещиками и мужиками (следствие петровских реформ, так считал Гоголь). Вспомним мужиков Манилова, сидящих на лавках у заборов, «русских мужиков», наблюдавших приезд Чичикова у дверей кабака; дядю Митяя и дядю Миняя… Последние, по мнению В. Марковича, «в своем символическом подтексте являют образ нации, связанной совместной жизнью тех, кто ее составляет. Эта ощутимая связь оказывается в своих границах скорее механической, чем духовной.» (24, 32). В. Маркович пишет о наличии в «Мертвых душах» символического «второго сюжета», который развивался в подтексте, параллельно сюжету эмпирическому. Символическим лейтмотивом поэмы являются: дорога – тройка – душа. Дорога перерастает в путь человечества, бричка Чичикова в «птицу-тройку» (символ национальной истории), индивидуальная душа выступает как национальная, вплоть до самых широких обобщений.
Вполне логично было бы перейти к другому уровню – ассоциативному, где ведущее место займет уже указанная проблема перерастания индивидуального в национальное и общечеловеческое.
Сентиментальность Манилова – это, прежде всего, качество индивидуальное и присущее в первую очередь Манилову. Однако Чичиков возит в своей шкатулке помимо прочих вещей засушенные фиалки, – тоже сентиментален, а у Собакевича читает письмо Вертера к Шарлотте. Так индивидуальное перерастает в национальное и общечеловеческое. Еще примеры: Коробочка собирает вещи, деньги; Плюшкин собирает все, что ни попадет под руку, а Чичиков возит с собой шкатулку, в которой много самых различных предметов, вплоть до какой-то старой афиши.
В традиции мировой литературы мы сталкивались уже с типами-символами лени, глупости, скупости, обжорства (культ тела у Рабле). Гоголь все время выводит читателя на разные уровни: сначала просто «дубинноголовая» помещица Коробочка, а затем – иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка (34, 51), и, наконец, Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования, что напоминает многих «сестер» в аристократических домах, которые рассуждают о политическом перевороте во Франции и модном католицизме и совершенно не имеют представления, что делается в их хозяйстве.
Подобные превращения происходят с ездой Чичикова. Сначала Гоголь говорит нам о том, что Чичиков «любил быструю езду», затем спрашивает, «и какой же русский не любит быстрой езды»? и в конце завершает вопросом, переводящим поэму Гоголя на символический уровень: Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? (34, 225).
Ассоциативный уровень вводит нас и в культурный пласт мировой литературы, когда Гоголь (как и Пушкин) сам называет имена-ориентиры: Вергилий прислужился Данту (34, 132), К Шиллеру заехал в гости (34, 122) и т. д. Каждый персонаж живуч в разных культурных контекстах.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?