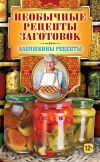Текст книги "Зелёные холодные уральские помидоры. Рассказы"

Автор книги: Макс Бодягин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Время
Осенью 1988 года я завернул в старый дедовский тулуп (поскольку приличного кофра у меня отродясь не бывало) свою гитару и поехал в город Свердловск на 589—м автобусе. Учиться. Гриф гитары забавно торчал из рукава тулупа, словно пытаясь высмотреть дорогу сквозь туман. Моя «Кремона» напоминала холёную 20—летнюю декабристку, опрометчиво рванувшую к мужу в Сибирь, еще не разобравшись, что ее ждет в этой новой неведомой стране кандалов и медведей.
В 1988 году все было не совсем так, как сейчас. Не было бутылочного пива, баночного пива, не было коньяка, не было вина, спиртных напитков практически не было вообще, потому что с ними боролись всей страной. А те, что удавалось достать, исключало понятие «вкусовые качества» как таковое. Потому что это был пиздец. Не было Государственной Думы. Не было свободного предпринимательства. Не было вкусной колбасы просто за деньги. Не было платной стоматологии. Не было гашиша и совсем не было героина. Не было бомжей. Не было стриптиза. Не было мерседесов, не было бмв и вообще красивых тачек, а единственными джипами были УАЗ и ЛУАЗ. У ментов на улицах не было резиновых палок11
а вот тут могу и спиздеть, поскольку блазнится мне, что именно в 88—м «ПР—73» под ласковым названием «демократизатор» как раз и ввели в широкий обиход. И ОМОН когда-то тогда образовали.
[Закрыть]. Не было ночных кафе, не было караоке-баров, не было открытых летних кафе. Не было спутникового телевидения, ксероксов, не было удобных пользовательских компьютеров. Совсем не было интернета. Не было полнобюджетных порнофильмов с накаченными мужчинами и загорелыми молодыми красавицами. Не было пепси-фанты-колы-спрайта и прочей миринды. Не было фитнесс-клубов, кик-боксинга, сноуборда. Не было многопартийной системы и демократических выборов. Не было сексуальных маньяков. Теле-пидарасов, глянцевых журналов, рекламы, локальных военных конфликтов не было. Короче говоря, почти ни хуя не было.
То есть, если где-то все это и было, то в таких микроскопических дозах, что и разглядеть-то это как-то в повседневном говне было невозможно.
Но кое-что все-таки было.
Было разливное пиво в кульках и банках в сопровождении уличной драки. Был коньяк в сказочно дешевых ресторанах с говенным интерьером. Был Верховный Совет СССР с колоссальными правами и невнятными обязанностями. Был обязательный 8—ми часовой рабочий день. За предпринимательство судили и сажали в тюрьму вместе с уголовниками. По талонам была колбаса с минимальным содержанием мяса. Стоматологи были, врать не буду, но пытали людей бесплатно. Водка считалась самым страшным наркотиком, хотя умельцы «выбивали» эфедрин из солутана, умельцев было мало и они быстро умирали. Бомжи прятались на свалках и отогревались в спецприемниках. Были кафетерии в гастрономах, где из—под полы можно было добавлять в томатный сок краденый спирт. Были черные «Волги» которые назывались «членовозами», потому что возили членов каких-нибудь государственных органов. Менты ходили в форме, исключающей интенсивные телодвижения, и похожей на парадный мундир, хотя были гораздо грубее в обращении с гражданами. По телевидению демонстрировались только два канала, 1—й и 2—й, соответственно. Ксероксы стояли на спецучете и хрен ты скопируешь подпольного Кастанеду или еще более подпольного Берроуза, если твой папа не работает в Комитете госбезопасности. Компьютеры были маломощными, недоступными и неудобными, да и выглядели соответствующим образом. Интернета один хуй не было, даже в воспаленном воображении отечественных писателей-фантастов. Были подпольные сеансы немецких порнофильмов 70—х годов, где некрасивые женщины в возрасте делали вид, что слово «оргазм» знакомо им не понаслышке. Фанту можно было купить только в Москве или Питере, или, на худой конец, в Ташкенте, а простые смертные пили «Буратино». Была одна коммунистическая партия, проповедовавшая суррогатную религию – «марксизм-ленинизм». Были подпольные клубы культуристов, без меры жравших метандростенолон, и испытывавших себя в недрах самодельных тренажеров. Выборы были всенародным праздником, явка избирателей была почти 100%-ной, потому что исход выборов был предрешен, а вокруг играла музыка, продавали всякие вкусности, водку и портвейн, и если нажрешься, то с выборов в «трезвяк» не забирали. Преступления на сексуальной почве рассматривались судами в закрытом порядке, что б не дай бог, никакой огласки, тем более в газетах, а у ментов было негласное правило после суда стрелять извращенцев при попытке к бегству. За педерастию судили и сажали в тюрьму, а по телевизору старались показывать людей положительных и морально чистых. Были молодежные журналы, с неважнецкой полиграфией, где можно было изредка прочесть что-нибудь про рок-н-ролл. Был журнал «Огонёк», славный своей политической смелостью. Реклама была такой, что… Короче, какой может быть реклама в условиях тотального товарного дефицита? Если где-то внезапно (например, во время ночной трансляции чемпионата мира по футболу) показывали какой-нибудь западный рекламный ролик, то его потом обсуждали неделю. Локальные военные конфликты считались недоразумением, вспыхивали и потухали в считанные дни, а потом все делали вид, что ничего не происходит.
Так что, кое-что все-таки было.
Ты меня спросишь: за что же мы тогда любили то время?
Сейчас я думаю, что тогда мы любили его за то, что никакого другого времени у нас не было.
А сейчас? За что же мы продолжаем любить его сейчас? Видимо за то, что именно тогда мы впервые увидели закат летней теплой ночью, закат на кристально чистом озере, дивный закат в просвете между бедрами любимой девушки. Именно тогда мы почувствовали дивное прикосновение свободы. Именно тогда ветер ласкал нашу кожу так, как этого никогда не сможет сделать человеческая рука. Все это было именно тогда…
Конечно сейчас остались теплые летние закаты, бёдра девушек никуда не делись, озера не высохли и ветер не перестал дуть. Но есть и то, чего уже нет. Ты не поверишь, если я расскажу тебе, каким вкусным могло быть пиво, купленное на окраине города в душный летний полдень. Оно отдавало хлебом. Ты ехал в абсолютно чужой район, на трамвае или автобусе, больше часа, потом стоял в очереди среди очень нервных парней, готовых взорваться в любую минуту, денег у тебя было в обрез, ты стоял в очереди, а остальные твои ребята смотрели вокруг что да как готовые дать отмашку местным пока ты протягивал в окошко заветную банку кругом уже обычно разгорался бой работяги и жульманы махали руками кипела пена деньги становились мокрыми от пота уходим-уходим…
И… Ты делаешь первый глоток. Так, чтобы верхняя губа погрузилась в пену и защекотало нос. Первый глоток. Самый терпкий. Самый хлебный. Самый яростный. Словно в первый раз входишь в еще незнакомую женщину. Ты опускаешь банку. Остатки пива стекают вокруг рта. Ты приподнимаешь нижнюю губу и сквозь щель тянешь в себя воздух вместе с горькой пеной cфффп.
А сейчас я захожу в первый попавшийся супермаркет, и выбираю из пятнадцати сортов пива то, которое мне сегодня по вкусу…
Ты скажешь, что всё это – очень субъективно, что я загоняюсь, что то пиво было водянистым и на десять раз разбодяженным стиральным порошком и что само по себе это время ничем не лучше другого. Ты прав, старик, ты десять раз прав…
Но все-таки были, все-таки были тогда другие вещи. Тогда жили замечательные другие люди.
Пространство
Итак, время действия я худо-бедно описал. Осталось осветить сцену, на которой происходила тогдашняя странная жизнь. Вообще, Урал – довольно большой. Не знаю, сколько километров, допустим, от Асбеста до Магнитки. Или от Перми до Кизила. Но достаточно, чтобы провести в этих краях всю жизнь в полной уверенности, что это и есть вся ойкумена. Тогда у нас существовала одна теория…
До рези в глазах похожие друг на друга, уральские города залиты серым, белым и снова серым. Огромный черный завод, пруд, какие-то домики вокруг, войсковая часть, тюрьма, – минимальный стандартный набор, обрамляющий недолгую сердитую жизнь. Эта рамка так стискивает тебя со всех сторон, что тот запал, который ты держал с рождения, та сопротивляемость, бешеное желание выжить, неизбежно повторяется каждый день. Ты постоянно под давлением. И ты постоянно давишь в ответ. Поэтому мы такие мужественные, хе—хе. Потомки ссыльных. Каторжане, вычерчивающие прихотливую траекторию жизни среди вечных мерзлых сугробов. Успех такой жизни напрямую зависит от мозолях на твоих кулаках. Вот такое, блин, мамбо италиано, хе—хе. Гордиться нечем…
…Когда-то мы с друзьями выдумали теорию «многополиса». Нам было лет по восемнадцать—девятнадцать. Одно время мы постоянно пили, справляли какие-то странные праздники, постоянно просыпаясь в новом городе. Миасс, Златоуст, Сатка, Аша, Тагил, Ревда—Салда—Тавда… «Ирбит твою Ревду через Верхнюю Салду», – популярная шутка тех времен. Не слишком умная и не слишком смешная. Мы просыпались в неизбежных двухэтажных бараках, как правило желтых, с высоким потолком, скругленным у сопряжения со стеной, с печкой-титаном за дверью маленькой ванной, с дверью, украшенной орнаментом из четырех вдавленных квадратов, с деревянным полом в подъезде, где входные двери оббиты дермантином для сохранения драгоценного тепла.
Мы просыпались, глядя на одинаковые обои, выходили в маленькие дворики, тесно заросшие сиренью, малиной, иногда вишней и яблонями. Рядом почему-то всегда был магазин, возле которого тусовались пасмурные мужички с темными лицами. Там не было легального крепкого алкоголя, только редкий портвейн и еще более редкое бутылочное пиво, все пили самогон, и разные другие сильнодействующие смеси. А магазин был просто такой культурообразующей точкой в пространстве. Клуб, ринг и ЗАГС в одном месте. Мы шли гулять, прихлебывая что-нибудь дикое из странной бутыли, закусывая крутыми яйцами и хлебом с вареной колбасой, меж бесконечных рядов желтых двухэтажных бараков, построенных немецкими военнопленными. Иногда мы заходили в сплетенные лохматые кусты, чтобы помочиться и выкурить пару джойнтов. Иногда нам удавалось достать какого-нибудь разливного местного пива, жидкого, как крашенная вода.
Иногда мы не знали, что это за город. На всякий случай у нас были ножи, или бритвы, свинцовые грузила на гитарной струне, и несколько стальных шариков, просто так, не знаешь, ведь, что вокруг за город. Мало ли что. Мы доходили до даун-тауна, состоявшего из продвинутых «хрущёвок», смотрели на какую-нибудь площадь, с каким-нибудь небольшим памятником, разглядывали нарисованные гуашью афиши, обещавшие нам концерт коллектива «Усть-Катавская гармонь» и фильм «Пираты двадцатого века», молодежную дискотеку и досуговые мероприятия «Для вас, ветераны», потом мы садились на какой-нибудь транспорт, и снова просыпались под знакомыми обоями, в двухэтажном домике, как правило, выкрашенном в желтый цвет. И всегда это оказывался какой-нибудь новый город.
Тогда мы поняли, что нет никаких «городов», есть только один глобальный Мухосранск, священный в своей непоколебимости, вездесущий, как божественное присутствие. Пространство стало нам понятным. Устройство жизни открылось нам во всей своей простоте. Мухосранские споры проели в пространстве длинные ходы, извилистые, как дыры в куске сыра. Нам же была доступна только поверхность, на которой Мухосранск проявлялся в виде очередной пригоршни домиков, окруженных бесконечным заводом, в зеленых ладошках невысоких круглых гор. Он догонял нас, где бы не появились. Вечный город, в нашей несложной ойкумене более вечный, чем Рим. Иногда он сдавался перед нашим напором, ведь мы были неукротимы в поисках красоты. И тогда он делал нам маленькие подарки. В Перми, например, он проявил для нас Каму, холодную, горделивую и женственную. В Екатеринбурге – утренний шум воды у плотинки и разноцветные сентябрьские парки. В Челябинске – сумасшедший гам пьяных и ласковых дурочек-студенток жаркой ночью на Алом поле.
Но в целом, Мухосранск всегда был беспощаден. Он прятал парки в слое мусора, реки – подо льдом, а людей заковывал в доспехи непробиваемой угрюмости. Дрейфуя между окраинами этого бесконечного города-завода, мы намертво впитали его серые въедливые соки. В наших желтых глазах – свет зимних уральских окон. В наших желтых зубах – готовность вцепиться в недолгое солнце.
Угрюмые мухосранцы, любимые и родные, сентиментальные и жестокие, наивные и хитрожопые, потомки сосланных пассионариев, покрытые пепельной железной скорлупой, под которой шевелится мягкая податливая сердцевинка. До сих пор живущие по средневековым правилам, они сшибаются кирасами, летят искры, тухнут, оседают по обочинам жизни пеплом, звенят шлемы, стоит лязг латных перчаток, бьющихся в рукопожатии, проверяющих кисть на крепость. Слабые дохнут у метафизической параши. Долго, как плесневеющий хлеб…
Блюзовое серое пальто
Когда мне было лет семнадцать или восемнадцать, я носил страшно модную тогда причёску mullet, серое пальто, тяжёлые дедовские ботинки и открывал для себя блюзовую музыку: мрачные и жёсткие песни Вилли Диксона. Spoonful, Backdoor Man, I’m Ready. Пропитанные безнадёгой и яростью.
В те времена молодые люди постоянно определялись: кто ты есть? Металлист? Панк? Хиппи? Это почему-то казалось ровесникам ужасно важным, этому посвящали фольклор, об этом рассказывали анекдоты, это воспевали в подъездах.
Страна болела. Тогда мы ещё не предполагали, что болезнь затянется надолго и, повизгивая от радости, отважно бросались в ещё вчера запретные волны: слушали всё подряд, прокалывали разные места булавками, пили портвейн и прочим образом издевались над родительскими представлениями о порядочности. Но вот этот постоянный нерв «кто ты?» отчего-то отравлял эти подростковые приключения.
Кто ты? Неформал?
Нет, я просто люблю своё серое пальто.
Панком я пробыл ровно неделю, успев за это время обзавестись первой в Челябинске бейсболкой, которую купил прямо на улице у какого-то чувака явно неместного вида. Он думал, что я хочу его ограбить и очень обрадовался, когда я дал ему каких-то денег. Чуваковый страх до сих пор меня удивляет: в ту пору я имел модную ныне костлявость и опасность представлял только для пивных бутылок.
Ещё мне удалось забрать за долги у одного бухарского еврея (да-да, вот так всё экзотично) косуху22
Vj Мотоциклетная кожаная куртка с косой застёжкой-молнией, один из символов рок-н-ролла
[Закрыть]. Разумеется, она была обшарпанной и неудобной, но это никак не снижало градуса её крутизны. Вы только представьте косуху и бейсболку в сумасшедшем 89-м году? Зайти в таком виде в троллейбус в час пик – почувствовать себя собратом Матиаса Руста на Красной площади. К счастью, я вовремя понял, что панк-рок я не люблю совершенно. В момент, когда осознал, что нет силы, которая заставит меня послушать ещё хоть одну песню Ramones.
Помогло и высказывание Дали, вовремя где-то прочитанное. Он увидел в Нью-Йорке панков и оставил в дневнике высказывание в духе: «Этот мир и так говно, а панки хотят быть говнее самого говна». Я вернул косуху её черноглазому владельцу и снова надел любимое серое пальто. Ну какие могут быть Ramones, когда Стиви Рэй Вон и его братец Джимми, Мадди Уотерс, Роберт Крэй и прочие корифеи?
Как-то раз я попал на свадьбу к одному товарищу, невесте которого дядя-пограничник отправил из Грузии контейнер настоящего вина. В то время, когда болгарской кислятины-то без битвы купить было невозможно. Разумеется, я надегустировался, как спелая виноградная гроздь. Помню, вытянул руку, чтобы поймать такси и тут же обнаружил под ладонью разделительную полосу улицы им. Якова Свердлова (дело было в Свердловске, который ещё не стал Екатеринбургом).
Домой в таком разухабистом виде возвращаться ни в коем случае нельзя. В качестве тихой гавани я избрал квартиру одной приятельницы, которая, на мою беду устроила дома «квартирник» одного известного рок-барда, покидавшего Родину навсегда и по этому поводу дававшего прощальную гастроль. Надо отметить, что покидал он Родину потом ещё не раз, мотаясь туда-сюда, как шаттл «Агасфер». И всегда давал самую прощальную гастроль на свете.
Тем вечером, в небольшой хрущёвой «трёшке» набилось больше семидесяти поклонников. Рок-бард оказался до того заунывным и пафосным, что хотелось написать ему на лбу неприличное слово. Поклонники оказались на удивление разнообразны: застарелые хиппи, самомумифицировавшиеся ещё в конце 60-х, скороспелые панки, среди которых, например, был чувак, который после армии стал одним из героев козыревского рокапопса.
О, вспомнил, там ещё были «диггеры»! Мальчики-мажоры, дети партийных бонз, которые типа «закапывали свои чувства». Закапывали они, блджад! «Диггеры» употребляли опасные таблеточки и слушали бесчеловечную дрянь (с моей личной точки зрения, разумеется), типа Einstürzende Neubauten и тому подобное. Уныние и тоска. Своё никчёмное существование они оправдывали тем, что в спецшколах наизучали всяких языков и могли с лёту разбирать тексты своих скрежещущих кумиров. Что, кстати, не делало их ни веселей, ни интересней.
От душащего человеческого разнообразия хмель моментально меня оставил. Чтобы попить воды, я двинул на кухню, где дули шмаль какие-то юные отбросы, и тут мне снова задали этот извечный, убийственно-раздражающий, тупой вопрос: «Ты кто?». В смысле, к какой неформальной группировке я принадлежу. Пока я соображал, что ответить в этот раз, из простенка между холодильником и мойкой материализовался какой-то мятый человеческий окурок и с пафосом народного поэта сказал:
– Ты понимаешь, что тут сейчас – весь цвет хиппанской и неформальной тусовки (слово «тусовка» тогда тоже было остромодным; да и вообще, я должен был, по идее, онеметь от восхищения и от близости к джинсово-дырявым гениям)? И тем не менее, ты тут – самый индепендовый чувак.
В костюме-тройке-то? Конечно. Как просто, оказывается, стать «самым индепендовым чуваком», подумал я. Никаких талантов не надо, вот этих резаных вен, стихов с надрывом, самоварной химозы и романтических рок-подвигов.
Не надо делать ничего. За тебя все всё сами придумают.
– Я сам себе субкультура, – гордо ответил я, завернулся в серое пальто и ретировался из гнезда «диггеров», послав милой хозяйке флэта воздушный поцелуй.
И ничему же жизнь не учит! Три десятка лет прошло, а идиотская подростковая привычка периодически сыграть в Байрона на утёсе никак не выветрится… Я, разумеется, овладел навыками социальной мимикрии в нужной степени. Даже разными профессиями овладел. Завёл такую же придурошную, как я сам, собаку-социофоба.
Однако, по сей день мне кто-нибудь да задаст вопрос «ты кто?». А потом сам себе объяснит, кто я.
И ещё каждую осень я собираюсь купить серое пальто. Почему всё не куплю – сам не знаю. Видимо, ответ иррационален как и сама эта серая дождливая мечта.
Миямото
Осень 88-го выдалась холодной. Очень холодной. Город казался логовом теней. Серый свет тускло разбавлял водяную взвесь. Асфальт становился зеркально-гладким от воды. Остатки зелени, не облетевшие за последнюю неделю, свернулись в сухие чайные листья. По утрам белая крошка засыпала дорожки. Иней проступал сквозь землю как холодный пот тяжелобольного. Конец октября.
Утром в университете ко мне подошла Вика в сопровождении какого-то неимоверно худого парня «dressed in leather» и сказала, что в пятницу будет рок-фестиваль. Событие по тем временам невероятное. Как конец света.
– Нитро, – сказал парень из-под занавески волос. Я промолчал. Тогда он протянул руку и повторил, – Нитро.
– Это мой друг Андрей, но все называют его Нитро, – продолжала улыбаться Вика. – Он играет тяжелую музыку. Если хочешь – приходи к нам, тусанемся.
– Фестиваль – говно, – сказал Нитро. – Панков там не будет. «Чайф», «Агата…» и прочая свердловская хуйня. Но тусанемся клёво. Придут Кастет и Панцырь. И Блохастый. И Репка—Барабан.
От парней, которые с гордостью носили имена «Кастет» или «Скорп» ничего хорошего ожидать не приходилось, хотя бы потому, что их сильно били в школе и во дворе. От чего они пытались защититься крутыми псевдонимами, нестандартным прикидом и непонятным для гопоты слэнгом. Что, кстати, совершенно не делало их более интересными. Однако, осеннее одиночество в чужом городе действовало на меня тяжело. Я запомнил адрес и пообещал придти.
Вечером я пошел на автовокзал встречать Кенгура, который приехал в Свердловск на фестиваль. Кенгур тогда был отличным музыкантом, ему частенько предлагали переехать в Москву. Я ему очень обрадовался. Мы обнялись, обменялись новостями. Мои любимые пенсионерки тоже встретили Кенгура радостно. Напоили чаем, вареньем угостили, оставили ночевать. «А ты, Сережа, где учишься?», спрашивала бабушка. Кенгур смущался, краснел, набирал полный рот чаю. Он по восемь часов в день работал в одной индепендовой группе и мечтал играть с U2. Команда уже пробовала выступать в Москве вместе с гремевшим тогда Петром Мамоновым. Впереди была вся жизнь.
Ночью мы тихонько играли на моей старушке-«кремоне», а утром пошли в университет. Кенгур не видел университета. Нормальное явление для простого челябинского пацана, которого в детстве звали Серый Хуер и почти все друзья у которого сидели (сидят, будут сидеть) в тюрьме.
Навстречу нам как всегда шел Стас. В безумной маковой рубахе, в джон-ленноновских очках-велосипедах, заслонясь от негативной энергии окружающих длинными коричневыми волосами. Он придирчиво оглядел Кенгура, его черный жилет с огромной панковской булавкой, оценил серьгу в ухе, и сказал:
– Стас. Можно «Стас—пидорас».
– Он – поэт, – сказал я Кенгуру, волнуясь за соблюдение сторонами этических норм.
– Сергей, – сказал Кенгур с напряжением, но протянутую руку пожал. Обстановка разрядилась.
– Стас, ты сегодня где? – спросил я.
– Еще не знаю, – ответил Стас.
– Вика дала наколку, где вписаться можно, – сказал я и назвал адрес.
– Я там не был, – сказал Стас. – Но Вику, наверное, выебал бы с удовольствием. Хотя она и толстовата для меня.
– Сходим вечером? А то Кенгуру надо где-то пожить. У меня ему неудобно с пенсионерами. Они спать рано ложатся. Шуметь нельзя.
Потом мы долго гуляли, а вечером отправились по адресу. В старом разваливающемся особняке царило столпотворение: на фестиваль съехался пипл со всех городов и весей. Хипы, панки, просто тусовщики, легенды «системы» и юные дурочки, наркоманы, металлеры, музыканты, придурки – кого там только не было. Вику мы нашли не сразу. Стас тут же деловито спросил сигарет. Нитро, напыжавшийся клея, с хохотом отдал все, что у него было. Пол был сплошь застелен одеялами. На стенах кто-то рисовал углем. В углу возилась странная пара. Табачный дым ел глаза.
– Ну как? Устроишься? – спросил я Сержа.
– Клёво, – ответил он, во все глаза глядя на кипевшую вокруг него жизнь.
Я обнял его на прощание и спустился по неудобной крутой лестнице. Глаза горели от дыма. Я закашлялся и потер лицо ладонями.
– Я тоже не люблю табак, – сказал за спиной голос. – Точнее, не люблю когда накурено. Даже вот покурить на улицу вышел.
– Ты откуда? – спросил я.
– С Новосиба. Новосибирска то есть, – ответил парень выходя на свет. – Миямото, – добавил он, протягивая мне жилистую пятерню. – Я раньше карате занимался. Долго. Поэтому и погоняло такое. Японское, – добавил он, словно бы извиняясь.
Я назвал свое имя. Пожал шершавую ладонь. Подниматься в душный сумрак второго этажа не хотелось. После дождя было свежо и по-весеннему пахло мокрым асфальтом. Мы разговорились.
Я сказал, что люблю рок-н-ролл, немного играю сам. Что с детства смотрел, как все занимаются карате, но когда решил заниматься сам, карате уже запретили. Миямото говорил, что барабанит в одной группе, хочет играть профессионально. Я рассказывал про Кенгура и его группу, о том, что не люблю пафосных рассуждений о музыке в отсутствии самой музыки, о том, что «русский рок» не сможет долго держаться только на идее независимости, если не будет нормальных музыкантов и нормальной музыки. Миямото смеялся, говорил, что сегодня музыканты больше бухают, чем репетируют, и этим он тоже немало раздосадован.
Через час мне, показалось, что знакомы тысячу лет.
– Может выпьем за знакомство? – предложил я.
– А ты не знаешь, где сейчас можно взять травы? Я бы дунул.
– Надо далеко ехать. Да я боюсь, что эта кодла уже все вокруг на много километров скурила, – сказал я, показав пальцем на светящееся окно второго этажа.
– Я на игле сидел два года. Употреблял все – морфин, амнопон, промедол. Все, что удавалось достать. Сейчас слез кое-как. Начал снова тренироваться. Уже девять месяцев на ремиссии. Сегодня праздник – завтра открывается фестиваль. Хочется кайфануть конечно, но колоться не хочется. А бухать я не мастер, да и нечего. Помоги, а?
Он был чуть повыше меня, худой, но жилистый, с широкой грудной клеткой. Кулаки были покрыты здоровенными мозолями. Одет просто. Какие-то скромные феньки на руках. На голове черная бандана. Надо же, думаю, старше меня от силы на год, а уже на игле побывал. Надо помочь.
– Тогда поедем к Freak`у, но это дорого, – сказал я.
– У меня с собой есть пара промедола, – сказал Миямото, протягивая мне на ладони ампулу и шприц—тюбик. – Я бы поменял. И денег у меня много – я работаю.
– Поехали, – сказал я.
Деньги у него действительно были. Мы поймали тачку и поехали в Пионерский поселок к Freak`у-татуировщику. Я плохо помнил адрес. Нам пришлось немного поплутать по ночным кварталам. Было холодно и неуютно. Пару раз мимо нас проехали менты на УАЗике. Миямото молча отступал в тень, как бы заслоняя меня. Он шел легко и пружинисто, словно пританцовывал. Говорил он тоже легко, тихо и мягко, так же как и двигался. «Прикольный чувак», подумал я.
Подсадил его на иглу лучший кореш. Подсадил и улетел от передоза через две недели.
– А как ты соскочил? – спросил я.
«Я не хотел соскакивать и не собирался даже, – улыбнулся Миямото. – Сначала все стало гораздо труднее доставать, чем раньше. Начал трахать одну медсестричку. Не, я ее не подсаживал, она уже сама употребляла, еще до меня. Ну, она вообще на всем торчала, на чем только можно: калипсол, циклодол, амнопон, фентанил, мачьё дербанила, что угодно. А я никогда не «колесил». Никаких таблеток. Только по венам, по дорогам жизни… (задумался) и смерти. Сестричка нам доставала легко.
Вообще легко: она постоянно с кем-то трахалась. Вообще со всеми – с мужиками, с пацанами, даже с девчонками, вообще со всеми. Могла троих заебать, до смерти. И постоянно торчала. Я ее очень любил, только любить ее было нельзя, невозможно. Невозможно любить человека, которого нет. Его не просто с тобой нет, его вообще нет. Невозможно его поймать, застать. Только что была здесь и – ффффф – уже нет. Как мотылек. Бывало вмажет меня, пока приходуюсь – она уже где-то по коридорам, где-то летает. Мы с ней часто о смерти говорили. Говорили, что если улетим, то вместе. Она меня любила по-своему. Говорила, что если улетать, то только со мной. Двигались с ней одной колючкой, в смысле… общей иглой кололись. Никогда не предохранялись, никаких гандонов. Вообще ничего не боялись. Даже вместе с парашютом прыгали как-то несколько раз. Мечтали поехать в горы, в Непал.
Как-то раз я к ней шел. Ломало меня, вообще не знаю как. А у нее фентанил должен был оставаться. Я бегу, в кармане пустой баян, знаешь, обычный стеклянный, многоразовый, так бряк—звяк в такт шагам. Бряк—звяк. А я бегу и все перед глазами брякает, звякает, и блазнится мне, как я его из кюветы достаю, как пырку на машину надеваю», – по щекам Миямото хлынули слезы:
– Извини, брат. Я уже девять месяцев на ремиссии, а вот видеть шприц не могу – сразу слезы бегут. Бегут, бляди, и всё тут! Я не реву, это они сами. И подташнивает… Сейчас вот… только вспомнил и тоже, видишь, бегут.
В общем бегу, остановился в кустах, просрался, проблевался, весь в поту бегу. И тут мужик какой-то бухой. Перегородил дорогу… И все «дай закурить», да «дай закурить». Я дал. Он мне: «а огня?». Я дал, а у самого все бряк—звяк перед глазами, баян в кармане шевелится, просится в вену прыгнуть, пить хочет. Мужик не пускает меня, затянулся и говорит: «а ты, молодой, чё бежишь-то все куда-то?». Я говорю: дела. Он: «так ты деловой охуенно?». Я попытался его обойти, он ка-а-ак в башку мне даст. Нос мне сломал. Я встаю с земли, смотрю, а он по-боксерски стоит-пританцовывает, и стоечка такая грамотная у него. Я только приподнялся, он снова мне в башку бух, и два зуба выхлестнул. И орет: вставай, пидорас! Я встал, по яйцам его пнул, он опустил левую руку и я ему цуки пробил. Хороший такой гяку-цуки, прямо в сердце. Он всхлипнул и упал. И не дышит. И пульса вроде нету на шее. А я ка-а-ак побегу. Мне же надо, у меня тяга, ломает всего…
Добежал до больнички, сестренка меня вмазала, да только дряни какой-то впорола и я чуть кони не двинул. Температура. Боли. Врач посмотрел и говорит: «сепсис». Меня на переливание, потом по ментам, потом на учет в наркологию, потом на «принудиловку». Я везде в «отказняк». Не говорю, кто мне вмазывал. Я у цыган покупал, говорю. Ханку. Мать меня отмазала, дали «условно» по-первости. И снова на больничку после изолятора. Выхожу с больнички, чуть живой. Жизнь кончена. Поехал я к сестричке, а мне говорят «её здесь нет больше». Я искать ее по флэтам. Нашел ее подругу, а саму не могу найти. Тем же вечером снова вмазался и так мне захорошело – доза-то упала, пока я сидел да лечился…
Нашел ее в деревне через три дня. Вмазались мачьём за встречу. Она мне говорит: «помнишь мужика, ты мне рассказывал, подрался, помнишь? Просил узнать, что с ним, помнишь?». Я: «и чего?». Осколок ребра вошел в сердце. Не спасли. Я проревел всю ночь… А утром просыпаюсь, а она сидит в кресле, улыбается… Глаза закрыты, в веняке колючка торчит… Уже холодная… Улетела без меня. Вот так все и кончилось».
– Пришли, – сказал я.
Мы остановились перед массивной двустворчатой дверью. Из-за нее как обычно раздавался дикий саунд трэш-блэк-металлического апокалипсиса. Я нажал на кнопку звонка. Freak неожиданно быстро открыл дверь. Обычно надо было ломиться в дверь с полчаса всеми способами, пока он хоть что-нибудь расслышит через металлюжный вой. Короткий ежик чёрных волос, предположительно американская (хотя, может, и бундесовая) военная куртка со споротыми нашивками, алый, вздувшийся от постоянных прыщей нос на мучнисто белом лице – знакомьтесь, это Freak-татуировщик.
– Чего-то быстро ты открыл, – сказал я, пожав вялую белую руку. Левая рука Freak`а была упакована в резиновую перчатку. Значит работает, кому-то колет чего-нибудь. Портачит.
– Я лампу установил. Красную, – заорал Freak. Он всегда говорил очень громко, привык перекрикивать постоянно орущую музыку. – Ты звонишь в дверь – она мигает. Иначе ничего не слышно. Клиенты обижаются, уходят.
– У тебя, Freak, я слышал, есть трава. У Миямото есть промедол. Он хочет совершить обмен.