Текст книги "Жизнь Матвея Кожемякина"
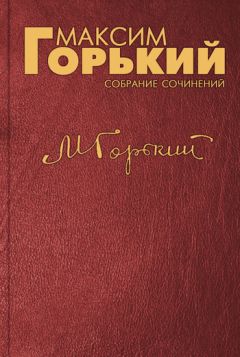
Автор книги: Максим Горький
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
– Опять – перепустил? Эко лихо!
Спрятавшись за зеленью цветов, Кожемякин сидел у окна, рассматривая людей, улыбался, тихонько подпевал, если пели знакомое, и со двора в грудь ему вливалось что-то грустное.
Иногда зоркие глаза замечали лицо Кожемякина, и дети вполголоса, осторожно говорили друг другу:
– Гляи – сидит!
– Иде?
– Эвон…
Хозяин прятался за косяк и думал:
«Как про лешего говорят…»
Где-нибудь в углу торчал старенький, безмолвный Шакир, прищурив глаза, ласково усмехаясь, а около него ютился полупьяный, растрёпанный Никон, тоже с блуждающей усмешкой на красном, измятом лице.
– А ты всё пьёшь, Никаша! – упрекал его Кожемякин.
– Всё пью, братец мой!
– Зачем?
– А когда пьян – всем веришь! – отвечал Маклаков и странно всхлипнул. – Пьяному – всё правда: зелёные черти, хорошие люди! Ты найди-ка трезвый хорошего человека – не найдёшь! А я сразу нахожу: вот он!
И указал на Посулова.
Виктора Ревякина Машенька отвезла в лечебницу в Воргород и воротилась оттуда похудев, сумрачная, глаза её стали темнее и больше, а губы точно высохли и крепко сжались. Стала молчаливее, но беспокойнее, и даже в походке её замечалось нерешительное, осторожное, точно она по тонкой жёрдочке шла.
Однажды, нарядно одевшись, она посетила Кожемякина поздно вечером и, сидя с ним в саду за чаем, вдруг тихонько заговорила:
– Хочу я с тобой, Савельич, по душам побеседовать. Скотья и бессмысленная жизнь эта надоела мне, что ли то, годы ли причина, или бездетность моя – уж не знаю что, а хоть и руки на себя наложить!
Кожемякин подумал, поискал что бы ей сказать и ощутил, что в груди и в голове у него – холодно и темно.
– Что ты мне скажешь? – услышал он требовательные слова, очнулся, пощупал грудь и торопливо забормотал:
– Живёшь ты, действительно, неверно будто… Тебе бы выбрать одного.
Она встала, отошла под дерево и оттуда спросила:
– Значит – жаловался Никон?
– Говорил…
– Что – к этому меня тянет, к Петру вот?
– Да.
– Дурак, – негромко и беззлобно сказала она, сломав ветку берёзы и омахиваясь ею.
– Кабы дети – хоть одно дитя! – были у меня от него! Истаскался, изжёг себя винищем, подлец, а тоже… туда же!
Кожемякин прислушивался к себе, напряжённо ожидая – не явятся ли какие-нибудь мысли и слова, удобные для этой женщины, недавно ещё приятной ему, возбуждавшей хорошую заботу о ней, думы о её судьбе. И снова чувствовал – почти видел – что в нём тихо, пусто.
«С головы помирать начал», – подумал он в ужасе.
– Ты – что? – спросила Ревякина, подходя к нему и заглядывая в глаза.
– Так как-то, – ответил он стыдливо, – не знаю что…
Вздохнув, она медленно отошла.
– Видно, от вашего брата ни от кого не будет толку, – слышал он. Потом женщина тихо воскликнула: – О, господи!
Походила по саду и незаметно, не простясь, ушла, а Кожемякин долго сидел один, разглядывая себя, как в зеркало, и всё более наливаясь страхом.
Сгущался вокруг сумрак позднего вечера, перерождаясь в темноту ночи, еле слышно шелестел лист на деревьях, плыли в тёмном небе звёзды, обозначился мутный Млечный Путь, а в монастырском дворе кто-то рубил топором и крякал, напоминая об отце Посулова. Падала роса, становилось сыро, ночной осенний холодок просачивался в сердце. Хотелось думать о чём-нибудь постороннем, спокойно, правильно и бесстрашно.
«С той поры, как начал Сухобаев болото сушить – пугачи не кричат больше. Улетели, видно».
Кто-то отворил калитку сада, зашаркал ногами по земле.
В темноте выросла ссохшаяся, сгорбленная фигура татарина.
– Это ты, Шакир?
– Я. Что не спишь?
– А ты?
Татарин, не ответив, подошёл вплоть к столу, остановился, наткнувшись животом на угол его, и сказал, слегка упрашивая:
– Спать надобна…
– Успеем, выспимся, – задумчиво ответил Кожемякин, – торопиться некуда.
Шакир протяжно вздохнул, повернулся и пошёл прочь, а Кожемякин заговорил ему вслед:
– Крестился бы ты, – помрёшь скоро уж! Дали бы тебе русское имя. Пора, брат, нам о настоящем думать.
Но татарин, не отвечая, растаял в узкой щели дорожки среди чёрных ветвей, и это было жутко. Кожемякин встал, оглянулся и быстро ушёл из сада, протянув руки вперёд, щупая воздух, и каждый раз, когда руки касались ветвей, сердце пугливо замирало.
С этого вечера мысль о смерти являлась всё чаще, постепенно и враждебно стремясь вытеснить все другие мысли. Сначала Кожемякин принимал её покорно и без спора подчинялся её внушениям, охлаждавшим всякое любопытство к жизни, интерес к людям. Встречая в зеркале своё отражение, он видел, что лицо у него растерянное и унылое, глаза смотрят виновато, ему становилось жалко себя и обидно, он хмурился, оглядываясь, как бы ища, за что бы взяться, чем сорвать с души серую, липкую паутину. И, бесплодно побродив по дому, устало садился на любимое своё место, у окна в сад, смотрел на шероховатую стену густой зелени, в белёсое небо над ней, бездумно, в ожидании чего-то особенного, что, может быть, явится и встряхнёт его, прогонит эту усталость. Приходил Сухобаев, потёртый, заершившийся, в измятом картузе, пропитанный кислым запахом болота или осыпанный пылью, с рулеткой в кармане, с длинной узкой книгой в руках, садился на стул, вытягивая тонкие ноги, хлопал книгой по коленям и шипел, стискивая зубы, поплёвывая:
– Это не народ, а – сплошь препятствие делу-с! То есть не поверите, Матвей Савельевич, какие люди, – столь ленивы и – в ту же минуту – жадны, в ту самую минуту-с! Как может человек быть жаден, но – ленив? Невозможно понять! Даже как будто не город, а разбойничий лагерь – извините, собрались эдакие шиши и ждут случая, как бы напасть на неосторожного человека и оного ограбить.
Вскакивал со стула и, грозя книгой, бормотал:
– Дудочки-с! Около меня не обрыбишься, нет!
И снова жаловался, ёжась, недоуменно приподнимая плечи и устало щуря острые глаза.
– Где у них разум? Совершенно нельзя понять! Говоришь им: вы подумайте, это предприятие полезно всему городу, всякому жителю! Реку вы испортили – освежим, воды у вас нету хорошей – будет! Не внимают! Не верят! Это, говорят, ты для своей пользы. А что же, позвольте спросить, в пользу пращура, что ли, работать мне? Это удивительно-с! Скажешь: господа обыватели, ежегодно мы горим, отчего большое разорение и убытки, и надо бы строить дома каменные. А, – кричат, – это потому, что ты у балымерских мужиков глину купил и кирпичный завод затеваешь! Ну, конечно, я купил – господи боже мой! – и завод, конечно, будет, потому что это нужно-с! И, конечно, всё, что нужно, – выгодно!
– А вот, – усмехаясь, вставил Кожемякин, – умирать надо, однако – кому это выгодно?
– Умирать? – с явным удивлением переспрашивал Сухобаев. – Зачем же-с? Смерть – дело отдалённого времени, мы лучше сначала поживём несколько!
И тотчас же, повинуясь новому ходу мыслей, он поучительно говорил:
– Под училище, Матвей Савельевич, следует приобрести эту самую вот бубновскую усадьбу-с; превосходное местоположение-с, и можно дешёво купить! Прикажете действовать? Чудесно-с, я осторожно начну.
Иногда, прикрыв глаза и дёргая себя за бородку, туманно улыбался – фантазировал:
– Пробежит лет десяток, и не узнать будет ни города, ни людей: прямо коробочка с конфетами, честное слово-с! Отбросьте сомнения, да!
И облизывал губы острым языком.
«Этому жить не страшно», – думал Кожемякин.
Ему очень хотелось говорить о смерти, а – не с кем было: Шакир упорно отмалчивался или, сморщив тёмное лицо, уходил, Фока – не умел говорить ни о чём; всегда полупьяный Никон не внимал этим речам, а с Посуловым беседовать на такую тему было неловко.
Он всегда рассказывал Кожемякину что-нибудь новое, интересное.
– Видали вы, Матвей Савельич, тенорка у меня, эдакий худущий, с резаной щекой? Он подкидыш, с Петуховой горки, Прачкин прозвищем, а по ремеслу – портной. Он, знаете, удивительной фантазии парень! Надо, говорит, составить всеобщий заговор против жестокого обращения с людьми…
В его светлых глазах вспыхнули золотые, весёлые искры, он подвинулся ближе к хозяину, понизил голос до таинственного шёпота.
– Надо согласить всех людей, чтобы они сказали: не желаем больше жестокой жизни!
– Кому – сказали?
– Вообще в мир, – несколько смущаясь, пояснил Посулов. – Главное, конечно, имущим власть.
И снова доверчиво продолжал:
– Замечательно! Вдруг бы все объявили общую волю: желаем жить в радости и веселии! Не желаем безобразия и грубости! Да-а, это бы – ой-ой что было!
Задумался на минуту, весь освещённый мечтательной и ясной улыбкой, потом сказал:
– Замечательная мысль!
Он всё больше привлекал Кожемякина к себе, возбуждая в нём приятное, отеческое чувство своей живостью, ясным взглядом прозрачных глаз, интересом ко всему в жизни и стремлением бесшумно делать разные дела, вовлекая в них как можно больше людей.
Новые мысли появлялись всё чаще, и было в них что-то трогательное. Точно цыплята, они проклёвывали серую скорлупу окуровской жизни и, жёлтенькие, лёгкие, пуховые, исчезали куда-то, торопливо попискивая, смешные, но – невольно возбуждающие добрую улыбку.
Даже Никон замечал:
– А знаешь, Савельич, – будто бы живее люди становятся! Громче голос у всех. Главное же – улыбаются, черти! Скажешь что-нибудь эдак, ради озорства, а они – ничего, улыбаются! Прежде, бывало, не поощрялось это! А в то же время будто злее все, и не столько друг на друга, но больше в сторону куда-то…
Кожемякин поглядел на его испитое лицо, облезлую голову, помутневшие глаза и спросил:
– А как у тебя с Марьей?
– С Ма-арьей, – протянул Никон, и оживление его погасло. – Так как-то, неизвестно как! Ты меня про это не спрашивай, её спроси. Посулова тоже можно спросить. Они – знают, а я – нет. Ну-ко, дай мне просвещающей!..
Он молча, рюмку за рюмкой, начал глотать водку и, безобразно напившись, свалился в углу на дворе; подошёл к нему угрюмый Фока с трубкой в зубах, потрогал его ногой и, шумно вздохнув, пошёл со двора тяжёлым, медленным шагом.
Кожемякина обидело поведение Фоки, он высунулся из окна, желая упрекнуть мужика, надулся, запыхтел, но не сказал ни слова.
«Надо тем сказать, – подумал Кожемякин, – что они бросают человека!»
Надел картуз, поддёвку и пошёл на базар, строя по дороге внушительную речь о том, что Никона надо пожалеть, приласкать его надо и нельзя допустить, чтобы он погиб в пьянстве, валялся в грязи.
В тёмной, прохладной лавке, до потолка туго набитой красным товаром, сидела Марья с книгой в руке. Поздоровались, и Кожемякин сразу заговорил о Никоне устало, смущённо. В тёмных глазах женщины вспыхнула на секунду улыбка, потом Марья прищурилась, поджала губы и заговорила решительно:
– Про Никона ты молчи; дело это – не твоё, и чего оно мне стоит – ты не знаешь! Вы все бабу снизу понимаете, милые, а не от груди, которой она вас, окаянных, кормит. А что для бабы муж али любовник – иной раз – за ребёнка идёт, это вашему брату никогда невдомёк!
Ему показалось, что она скрипнула зубами, это смутило и напугало его, он забормотал:
– Да ведь разве я тебя обидеть хотел? Человек он хороший, несчастный теперь…
– Он-всегда-был-несчастный, – всё суровее говорила женщина, странно отрывая слово от слова. – Я его счастливым пыталась делать – ладно, будет!
И, с оттенком обиды в голосе, она воскликнула:
– Чтобы с эдакой бабой, как я, да не найти себе счастье – ну, уж извините! Я ему полдуши отдавала – на!
Она вытерла платком лицо, рот и протяжно, точно застонав, вздохнула. Посидев ещё несколько тяжёлых минут, Кожемякин виновато простился и ушёл.
Ночью, приподнятый с постели жутким ощущением одиночества, зажёг лампу, осмотрел внимательно тёмные углы комнаты и, достав свою тетрадь, написал:
«Давно не касался я записей моих, занятый пустою надеждой доплыть куда-то вопреки течению; кружился-кружился и ныне, искалечен о подводные камни и крутые берега, снова одинок и смотрю в душу мою, как в разбитое зеркало. Вот – всю жизнь натуживался людей понять, а сам себя – не понимаю, в чём начало моё – не вижу и ничего ясного не могу сказать о себе».
Прочитал написанное и болезненно сморщился.
«Лживо написано – когда я противу течения плыть старался? Не было этого».
Подумав, перевернул страницу и снова начал аккуратно выводить на бумаге прямые, остроугольные буквы.
«Благослови господи на покаяние без страха, лжи и без утайки. Присматриваясь к людям, со скорбью вижу: одни как я – всё время пытаются обойти жизнь стороной, где полегче, но толкутся на одном месте до усталости и до смерти бесполезно себе и людям, другие же пытаются идти прямо к тому, что любят, и, обрекая себя на многие страдания, достигают ли любимого – неизвестно».
«Не то, всё не то, не этими мыслями я живу!» – внутренно воскликнул он и, отложив перо, долго сидел, опустошённый, наблюдая трепет звёзд над чёрными деревьями сада. Тихий шум ночи плыл в открытое окно, на подоконнике чуть заметно вздрагивала листва цветов.
Он открыл книгу, взятую у Посулова, недоверчиво уставился на ровные линии строк и прочитал:
«Один пред другим давали клятву быть вместе, как один человек, друг другу во всём помогать, друг друга из беды выручать, жизнью за друга жертвовать, за смерть друга мстить».
Кожемякин пододвинул лампу, не отрывая глаз от книги, и читал далее:
«Этот союз ценился у них так, что, бывало, отец готовился мстить собственным сыновьям, исполняя завет кровавого мщения за убийство названного брата».
Закрыл книгу, потом осторожно открыл её с первой страницы и, облокотясь на стол, углубился в чтение; читал долго, пока не зарябило в глазах, а когда поднял от стола голову – в комнате было светло, и деревья в саду стояли, уже сбросив тяжёлые уборы ночи.
Он встал удивлённый и зашагал по комнате, улыбаясь в бороду, встряхивая приятно усталой головой, шагал и думал:
«Вот оно что! Значит, книги – для того, чтобы времени не замечать?»
В памяти спутанно кружились отрывки прочитанного и, расплываясь, изменяясь, точно облака на закате, ускользали, таяли; он и не пытался удержать, закрепить всё это, удивлённый магической силой, с которой книга спрятала его от самого себя.
Потом он спокойно разделся, лёг, крепко уснул, а утром, умываясь в кухне, сказал Шакиру:
– Ежели кто спрашивать будет – дома нет меня!
– А – Никон?
Кожемякин, подумав, ответил:
– И он. Всё равно. У меня – дело сегодня…
Напился чаю, сел у окна и с удовольствием открыл книгу.
Чтение стало для него необходимостью: он чувствовал себя так, как будто долго шёл по открытому месту и со всех сторон на него смотрело множество беспокойных, недружелюбных глаз – все они требовали чего-то, а он хотел скрыться от них и не знал куда; но вот нашёлся уютный угол, откуда не видать этой бесполезно раздражающей жизни, – угол, где можно жить, не замечая, как нудно, однообразно проходят часы. Читал он медленно, не однажды перечитывая те строки, которые особенно нравились ему, и каждый раз, когда книга подходила к концу, он беспокойно щупал пальцами таявшие с каждым часом непрочитанные страницы.
Стал ещё большим домоседом, а когда в дом собирались певчие Посулова и многократно начинали петь: «Хвалите имя господне…» – Кожемякин морщился: «Скоро ли это кончится!»
Он прочитал книги Костомарова, Историю пугачёвского бунта, Капитанскую дочку, Годунова, а стихи – не стал читать.
– Это – детское, это мне не нужно, а ты давай-ка ещё исторического, – сказал он Посулову.
– Историческое – всё уж!
Кожемякин почти испугался и, не веря, спросил:
– Как – всё?
– У меня больше нет.
– Надо, брат, достать. Поедешь в Воргород за товаром, я тебе дам денег, ты и купи, которые посолидней. Спроси там кого-нибудь – какие лучше…
И, уже не имея сил отказаться от привычного занятия, он начал снова перечитывать знакомые книги, удивляясь развившейся страсти и соображая:
«Вот оно как! Осуждал я, бывало, людей, которые в карты играют, и вообще всякий задор осуждал, а – вот!»
Вскоре погиб Никон Маклаков: ночью, пьяный, он полез за чем-то на пожарную каланчу, а когда стали гнать его, начал драться и, свалившись с лестницы, разбил себе голову.
Эта смерть не поразила Кожемякина, он знал, что с Никоном должно было случиться что-нибудь необычное; он как будто даже доволен был – вот, наконец, случилось, – нет человека, не надо думать о нём. Но похороны выбили его из колеи.
Хоронили Никона как-то особенно многолюдно и тихо: за гробом шли и слободские бедные люди, и голодное городское мещанство, и Сухобаев в чёрном сюртуке, шла уточкой Марья, низко на лоб опустив платок, угрюмая и сухая, переваливался с ноги на ногу задыхавшийся синий Смагин и ещё много именитых горожан.
Сухобаев говорил Кожемякину, покачивая гладкой головой:
– Не первый это случай, что вот человек, одарённый от бога талантами и в душе честный-с, оказывается ни к чему не способен и даже, извините, не о покойнике будь сказано, – бесчестно живёт! Что такое? Загадка-с!
Тёплая пыль лезла в нос и горло, скучные, пугающие мысли просачивались в душу, Кожемякин смотрел в землю и бормотал:
– Ничего мы не знаем.
Между плеч людей он видел гроб и в нём жёлтый нос Никона; сбоку, вздыхая и крестясь, шагала Ревякина; Сухобаев поглядывал на неё, вполголоса говоря:
– Вполне загадочна жизнь некоторых людей…
Когда гроб зарыли, Семён Маклаков, виновато кланяясь, стал приглашать на поминки, глаза его бегали из стороны в сторону, он бил себя картузом по бедру и внушал Кожемякину:
– Вы – приятели были, – блинков откушать надо…
Толкались нищие, просовывая грязные ладони, сложенные лодочками, пальцы их шевелились, как толстые черви, гнусавые голоса оглушали, влипая в уши. Кожемякин полусонно совал им копейки и думал:
«Все – нищие на земле, все…»
Он не пошёл на поминки, но, придя домой, покаялся в этом, – было нестерпимо тошно на душе, и знакомые, прочитанные книги не могли отогнать этой угнетающей тоски. Кое-как промаявшись до вечера, он пошёл к Сухобаеву, застал его в палисаднике за чтением евангелия, и – сразу же началась одна из тех забытых бесед, которые тревожили душу, будя в ней неразрешимые вопросы.
– Вот, – говорил чистенький человек, тыкая пальцем в крупные слова, – извольте-с видеть, как сказано строго.
И отчётливо, угрожающе прочитал, подняв палец:
– «Иже аще не приимет царствия божия яко отроча, – не имать внити в не».
Закрыл книгу, хлопнув ею громко, и продолжал:
– Это я всё с Посуловым спорю: он тут – заговор против жестокости тихонько проповедует и говорит, что евангелие – на всю жизнь закон. Конечно-с…
Сухобаев оглянулся, понизил голос:
– Однако – и в евангелии весьма жестокие строгости показаны – геенна огненная и прочее-с, довольно обильно! Ну, а первое-с, Матвей Савельич, как принять жизнь «яко отроча»[18]18
«Как дитя», по-детски, с детским смирением – Ред.
[Закрыть]? Ведь всякое дело вызывает сопротивление, а уж если сопротивление, – где же – «отроча»? Или ты обижай, или тебя замордуют!
Он вскочил на ноги, прошёлся мимо гостя и снова сел, говоря:
– Знаете-с, как начнёшь думать обо всём хоть немножко – сейчас выдвигаются везде углы, иглы, и – решительно ничего нельзя делать. И, может быть-с, самое разумное закрыть глаза, а закрыв их, так и валять по своим намерениям без стеснения, уж там после будьте любезны разберите – почему не «отроча» и прочее, – да-с! А ежели иначе, то – грязь, дикость и больше ничего. А ведь сказано: «Всяко убо древо не творяще плода посекается и во огнь вметается» – опять геенна!
– Я думал, – тихо и удивлённо сказал Кожемякин, – что вас такие мысли не касаются.
Сухобаев махнул рукой.
– Очень даже касаются и – кусаются! Человек я, а – не скот! Характер у меня живой, глаз – весьма зоркий. Хочется прожить без осуждения людьми, с пользой для них, не зря, хочется уважения к себе и внимания. Что же-с – и святые внимания к себе требовали, вниманием нашим они и святы-с, да…
– Угрожают нам со всех сторон, – глубоко вздохнув, сказал Кожемякин.
Сухобаев уже тяготил его, вовлекая в кольцо враждебных дум.
– А кто? – воскликнул хозяин, надвигаясь на гостя. – Не сами ли мы друг другу-с? А сверху – господь бог: будь, говорит, как дитя! Однако, при том взгляде на тебя, что ты обязательно мошенник, – как тут дитёй будешь?
Кожемякин отклонился от него, устало спрашивая:
– Когда полагаете кончить корпус ваш на базаре?
Сухобаев метнул в его сторону острый взгляд, подтянулся как-то и бойко затрещал о многообразных своих делах.
«Напрасно я заходил к нему, – думал Кожемякин, идя домой по улице, среди лунных теней. – Я старик, мне полсотни лет, к чему мне это всё? Я покою хочу. Маялся, маялся, хотел приспособиться как-нибудь – будет уж! Имеючи веру, конечно, и смоковницу можно словом иссушить, а – когда у тебя нет точной веры – какие хочешь строй корпуса, всё равно покоя не найдёшь!»
Шёл он, как всегда, теснясь к стенам и заборам, задевая их то локтем, то плечом, порою перед ним являлась чёрная тень, ползла по земле толчками, тащила его за собою, он следил за её колебаниями и вздыхал.
«Вот и Никон помер. Шакир тоже скоро, чуть жив уж…»
Когда воротился Посулов и привёз большой короб книг, Кожемякин почувствовал большую радость и тотчас, аккуратно разрезав все новые книги, сложил их на полу около стола в две высокие стопы, а первый том «Истории» Соловьёва положил на стол, открыв начальную страницу, и долго ходил мимо стола, оттягивая удовольствие.
И вот он снова читает целыми днями, до боли в глазах, ревниво оберегая себя от всяких помех, никуда не выходя, ничем не интересуясь и лишь изредка поглядывая на чёрные стрелки часов, отмечавших таяние времени по жёлтому, засиженному мухами циферблату.
Серые страницы толстой книги спокойно, тягучим слогом рассказывали о событиях, а людей в книге не чувствовалось, не слышно было человечьей речи, не видно лиц и глаз, лишь изредка звучала тихонько жалоба умерших, но она не трогала сердца, охлаждённая сухим языком книги.
Человек рылся в книге, точно зимняя птица в сугробе снега, и был бескорыстнее птицы она всё-таки искала зёрен, а он просто прятал себя. Ложились в память имена драчунов-князей, запоминалась человечья жадность, честолюбие, споры и войны, грабежи, жестокости, обманы и клятвопреступления – этот тёмный, кровавый хаос казался знакомым, бессмысленным и вызывал невесёлую, но успокаивающую мысль:
«Всегда люди жили одинаково!»
Он чувствовал себя за книгою как в полусне, полном печальных видений, и видения эти усыпляли душу, рассказывая однообразную сказку о безуспешных попытках людей одолеть горе жизни. Иногда вставал из-за стола и долго ходил по комнате, мысленно оспаривая Марка Васильева, Евгению и других упрямцев.
«Это – детское, надеяться, что жизнь иначе пойдёт! Отчего – иначе? Нет этому причин! И если в пустыню на сорок годов – всё равно! Это шутка – пустыня. Уходили в пустыню-то! Тут – изнутри, от корней всё плохо».
Отрываясь от книги физически, мысленно он не отходил от неё, глядя на всё сквозь густую пыль прошлого, и точно частокол возводил вокруг себя, стараясь запомнить всё, что могло оттолкнуть, обесцветить требовательные мысли.
А живое всё-таки вторгалось к нему, и странны были образы живого: однажды, после спевки, вошла девочка Люба Матушкина в длинном не по росту платье, в стоптанных башмаках, кудрявая, похожая на куклу.
– Можно с вами поговорить?
Она спросила так серьёзно, что старик, усмехнувшись помимо воли, предложил ей сесть. Шаркая ногою о пол, она смотрела в лицо Кожемякина прозрачно-синими глазами, весело оскалив зубы, и просила о чём-то, а он, озадаченный её смелостью, плохо понимая слова, мигал утомлёнными глазами и бормотал:
– Что ж, пожалуйста!
Девушка резво вскочила и исчезла, вызвав у него сложное чувство: она не понравилась ему, но её было жалко:
«Бойкая какая, хоть мальчишке впору! Трудно живётся сироте – вон, как одета, вся в стареньком, матернем. А скоро невестой будет…»
На другой день она снова явилась, а за нею, точно на верёвке, опустив голову, согнувшись, шёл чахоточный певчий. Смуглая кожа его лица, перерезанная уродливым глубоким шрамом, дрожала, губы искривились, тёмные, слепо прикрытые глаза бегали по комнате, минуя хозяина, он встал, не доходя до окна, как межевой столб в поле, и завертел фуражку в руках так быстро, что нельзя было разобрать ни цвета, ни формы её.
– Вот! – сказала Люба, подходя вплоть к Матвею Савельеву и весело встряхивая кудрявой головою. – Говорите, Прачкин!
Тот шагнул вперёд, открыл круглые тёмные глаза.
«По глазам – Пантелемон-целитель», – подумал Кожемякин, приготовясь слушать.
Парень твёрдо начал, сунув руку с фуражкой в карман поддёвки:
– Намерение моё очень простое: всякий, кто видит, что жизнь плоха, обязан рассказать это и другим, а всё надо начинать с детей, оттого я и хочу быть учителем, а вас прошу о помощи, я же готов, мне только сдать экзамен и на первое время несколько рублей надо…
– Так, – сказал Кожемякин, довольный тем, что дело оказалось простое и парень этот сейчас уйдёт. Но из вежливости он спросил:
– А отчего же плоха жизнь?
Прачкин подступил ближе, отвечая чётко и уверенно:
– От всеобщей жестокости, и – это надо объявить! А жестокость – со страха друг пред другом, страх же – опять от жестокости, – очень просто! Тут – кольцо! И, значит, нужно, чтобы некоторые люди отказались быть жестокими, тогда – кольцо разорвётся. Это и надо внушить детям.
Удивлённо мигая, Кожемякин смотрел на него, на девушку, сидевшую с полуоткрытым ртом, упираясь на колени: оба такие молодые, а придумали что-то особенное.
– Мм, – мычал он. – Что ж? Это – хорошо!
Прачкин судорожно усмехнулся, вздохнул и добавил:
– Я прошу – взаймы.
Когда они ушли, Кожемякин, шагая по комнате, почувствовал неприязнь к ним.
– Тоже! – восклицал он, дёргая себя за бороду. – Какой герой, князь Галицкой нашёлся! Кольца рвать, туда же! Их веками ковали, а мальчишка пришёл – на-ко! И эта девчонка, живёт без призору, потеряет себя с эдакими вот…
Он дал Прачкину денег и забыл о нём, но Люба Матушкина, точно бабочка, мелькала в глазах у него всё чаще, улыбаясь ему, ласково кивая головой, протягивая длинные хрупкие пальцы руки, и всё это беспокоило его, будя ненужные мысли о ней. Однажды она попросила у него книг, он подумал, неохотно дал ей, и с той поры между ними установились неопределённые и смешные отношения: она смотрела на него весёлыми глазами, как бы чего-то ожидая от него, а его это сердило, и он ворчал:
– Это – книги скучные, серьёзные, и вам, девочке, не нужны они.
– Вовсе не скучные, – спорила она.
– Вам даже и понять нечего тут…
– А я всё понимаю!
И, глядя на него с весёлой гордостью в глазах, объявила:
– Я уж мамочкиного Тургенева всего прочитала!
Он не верил ей, качал головой и не расспрашивал больше: в синих зрачках Любы блестели искры догадливой улыбки, это смущало его, напоминая умную, скользкую улыбку Евгении. Было в этой девушке нечто неуловимо приятное, интересное, она легко заставляла слушать себя, как-то вдруг становясь взрослой, солидной, не по возрасту много знающей. Доверчиво, просто, нередко смущая старика подробностями, она рассказывала ему о своём отце, о чиновниках, игре в карты, пьянстве, о себе самой и своих мечтах; эти рассказы, отдалённо напоминая Кожемякину юность, иногда вводили в сумрак его души тонкий и печальный луч света, согревая старое сердце.
– Отчего вы не читаете газету? – спрашивала она.
– Ну, вот ещё, зачем мне!
– Чтобы знать, что делается везде.
Он, приподняв плечи, всматривался в её хорошее лицо, хмурясь и жалея её:
– Ну, а что же делается?
Девочка скороговоркой рассказывала всегда что-нибудь страшное – о каком-то таинственном убийстве актрисы офицером, о рыбаках, унесённых на льдине в море, и – снова о любовных драмах.
– Вовсе бы и не надо знать вам эти истории! – говорил он, а она, смешно надувая губы, с обидой заявляла:
– Вы – точно папа, ф-фу!
Незаметно для себя он привык к ней; если она не являлась три-четыре дня, это уже беспокоило его – он знал, что девочка одна и беззащитна среди пьяных картёжников, товарищей её отца. Но и частые посещения смущали его, заставляя думать:
«Девушка на возрасте, как бы слухи не пошли зазорные…»
Багряное солнце, пронизав листву сада, светило в окна снопами острых красных лучей, вся комната была расписана-позолочена пятнами живого света, тихий ветер колебал деревья, эти солнечные пятна трепетали, сливаясь одно с другим, исчезали и снова текли по полу, по стенам ручьями расплавленного золота.
«Кожемякин сидел в этой углублённой тишине, бессильный, отяжелевший, пытаясь вспомнить что-нибудь утешительное, но память упорно останавливалась на одном: идёт он полем ночью среди шершавых бесплодных холмов, темно и мертвенно пустынно кругом, в мутном небе трепещут звёзды, туманно светится изогнутая полоса Млечного Пути, далеко впереди приник к земле город, точно распятый по ней, и отовсюду кто-то невидимый, как бы распростёртый по всей земле, шепчет, просит:
– Пожалей! Помоги!
От этой картины сердце таяло в горячих слезах, они заливали горло, хотелось кричать.
Стало темно и холодно, он закрыл окно, зажёг лампу и, не выпуская её из руки, сел за стол – с жёлтой страницы развёрнутой книги в глаза бросилась строка: «выговаривать гладко, а не ожесточать», занозой вошла в мозг и не пускала к себе ничего более. Тогда он вынул из ящика стола свои тетради, начал перелистывать их.
«Для кого это, кому надо? Евгенья – не прочитает. Умру – бросят это в печь. Может, и посмеются ещё. Любови разве отдать?»
И, наклонясь над столом, заплакал скупыми, старческими слезами; мелкие, они падали на бумагу, точно капли с крыши в середине марта, и буквы рукописи расплывались под ними, окружаясь лиловым тонким узором.
Он стряхнул слёзы на пол, закрыл глаза и так сидел долго, беспомощный, обиженный, в этом настроении прожил весь следующий день, а к вечеру явилась Люба с книжкой в руках.
– Здравствуйте!
Беленькая, тонкая и гибкая, она сбросила с головы платок, кудрявые волосы осыпались на лоб и щёки ей, закрыли весёлые глаза; бросив книгу на стул, она оправляла их длинными пальцами, забрасывая за уши, маленькие и розовые, – она удивительно похожа была на свою мать, такая же куколка, а старое, длинное платье, как будто знакомое Кожемякину, усиливало сходство.
– Пришла! – сказал он, впервые обращаясь к ней на ты.
Упершись руками в узкие бёдра, выгибая спину и показывая девичью, едва очерченную грудь, она прошлась по комнате, жалуясь:
– Ой, устала!
И, взглянув на него, вдруг деловито спросила:
– Почему вы такой?
– Какой?
– Бледный, растрёпанный?
– Так уж…
Она села рядом с ним, заглянула в глаза ему.
– У-у, скучнущий! А я – на минутку. Сегодня весь день мы с Лушей-домовницей возились, возились – ужас что такое! Вчера у нас до шести часов утра в карты играли и ужинали, ну напились, конечно, грязь везде, окурки – ах! Даже тошно вспомнить! В субботу у почтмейстера папа проиграл, а на вчера пригласил всех к себе и ещё проиграл, и напился с горя, а сегодня – смотреть страшно какой – больной, сердитый, придирается ко всему, жалуется, что я его не люблю, а мне нужно полы мыть! Я уж сказала ему: иди, папка, лежи, а когда я уберусь и будет везде чисто, тогда станем про любовь говорить, иди! Вы знаете – я ведь могу очень строго с ним!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































