Текст книги "Стратегия Левиафана"
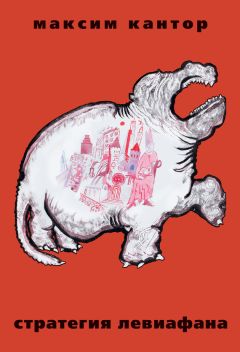
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
5. Как быть
a) Перестать жить «по понятиям» отдельной – пусть прогрессивной – страты. Преодолеть замкнутый характер социальных страт, сделать деятельность художника доступной для критики врача, деятельность политика доступной для критики ученого. Сделать возможным междисциплинарный критерий оценки, независимой от нужд как госаппарата, так и отдельной профессиональной корпорации. Создание междисциплинарной оценки деятельности и есть философия общего дела – другой не требуется. По сути это означает возрождение российской интеллигенции – в этом прежде состояла ее миссия.
b) Создать самостоятельный социальный язык, иными словами, создать новую эстетику: эстетика будет формировать искусство, а то, в свою очередь, – общественную жизнь. Некогда таким общим языком являлся авангард, он воплощал надежды на утопию. Исходя из того, что интернациональный язык авангарда давно сделался сервильным, изменил своей природе и служит декорацией быта сытых, задачей современной эстетики должно стать преодоление опыта авангарда. Новую эстетику можно определить как «поставангард» или «контравангард». Нетрудно понять, что во время гибели виртуальных ценностей обществу требуется эстетика реализма.
c) Признать принцип братства более необходимым человеческому обществу, нежели принцип соревнования. Соревновательный характер развития современной цивилизации некогда был объявлен благом – в мире, где девять десятых не допущены к участию в соревновании, этот принцип является субститутом расизма. Так мафия наследует побежденным диктатурам. Критерии и оценки статуса общественного развития должны выноситься исходя из принципа братства, и только из него.
При наличии этих трех компонентов: междисциплинарного критерия оценки, новой эстетики, принципа братства – можно говорить об изменениях, которые оздоровят общество. В противном случае мы, как всегда, примем участие в очередном бунте сытых, осмысленном и беспощадном – и будем именовать очередную резню революцией.
Как устроена российская история
Социальная жизнь в России происходит не благодаря смене элит, но благодаря смене общин, элита же выступает как служебная функция. Роль исторического мотора в России выполняет не класс гегемон – это нас обманули, – но традиционная русская община.
Употребляя слово «община», надо отказаться от представления, будто община – нечто из седых дедовских преданий, патриархальная коммуна землепашцев. В действительности община – это просто форма выживания российского народа под давлением государства. Община – это неформальный, но естественно складывающийся социум, всякий раз аутентичный конкретным обстоятельствам. Община – это народная самоорганизация, дающая возможность перетерпеть, приспособиться, выстоять, пережить давление чиновного аппарата.
Законов определенных – нет, произвол – дело привычное, самодурство начальства – неизбежно, воровство – ошеломляет своим размахом, но народ приспосабливается к обстоятельствам и живет. И живет он – благодаря особому кодексу внесистемных отношений. Неистребимый натуральный обмен: поддержка в обмен на участие, солидарность в обмен на понимание – выдерживает давление любого внешнего рынка. Ломает общину всякий раз прогресс – большинство русских царей и премьер-министров, ориентированных на модернизацию, видели, что главный враг их светлого будущего – именно община. Темные невежественные мужички, коих устраивает их роевая жизнь, они не хотят понять преимущество железной дороги, уносящей поезд России к горизонту! Ты им, сиволапым, про ипотеку, а они сидят на завалинке и в носу ковыряют.
И всякий новый Столыпин принимался крушить общину, вытаптывать ее в пустырь, во имя благой цели – возведения на пустыре нового российского дома.
Однако русская история устроена так, что сломать общину может только ее преемница – новая, актуальная община, сформированная новым вызовом истории.
Крестьянская община перестала существовать тогда, когда возникла коммунистическая партия, которая представляла из себя не что иное, как русскую общину нового образца. Ленинское выражение «партия нового типа» отражало суть вещей: большевистская партия не была стандартной политической организацией, но воспроизводила внутри себя неформальные общественные связи, и сделалась уже не политической, но в полном смысле слова народной. Оттого конфликт с партией меньшевиков (партией сугубо политической, с программой и планами) был заведомо решен в пользу партии большевиков (вооруженной тактикой популизма). Оттого и невозможна была в России двухпартийная система, что двух общин в народе быть не может – вот и партия нового типа, партия-община, была одна и рядом с ней никто ужиться не мог. Это была в полном смысле слова «народная» партия – и любой упрек западного демократа нелеп. У нас нет многопартийной системы! Так у нас и народ, извините, один – зачем нам несколько партий? Пролетариата в России не сложилось – разрушенная крестьянская община перетекла в города, но в городах растекающаяся общинная субстанция так или иначе формировалась в жизнеспособную, мимикрирующую под обстоятельства массу. Гениальность Ленина состояла в том, чтобы образовать из этой массы партию – новую общину, устойчивую к современным обстоятельствам. Крестьянство стало наипервейшим врагом Ленина («идиотизм деревенской жизни», любил он повторять вслед за Марксом), врагом Троцкого («превратим крестьянство во внутреннюю колонию»), врагом Сталина (коллективизация) – именно потому, что требовалось выполоть остатки уходящей крестьянской общины, создать новую «историческую общность» – союз пролетария (никогда не существовавшего в русской истории) с крестьянином (уже переставшим существовать). Но историческая общность тем не менее была создана! Протестовать против нее, как то делали наивные диссиденты, значило и в самом деле идти против народа. Так говорили коммунистические держиморды, а интеллигенты возмущались: как это так – мы против народа? Мы только против коммунистической партии! Но партия, игравшая на тот момент роль общины, и была народом. Термин «враг народа» отражал, как это ни печально признать, самую суть вещей.
Крах партии нового типа стал возможен лишь тогда, когда сформировалась новая российская община, и обстоятельства сделали эту общину актуальной. Речь идет об интеллигенции. Именно как общину, традиционное народное образование, а вовсе не сонм избранных интеллектуалов, следует воспринимать российскую интеллигенцию XX века. Именно общинные отношения – то есть строгий кодекс поведения, определенная манера общения, понимание нужд и солидарность с общей судьбой – и характеризовали российскую интеллигенцию ушедшего века. Сталин терялся, как интеллигенцию определить – назвал «прослойкой». А интеллигенция к тому времени уже консолидировалась, уже набирала силы, и в свое общинное состояние отлилась к шестидесятым годам.
Изначально интеллигенция ни в коей мере не воспроизводила народную систему отношений – напротив того: традиционная русская интеллигенция (Чехов, Короленко, Пришвин, Достоевский) чувствовала себя отличной от народа и ответственной за народ, она выступала как адвокат народа перед начальством, как язык безъязыких. Рассказать об униженных и оскорбленных тем, кто их унижает и оскорбляет – в этом и была миссия образованного человека. Обстоятельства изменились после революции – интеллигенция увидела, что народ ее (своего верного адвоката!) предал. Отныне интеллигенция уже не была со своим народом (там, где «народ, к несчастью, был»), но напротив – вполне внятно осознала свою судьбу как отдельную. Так из неопределенного сословия стала формироваться общественная страта, со своей моралью, с собственной судьбой, с желанным будущим. И это было тем актуальнее, что к этому времени действующая на тот момент община (партия нового типа) уже не справлялась с обстоятельствами истории – как это некогда случилось с крестьянством, коммунистическая община не выдерживала конкуренции с прогрессом.
Идущая на смену община интеллигенции была уже не та, XIX века издания интеллигенция, как мы ее помним по русским романам – лишь самоназвание сохранилось. Но теперь эта страта объединяла людей самых разных профессий и людей, вовсе лишенных профессиональных навыков, но с амбициями и желанием перемен. Совсем не обязательно было быть ученым и читать книжки, чтобы стать интеллигентом. Огромная масса управленцев, фарцовщиков, инженеров, домохозяек, социальных служащих и бывших партийных работников (входили же крестьяне в компартию – отчего бы партийцу не стать интеллигентом) – образовали новую русскую общину, интеллигенцию. И новая община получила свою элиту, своих лидеров, свою риторику, свою идеологию. Именно эту общину представлял М. Горбачев – и когда его упрекали в предательстве компартии, совершали ошибку: он просто обозначил переход от одной общины к другой – и так же рьяно, как когда-то коммунисты уничтожали крестьянство, ринулись представители новой общины сводить счеты с общиной прежней, с коммунистами. То, что назвали «перестройкой» – перестраивало не политический режим, не промышленность, не экономику. Мы сегодня заламываем руки: вернулась та же политическая система! Так она и не собиралась никуда уходить – опомнитесь! Сетовать, что экономика не сложилась, а промышленность не построили – нелепо: никто и не собирался их строить. Перестраивали российскую общину, народ искал новую форму саморегуляции. Соцслужащие, переименовав себя в капслужащих, стали не просто жить при капитализме – они стали жить в иной народной общности. Капслужащие мнили, что набор западных идеологем будет служить им долго – но жизнь интеллигентной общины оказалась краткой.
Трагедия новой общины-интеллигенции была заложена в ее генезисе: никакая община не может жить дольше, нежели принцип, ее образовавший. Тот интеллигентский кодекс, который некогда был сформулирован при образовании данной страты (сострадание, нонконформизм, просвещение малых сих), вошел в неразрешимое противоречие с формой жизни победившей общины. Требовалось врать и крутиться, ловчить и кланяться – делать все то, что положено для прогресса, но что коренным образом противоречит морали интеллигента. Некогда интеллигент с гордостью говорил, что он «не продается», но в новых обстоятельствах «непродажный» интеллигент сделался символом неудачника, изгоем – никак не примером. Как некогда лозунги Коммунистического интернационала вошли в противоречие с практикой большевиков, так и правила Чехова – Короленко оказались несовместимы с реальной жизнью нового гегемона. Отныне интеллигенция не объясняла начальству тяготы жизни народной, но напротив: доводила до понимания отсталого пьющего мужика, что привилегии жирного начальства оправданы. Тем самым мораль общины была подточена, идея русской интеллигенции перестала существовать, и следовало ждать, какая же новая община сменит ее.
Новой общиной закономерно стала воровская малина, растекшаяся по стране. Именно бандитская малина была исторически выбрана как новая модель русской общины – и интеллигенция легко перетекла в нее, как некогда партийцы перетекли в интеллигенцию, а крестьяне – в партию. Термин «общак» как нельзя лучше соответствует принципу русской общины, а так называемые «понятия» стали общественными правилами – жить по понятиям в отсутствие законов стали все граждане, и не обязательно иметь татуировку, чтобы понимать, что «за базар ответишь» и что надо «башлять налом». Жаргон зоны сделался общественным кодексом, и никакая судебная или правовая практика его не в силах отменить. Бесконечные бандитские саги и героические фильмы о братве (как некогда о партийцах, как некогда об интеллигентах) потому и стали популярны – что отражали уже не узкую мораль блатных, но принцип выживания народа. «Берите столько, сколько сможете унести!» – едва президент вольного города произнес эту судьбоносную фразу, как стало понятно, что община-интеллигенция отжила свое. Новая историческая общность уже не имеет сантиментов и к вызовам времени устойчива – тащит все, что плохо лежит, и что хорошо лежит – тоже тащит. Лидеры, делегированные этой общиной во власть, были соответствующими, и нет никаких оснований вменять им жестокость или нарушение законов: они воплощают правила данной общины, они есть плоть от плоти общероссийской малины.
Воровская малина всем хороша, но, будучи по сути своей несправедливой корпорацией (доходы основаны на разбое, а не на производстве), малина не в состоянии придумать общественную идеологию. Ох, до чего нам сегодня не хватает каких-нибудь, хоть самых завалящих лозунгов. Звать к демократии, как интеллигенты? К светлому будущему, как партийцы? Не работает лозунг, вот беда! Дайте, дайте нам национальную идею! А таковой нет. И происходит так потому, что вор может думать лишь о собственной наживе, а об общественном благе – он думать не может. Знаменитая платоновская формулировка: «Несправедливый человек может добиться успеха, но сообщество несправедливых людей не будет успешным» – в очередной раз подтвердилась. Никакой идеологической программы, даже той, которая неаккуратно выполняется, – нет, а «понятия» годятся в употребление для избранных паханов. Ни «самодержавие, православие, народность», ни «пролетарии всех стран, соединяйтесь», ни «права человека и свобода совести» – никакая общая формула бытия среди братков не приживется.
Надо ли дополнительно объяснять, что в отсутствие идеи и идеологии любой термин, любая категория – лишены смысла. И когда звучит отчаянный призыв – модернизировать Россию! – в термин «модернизация» вложить смысл не удастся. Модернизировать что? Принцип общественных отношений? Суды? Образование? Для этого как минимум требуется, чтобы сложилась очередная новая российская община – а ее нет.
Набросок европейской истории
«В Европе светская власть отделена от церкви» – это один из штампов идеологической борьбы. Когда произносят эту фразу, относят ее по ведомству «прав человека» – в сознании завистливого русского интеллигента данный факт расположен рядом с судом присяжных, с пособием по безработице и правом на демонстрации. Церковь отделена от государства – отчего-то представляется, что это прогрессивное решение было принято во имя прав и достоинств гражданина. Сами не знаем, что бы еще такое лакомое рассмотреть в тарелке у соседа – и в толк не возьмем, что там может оказаться нечто несъедобное. В данном случае завидуем тому, что ввергло Европу в непрестанную войну.
Массовое и регулярное смертоубийство в европейской истории именно связано с тем фактом, что светская власть и власть церкви были разнесены и соперничали. И в топку этого пылкого соперничества регулярно загружали миллионы.
Собственно говоря, вся до сих пор бывшая история Европы (вся, как она есть) – это попытка объединения земель – и немедленный распад этих земель, затем новая попытка объединения – и следующий распад, и так продолжается на протяжении полутора тысячелетий.
Объединение распавшейся империи Карла Великого осуществлялось на основании двух несовместимых принципов: власти Папы Римского – или власти кайзера, императора Священной Римской империи (то есть, Европы от Балтийского до Средиземного моря).
Генрих Птицелов, Оттон Великий Саксонский, Фридрих Барбаросса прилагали усилия, сопоставимые с сизифовыми, – чтобы втащить камень империи на сияющую римскую высоту – иногда им даже удавалось. Это действительно был сизифов труд, поскольку разделенные между Каролингами земли (Лотарь, Хлодвиг и Карл получили территории, примерно соответствующие Германии, Франции, Италии) плодили наследников, наследники плодили амбиции и верных графов, курфюрсты получали права на избрание нового короля – и так без конца. Стоило утвердиться империи – и обиженные сыновья Людовика Благочестивого начинали войну, или Лотар оказывался недоволен своей долей, и так далее. Салические, саксонские, франконские и габсбургские династии силились преодолеть эту закономерность, но едва им удавалось воцариться на вершине и соорудить подобие порядка, как камень империи вырывался из рук, катился вниз, разбивался в пыль.
Безвластие в Европе в Средние века – это ежедневный кошмар крестьянина, горожанина и ремесленника: жизнь и смерть вовсе непредсказуемы – объединение может произойти по самому неожиданному сценарию.
Сегодняшний жулик, выдумывающий акции несуществующего рудника, строящий финансовые пирамиды без обеспечения, – он, в сущности, наследник тех европейских феодалов, что сочиняли свои права на власть над тем или иным пространством. А населено пространство было живыми людьми, которых использовали в качестве щитов или мечей.
Требовалась единая власть, общий порядок – дать его мог престол Петра, находившийся в Риме, или германский император (он именовался тогда римским императором, хотя трон мог быть в Ахене или Регенсбурге). Парадокс ситуации заключался в том, что короноваться императором Священной Римской империи король мог лишь в Риме у Папы Римского, а Папа Римский нуждался лишь в верных императорах. Императоры прибегали к помощи епископов, которые порой избирали антипапу, а Папа использовал вражду династий, чтобы поощрять верных королей. Таким образом дважды возникали ситуации с двойным папством, причем у каждого папы было по своему императору для Европы. Это четырехвластие ничем не было хорошо – оно оборачивалось стовластием немедленно – фавориты-бароны и пфальцграфы забирали себе, по выражению Ельцина, «столько, сколько могли унести».
В конце концов сложилась ситуация постоянной конфронтации папистов и имперцев, описанная враждой гвельфов и гиббелинов, то есть, произнося правильно, Вельфов и Вайблунгов (это германские слова: Вайблунг – замок Гогенштауфенов, Вельфы – семейство королей).
Вражда гвельфов (папистов) и гиббелинов (имперцев) есть основной вопрос всей европейской истории, это ее хребет – все остальное происходило вокруг нее и в связи с ней. Папская власть (длившаяся, по причине длины человеческой жизни, недолго и не передаваемая по наследству) предпочитала опираться на многих равных (равноудаленных, сказали бы сейчас) герцогов и королей, на федеративный принцип европейской власти. Папству выгодно было поддерживать союзы многих, а не власть одного сильного, поддерживать недолговечные республики, предавая их, разумеется, когда того требовал договор с тем или иным королем. Императору, который передавал власть по наследству, требовались стабильность и отсутствие конкурентов.
Сочетание имперской и папской власти (эпизоды случались: Фридрих Барбаросса и Андриан IV, например) никогда не было – и не могло быть – долговечным.
Гвельфы и гиббелины таким образом олицетворяли два радикальных принципа устройства Европы – центробежный и центростремительный, республиканский и имперский.
Европейская история напоминает известную загадку о волке, козле и капусте, которых надо в целости перевезти на другой берег реки, а в лодке помещается только двое.
Если волк – это империя, а козел – церковь, то народ представлял всегда капусту, которую или козел съест, или волк порвет, или она просто сгниет.
Фактически Европа – это одна большая Германия, все великие династии – германские (Первая мировая – война кузенов); но титульная претензия Европы – разумеется, Рим. Римская история как в коде ДНК содержит в себе все последующее развитие европейской идеи и ее возможные толкования; идея эта, если сказать очень коротко, – вечное соревнование между Римской республикой и Римской империей. Соревнование это, опрокинутое в века, стало вечной европейской интригой.
Можно, конечно, определить данное соревнование как независимость Церкви от государства, но это будет очень локальное определение. Церковь с веками теряла позиции, общество становилось секуляризованным, имперские германские земли сделались в основном протестантскими, а впоследствии в политическую игру вступил социализм, но смысл противоречия сохранился. Гвельфы и гиббелины олицетворяли вечное онтологическое соперничество двух принципов удержания европейской власти.
Бисмарк (а за ним и Гитлер) выступили как классические германские императоры, хрестоматийные гиббелины, соединяющие земли под властью кайзерской короны; Гитлер никогда и не скрывал того, что он ненавидит католическую церковь, республики и строит рейх, наподобие Оттона Великого. А идея де Голля: Объединенные Европейские Штаты – это типичная конструкция гвельфа.
Противостояние это никогда не кончалось. Бесконечная Франко-прусская война (1870—1945) вполне может быть рассмотрена как борьба двух, однажды ясно обозначенных, принципов европейского устройства – федеративно-республиканского или имперского.
Это вот и есть история Европы – и другой истории у Европы, извините, нет. Есть великие гуманисты и философы, есть поэты и художники, есть Данте Алигьери, который был таким гвельфом, что не пошел ни с гвельфами ни с гиббелинами, ни на Поклонную ни на Болотную. Данте говорил о мировой, надциональной монархии, не о германской империи, даже не о Римской империи, но о мировой, в сочетании с властью теософии. И это совсем не похоже на проект глобализации, пангиббелинский проект.
Данте, как известно, был приговорен к смерти, не принят ни теми, ни другими.
Вот это – Европа. Это та история, которую многим из нас навязали как идеал. Это бесконечная кровавая война. Бесконечное смертоубийство и обман.
А то, что вам пообещали так называемые демократы Немцов с Пархоменко, так это они соврали по незнанию. Когда безумец Горбачев вознамерился войти в «общеевропейский дом» в твердой уверенности, что Европа – это такое место, где много колбасы, суд присяжных и Церковь отделена от государства, – он и сам не знал, куда именно входит. В голове царил туман, и лишь вспышками молний проносилось: «Цивилизация! права!» Когда благостная дама Прохорова рекомендует переписать историю, дабы наконец стало ясно, что Россия часть Европы и богатые имеют право гнобить народ, она и знать не знает, за какую именно Европу она выступает. Когда доказывают, будто Сталин втянул Европу в войну (т. е. один грузин спровоцировал распрю, которая тянется две тысячи лет), так это они врут. Когда кто-то верит, что Европейский союз не распадется, он заблуждается. А если кто-то считает, что Россия – европейская держава, на основании того, что русские банкиры ввели ипотеку, то этот человек – недальновидный осел.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































