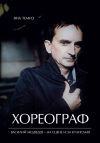Текст книги "Ночь с вождем, или Роль длиною в жизнь"

Автор книги: Марек Хальтер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
День второй
Вашингтон, 23 июня 1950 года
147-е заседание Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности
– Привет, Ал!
Звонок раздался в полдевятого.
– Твою русскую начнут снова потрошить сегодня в два. Ты допущен.
– На каких условиях?
– Не публиковать отчета, пока ее не закончат допрашивать. А если Комиссия решит, что огласка полученных сведений представляет угрозу для национальной безопасности, так и вообще не публиковать.
– И Векслер на это пошел? Девять из десяти, что они наложат эмбарго! Это их обычные штучки – когда хотят кому-то заткнуть рот, прикрываются угрозой национальной безопасности.
– Спокойно, Ал! Когда проблема возникнет, тогда мы ее и обсудим. Другое дело, что Вуд учуял в тебе левый душок. Подозревает, что ты сочувствуешь этой коммунистке.
Я хмыкнул.
– М-да, у этой шайки пещерные представления о коммунизме. Если подал нищему доллар, значит, уже готов загнать фермеров в колхозы.
– По крайней мере, он убедительно просит, чтобы ты как минимум проявил уважение к нему лично.
– Это как? Дарить букетик на каждом заседании?
Тут и Сэм хохотнул.
– Почти. Именно ты подсказал, чем можно улестить Вуда, так ведь? Векслер согласился, что это удачная мысль. И сам Вуд тоже. Надеется, что ты ему подыграешь. Председатель Комиссии должен находиться над схваткой. Мол, он не такой бешеный, как Никсон и Маккарти. Не антисемит, а просто отстаивает американские ценности… Ну и так далее, ты сумеешь это подать как нужно.
– О’кей! Спасибо, Сэм.
– Поблагодаришь, когда я одобрю твою статейку.
Первую половину дня я потратил, чтобы обшарить все полицейские комиссариаты Вашингтона, пытаясь выяснить, в какую тюрягу засадили Марину. Хотя Комиссия из этого сделала государственную тайну, но, как известно, не существует тайны, в которую нельзя проникнуть. Всегда найдутся лазейки, нужные знакомства.
Оказалось, женщину загнали в Старую окружную тюрьму. Тот еще подарок! Это угрюмое, зловонное здание, возведенное больше полувека назад, до странности напоминало церковь. Время от времени его надстраивали, но благообразнее от этого оно не становилось. К тому же тюрьма находилась за городом, в часе езды от Сената. Ясно, что Кон стремился упрятать Марину подальше от любопытных глаз.
В Сенат я приехал загодя, но мне пришлось изрядно поплутать по коридорам и лестницам, чтобы добраться до зала заседаний, куда перенесли слушание. Ширли, рядом с другой стенографисткой, снаряжала свою машинку. Когда она меня увидела, у нее аж глаза на лоб полезли.
– Ты уверен, Ал, что имеешь право здесь находиться? Сенатор мне ничего не говорил.
– Тихо, крошка! Я теперь человек-невидимка.
Ширли, конечно, не терпелось узнать, откуда мне вдруг такая милость. Но не было никакой возможности тотчас удовлетворить ее любопытство. Напарница уже навострила уши, а потом ведь наверняка разболтает по секрету всему свету.
Зал для полностью закрытых слушаний был совсем крошечным. Прокурорский пюпитр, столик для свидетелей и трибуна для членов Комиссии располагались треугольником. Стенографистки помещались за спиной свидетеля, у самой стены. Пользуясь отсутствием Вуда и всей банды, я выбрал себе место, позволявшее видеть Маринино лицо хотя бы сбоку. Надеялся, что меня оттуда не сгонят.
Члены Комиссии явились из дверцы позади трибуны. Маккарти волок под мышкой огромную папку, которую потом смачно шлепнул на сенаторский стол. Он постоянно давал понять, кто здесь настоящий хозяин.
На этом заседании присутствовали всего четверо членов Комиссии: Вуд, как председатель, два сенатора – Маккарти и Мундт, а также Никсон как представитель нижней палаты. Такой устроили междусобойчик.
Было понятно, почему в эту банду пригласили Мундта. Несмотря на свою внешность утонченного интеллектуала, он тоже был записным охотником на коммунистов. Недаром частенько шушукался с Никсоном. Я его уже не раз видел в деле. Вопросы свидетелям он задавал редко, но всегда очень метко.
Они развалились в своих креслах, не удостоив меня взглядом. Я не обманул Ширли, действительно превратился в человека-невидимку. Лишь Кон на меня глянул. Сегодня он облачился в кремовый костюм, в котором выглядел совсем уж юнцом. Он было хотел мне кивнуть, но вдруг передумал и, наоборот, поспешил брезгливо скривиться. Учуял, что Комиссия меня демонстративно игнорирует, и, конечно, последовал примеру старших.
Дверца вновь распахнулась. Марина была в наручниках. Бледная, ненакрашенная, лицо опухшее. Синь ее глаз стала даже гуще, глубже, суровей, чем казалось вчера. Волосы она зачесала назад, прихватив их грошовой металлической заколкой.
Ее сопровождала тюремная охранница. На Марине было вчерашнее платье, но все измятое. Несмотря на брошь, которой был заколот вырез, оно чуть съехало на левом плече, приоткрыв бретельку от лифчика. Видимо, женщина спала не раздеваясь. Если вообще спала.
Вот он и ответ на вопрос, которым я задавался ночью: никому до нее нет дела, даже некому принести сменную одежду. Неужели она не знакома с другими актрисами? Марина, помнится, сообщила, что преподает в актерской студии. А куда ж подевались ее ученицы, коллеги? Неужели у нее нет ни единой подруги? Может, и были, но все попрятались после того, как ею заинтересовалось ФБР. Ну уж а теперь, когда она угодила в лапы КРАД, не только друзья затаились, но даже и просто знакомые. Те, кто с ней челомкался каждый день на работе, сейчас ее даже и не опознают по фотографии. Маккарти с его Комиссией убедили всю страну, что коммунизм заразней сифилиса.
Копы доставили Марину к столику для свидетелей. Сняли наручники и замерли у нее за спиной. Женщина внимательно оглядела зал. Задержала взгляд на моей персоне. Кажется, была удивлена, что я здесь. По крайней мере, узнала.
Вуд открыл заседание. Кон объявил, что завтра утром будет проведен обыск в квартире свидетельницы. Марина встретила новость равнодушно. Как и сообщение Кона, что он запросил в ЦРУ дополнительные сведения об агенте Эпроне. Глянув в мою сторону, Кон добавил:
– Поскольку теперь заседания Комиссии полностью закрытые, ЦРУ согласилось предоставить нам досье своего агента. Я также запросил у них сведения об автономной области с центром в Биробиджане, о которой зашла речь на вчерашнем заседании. Если вы не возражаете, господин председатель, сотрудник управления завтра явится к нам, чтобы огласить запрошенную информацию.
Вуд, разумеется, не возражал. Наверняка вопрос был решен заранее. Но этим сообщением Кон дал понять Марине, что все ее показания будут тщательнейше проверяться. Вуд велел ему продолжить допрос. Прокурор, как охотничий пес, тут же свернул на привычную тропку:
– Мисс Гусеева, являетесь ли вы членом КПСС?
– Я уже ответила на этот вопрос.
– Ответьте еще раз. Итак: являетесь ли вы членом КПСС?
– Нет, и никогда не была.
– Вы не состояли в КПСС, ни проживая в Советском Союзе, ни находясь уже на территории Соединенных Штатов?
– Никогда не состояла ни там, ни здесь.
– И вы сможете это доказать?
– Нет, но и вы не сможете это опровергнуть.
Первый гейм сыгран. Марина даже не улыбнулась. В отличие от меня. Видимо, она успела хорошо подготовиться к словесной дуэли. Кон применил избитый судебный приемчик: с идиотическим упорством повторять один и тот же вопрос. Подсудимые на этом часто ломались. В раздражении выбалтывали то, о чем выгодней умолчать. Но Марина Андреевна Гусеева действительно была крепким орешком.
– Вчера вы нас уверяли, что Генеральный секретарь КПСС Иосиф Сталин мог легко с вами расправиться. При этом вы утверждаете, что не являетесь членом партии. А ведь членство в партии вас как-то могло защитить.
Тут уж Марина улыбнулась.
– Вы себе не представляете нашу страну, господин прокурор. А Сталина тем более. У нас, будь ты самым пламенным большевиком, и это не спасало. Наоборот, все лагеря кишели пламенными коммунистами. И общие могилы, куда сбрасывали погибших в лагере. Именно для них в первую очередь и были созданы лагеря.
Встрял Маккарти:
– Но, несмотря на террор, мисс Гусова, вас не арестовали. Вы живы-здоровы. Утверждаете, что даже не вступили в партию. Чудеса, да и только!
– Иосиф Виссарионович дал мне шанс.
– Какой именно?
– Он позволил мне стать еврейкой.
Маккарти, Никсон и Мундт дружно хмыкнули. Саркастически, неприязненно.
Скользнув по стенографисткам, Марина взглянула на меня в упор. Возможно, непроизвольно, а может, это был сценический прием. Так актеры используют паузу, чтобы проверить реакцию зала. Но как бы то ни было, я ей ободряюще мигнул.
– Я вам уже говорила, что после кремлевской вечеринки испытывала постоянный ужас. Каждый день, каждый миг. Долгие годы. Особенно после того, как узнала, что расстрелян Авель Енукидзе, провожавший гроб Аллилуевой. Арестовали Галину Егорову, не знаю, что с ней потом стало. Арестовали и расстреляли Бухарина. А еще раньше как-то странно погиб Орджоникидзе. Про него тоже говорили, что он застрелился… Мне было страшно выходить из квартиры, но еще страшней возвращаться. Всякий раз долго кружила вокруг дома, не решаясь зайти в парадное. Потом медлила на лестничной клетке, боясь открыть дверь. Прямо сумасшествие! На улице я не выносила, когда кто-то шел за мной следом. Но ведь и остальные также! Все тряслись. В любую минуту могли нагрянуть эти…
– «Кожаные плащи»? – не дал ей договорить Кон.
– Да, так называли агентов, не важно, ГПУ или НКВД. Менялись названия, но методы и униформа оставались прежними. Ведь у агентов ФБР тоже постоянная примета – их шляпы. Но у ваших агентов, правда, облик не такой грозный.
– Оставьте свои комментарии при себе, мисс, – проворчал Вуд. – Продолжайте!
– Эти «кожаные плащи» могли вломиться в любую дверь. И как я вам говорила, человек иногда пропадал бесследно, нельзя было узнать, жив он или умер. Его жену выгоняли с работы, семью вышвыривали из квартиры. К родственникам арестованных давние друзья и знакомые относились будто к заразным, от них бежали, как от чумы. А чаще всего членов семьи тоже арестовывали. Прежние заслуги не учитывались. Погибли Бухарин и Орджоникидзе, партийные вожди, веселившиеся со Сталиным на той вечеринке. Что уж говорить о рядовых партийцах, служащих, учителях, врачах, писателях… Бывало, человек выходил на улицу и больше не возвращался. Все заподозренные в троцкизме, правом уклоне и просто неприязни к большевикам были смертниками. Сажали за неосторожное слово, фразу, даже усмешку не вовремя. А рабочих – за прогул или опоздание к началу смены. Большинство делегатов XVII съезда, «съезда победителей», расстреляли. А Киров, хозяин Ленинграда, поплатился за то, что на выборах в Центральный комитет партии получил больше голосов, чем Сталин. Иосиф Виссарионович рыдал на его похоронах. Сталин учинил разгром Красной Армии. Были уничтожены тысячи командиров рот, батальонов, полков и вплоть до маршалов… В стране словно впрямь бушевало чумное поветрие. Мы все до единого были охвачены ужасом. От страха будто обезумели. Иногда пугались даже своего отражения в зеркале. Некоторые кончали с собой, чтобы наконец избавиться от этого мучительного страха. Узнав об очередном самоубийстве, я всякий раз вспоминала Надежду Аллилуеву. Но если не хватало решимости покончить с собой, была угроза превратиться в животное. Страх калечил душу. В ней не оставалось ничего, кроме этого ужаса. Люди начинали чувствовать любовь к своему палачу…
– Мы вас поняли, мисс, – прервал ее Вуд, – но вы все-таки не ответили на вопрос: если Сталин такое чудовище, почему этот кровопийца именно вас помиловал?
Она перевела взгляд на Вуда и долго не отводила. Пока Марина молчала, все присутствующие сидели затаив дыхание. Это было тягостное молчание – в зале будто витали призраки, вызванные Марининым рассказом. Кон первым не выдержал:
– Отвечайте же на вопрос, мисс Гусеева!
Не удостоив его вниманием, Марина продолжала взглядом сверлить Вуда, который заерзал в кресле. На помощь коллеге пришел Маккарти, громыхнув:
– Так вы отказываетесь отвечать?
– Я не боюсь ваших вопросов. И вообще вас не боюсь. Я испытывала страх долгие годы, но сегодня этому пришел конец. Я сумела его победить, и теперь ни вам и никому другому не удастся запугать меня.
Впервые я видел Вуда таким растерянным. Он привык к слезам, крикам, вспышкам ярости. А спокойствие женщины его обескуражило, пускай и ненадолго.
Но у Маккарти и Никсона броня была покрепче. Этим парням вообще не свойственно ничто человеческое.
– Нас не интересуют ваши комментарии, мисс Гусова! – рявкнул Маккарти. – Отвечайте только на поставленные вопросы.
– Да вам же плевать на мои ответы. Вы ждете только «да» или «нет». Какая чушь! Жизнь не укладывается в «да» и «нет». Может быть, только за исключением вашей, потому вы и требуете однозначности?
Ширли хрюкнула, сдержав смех. Маккарти, ощерившись, хлопнул рукой по лежащей перед ним папке, которую он так и не раскрыл.
– Я бы вам посоветовал сменить тон, мисс. Иначе пеняйте на себя.
Меня удивило, что произнес он это спокойно. Даже подумалось, не таится ли в его папке какая-то решающая улика. Но пока что Кон ринулся в атаку.
– Если ушли из театра, то чем же вы зарабатывали?
– Снималась в кино. В Москве были две большие киностудии – «Мосфильм» и «Союздетфильм», нынешняя Студия имени Горького. Им часто требовались девушки на эпизодические роли. Две-три минуты в кадре, не больше. Случалось, за неделю играла несколько ролей, а бывало за месяц ни одной. Но прокормиться было можно. Лишних вопросов мне не задавали, работа находилась. Как-то во время съемок я познакомилась с Алексеем Яковлевичем Каплером.
– Повторите имя и фамилию медленней, чтобы стенографистки смогли записать точно.
Она повторила, обернувшись в нашу со стенографистками сторону. В этот раз, правда, на меня не взглянула.
– Яковлевитш – это еврейское имя? – полюбопытствовал Никсон.
Марина пропустила вопрос мимо ушей. Как и остальные члены Комиссии. Кон тоже не настаивал на ответе.
– Продолжайте, мисс Гусеева.
– Алексей – исключительная личность. Великий сценарист. Надеюсь, он жив. В Биробиджане я за него молилась… Все женщины были в него влюблены. И я тоже. Это моя первая любовь. Он понимал, как я страдаю без театра. Только Алексею я решилась рассказать про кремлевский ужин. С той вечеринки прошло почти десять лет. Мне уже было под тридцать. Алексей старался меня успокоить, уверял, что гроза миновала: «Сталин о тебе забыл, Мариночка. Даже понятия не имеет, где ты и что с тобой». Но страх меня все же не оставлял. Наступил июнь 1941 года. Немцы вторглись в Советский Союз, а в сентябре уже взяли Киев и окружили Ленинград.
– Это мы и без вас знаем, мисс Гусеева.
– Ничего вы не знаете! Даже не представляете, что такое, когда миллионы вражеских солдат вторгаются в страну, все уничтожая на своем пути! Вам не приходилось спасаться от бомбежки, не зная, где укрыться… Бомбить Москву начали уже через месяц. Никто этого не ожидал. Как и не ожидали, что немцы так быстро захватят Украину, подойдут к Ленинграду. Какое уж там кино! «Мосфильм» эвакуировали в Алма-Ату. Каплер решил остаться в Москве. Он мне советовал: «Не падай духом! Не только бомбы и снаряды, театр – тоже оружие. Теперь твой долг вернуться на сцену. Надо показать нацистским варварам, что русский театр вопреки всему существует! Сам Сталин будет тебе аплодировать».
Москва
Август 1941 – декабрь 1942
Москва уже была не Москва. Всего через сутки с начала войны это был совсем другой город. Потом начались бомбежки. Армады немецких самолетов в летнем небе напоминали толпу тараканов, ползущих по чистой скатерти. Ночами вселяли ужас душераздирающие стоны пикирующих бомбардировщиков. Горели, рушились дома. На улицах витала кирпичная пыль, забиваясь в рот, в глаза. Москвичи будто ослепли от ужаса.
Бомбы разрывались в самом центре Москвы – у здания Московского университета на Моховой, прямо рядом с Кремлем. Большой театр пострадал от взрыва. Но фашистские «хенкели», «юнкерсы» не брезговали и кварталами деревянных домишек. Наоборот, рассчитывали, что от этой спички загорится вся Москва. Случалось, дым от пожарищ застилал солнце. Тротуары были густо усеяны цементной крошкой.
Немецкие орды наступали стремительно. К концу сентября фашисты были уже под Москвой. У военкоматов выстраивались очереди. Мужчины рвались на фронт. С началом войны угнетенный народ будто расправил плечи. Гнев на фашистских захватчиков оказался сильнее страха. Люди были готовы биться до победы, забыв все унижения, отринув робость, которую Сталин посеял в их сердцах. Возродился, казалось, уже забытый русский кураж.
Москвичи дежурили на крышах во время авианалетов, чтобы гасить зажигательные бомбы. На некоторых домах были установлены зенитки. Люди научились отличать звук «хенкеля» от «мессершмитта». Штурмовики пикировали с устрашающим воем, почти задевая крыши, чтобы сеять смерть. Охотились на всех без разбора – на детей, стариков… Бомбардировщики, наоборот, парили высоко в небе. Их мерный, даже умиротворяющий рокот, однако, предупреждал, что вот-вот раздастся губительный свист падающих бомб.
Окна заклеивали наперекрест бумажными лентами, чтобы их не разбило взрывной волной. По вечерам и ночам соблюдалась светомаскировка. Далеко не все москвичи переносили бомбоубежища. Там была страшная духота, отголоски взрывов терзали душу. Так что многие предпочитали во время воздушной тревоги дежурить на крышах, хотя бы просто грозя кулаком вражеским самолетам.
Лихо отбросив к столице обескураженного противника, немцы стали действовать со своим обычным педантизмом. Бомбардировки упорядочились: теперь они каждую ночь бомбили Москву в одно и то же время. Москвичи успевали подготовиться к налету загодя. Еще до того, как зазвучит сирена, матери с детьми уже направлялись к станциям метро, ставшим убежищами. Некоторые тащили чемоданы, узлы, детские игрушки. Если налет затягивался, люди там и спали прямо на полу на каких-нибудь подстилках. Разрывы бомб сюда почти не доносились. Приходилось терпеливо ждать, когда после сурового сообщения: «Граждане, воздушная тревога» в громкоговорителе наконец прозвучит спасительное: «Граждане, угроза воздушного нападения миновала».
Тогда можно было подняться наверх. После авианалета Москва казалась будто оцепеневшей от ужаса. Горели дома. Люди тревожно вглядывались в темноту, пытаясь понять, цел ли их собственный. Уже летом москвичек отправили копать противотанковые рвы. Собственно, предполагался один длиннющий ров на многие километры. Вручную, лопатами, женщины перекидали тысячи тонн земли. На работу сгоняли всех, от студенток до старух с мозолистыми руками. Там были и солдатские вдовы, и жены – некоторые из них проводили мужей на фронт наутро после первой брачной ночи.
Над городом висели аэростаты противовоздушной обороны. На некоторых улицах возводились баррикады. Из городского транспорта ходили одни трамваи. Почти исчезли легковые машины, только грузовики, перевозившие противотанковые ежи, ползли к западным окраинам столицы. Мавзолей и Большой театр были укрыты гигантскими брезентовыми чехлами, чтобы не стать мишенью для вражеских бомб.
Каждую ночь лучи прожекторов обшаривали небо, дотягиваясь до подбрюший аэростатов, украшенных огромными красными звездами. Лишь только в луч попадал самолет, начинался сущий ад. Не переставая били зенитки, трассирующие пули испещряли тьму яркими полосами. Все напоминало картину какого-то обезумевшего сюрреалиста. Ночь курилась дымками. Когда зенитчики попадали в цель, раздавался характерный звук, самолет тут же вспыхивал и устремлялся к земле, оставляя дымный след. Иногда сразу после этого в небе распускались зонтики парашютов. А на крышах люди вопили от восторга.
Тем временем фрицы продолжали наступать. Уклончивые сводки по радио вселяли беспокойство. Сразу, как началась война, у советских граждан были изъяты все радиоприемники. Остались только радиоточки, которые, как и громкоговорители в метро и просто на улицах, сообщали официальную информацию. Верней, вместо информации оттуда неслись призывы сражаться с врагом до победного конца.
Москвичи больше доверяли людской молве. Им уже было известно, что пали Минск, Киев, Смоленск, а Ленинград взят в кольцо блокады. Затем пала Одесса, немцы вторглись в Крым. По Москве носились панические слухи. Поговаривали, что фашисты взяли в плен миллионы красноармейцев; что, поскольку страна теперь лишилась украинских черноземов, всех ждет голодная смерть.
Немецкие танки неуклонно приближались к Москве, километр за километром. Была объявлена эвакуация детей до пятнадцати лет. На перронах московских вокзалов толпились отчаявшиеся матери и плачущие дети. Товарные поезда увозили эвакуированных на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию.
Марина, как и едва ли не все москвичи, жила в коммунальной квартире, народ их прозвал «коммуналками». Ее дом на Первой Мещанской недалеко от Ботанического сада, до революции вполне респектабельный, был буквально набит жильцами. Прежние гостиные разгородили на клетушки по девять-десять метров, где теснились целые семьи. Марине можно было позавидовать, что ей досталась отдельная комната. Но Маринино уединение продолжалось ровно до той августовской ночи 1941-го, когда угол ее дома задела бомба, разрушив три верхних этажа. А весь фасад обвалился сразу после отбоя: взорвался газ. Занялся пожар, который удалось погасить, когда квартиры уже выгорели.
Весь Маринин небогатый скарб погиб в огне. На месте ее комнаты покуривались вонючие дымки. С раннего утра Маринины соседки начали рыться в пепле и головешках. Отчаяние придало им силы запросто ворочать обломки стен. Руки не чувствовали ожогов. Слезы вымывали длинные бороздки на закопченных щеках. Казалось, их глаза тоже подернуты пеплом.
Марине же не хотелось ни плакать, ни перебирать обломки. Да у нее попросту и сил не было. Она как раз возвращалась домой после того, как почти месяц копала противотанковый ров. У нее даже пальцы не сгибались, а все ладони были усеяны кровавыми волдырями, натертыми черенком лопаты.
Ее руки уже давно кровоточили, но день за днем ей все равно приходилось копаться в глине. Иногда эта пытка делалась невыносимой. Она только и мечтала, встав на колени, погрузить свои пылающие руки в рыхлую землю, как тушат головешку. Слезы застилали глаза, дыхание прерывалось.
Но ведь и другим женщинам приходилось не лучше. Некоторые из них вслух поносили фрицев, чтобы себя подбодрить. Однако ни единая не сбежала. Дезертиршу совесть мучила бы еще сильней, чем кровавые мозоли. Каждое утро они вновь брались за лопаты. Болели не только руки, все тело. Женщины плавно сгибали плечи к самому животу, словно их мучила тошнота, потом медленно разгибались. Они колыхались, как волны на озерной глади.
Теперь даже мысль, что надо переваливать кирпичные обломки и балки, приводила Марину в ужас.
Так ли уж много она потеряла? Чемодан с одеждой, стопку книг, несколько безделушек, хранящих память о ее безрадостном прошлом. Да еще сценарии отснятых фильмов, где она только мелькнула. Стоило ли ради этого надрываться?
Марина даже испытала чувство облегчения, что избавилась от комнаты, где столько лет провела затворницей. Она была для Марины вроде тюремной камеры. Жизнь в коммуналке вообще не сахар. Постоянно вспыхивали склоки. Поводом могло послужить все что угодно: сундук, выставленный в коридор, несколько лишних минут, проведенных в ванной, не выключенный свет на кухне. Так что Марина вовсе не страдала, потеряв свою комнатушку, куда к тому же в любой миг могли нагрянуть «кожаные плащи». Вот почему за последние десять лет Марина к себе не пригласила ни одного мужчину. А уж кого-то оставить на ночь ей даже в голову не приходило.
За эти долгие годы у нее было несколько романов. Если так можно назвать считаные встречи украдкой. Раз-два, все по-быстрому – и разбежались. Марину это вполне устраивало. Ее ужасала перспектива проснуться рядом со спящим любовником – хватило ночи в кремлевском кинозальчике!
Покинув пепелище, Марина направилась в соседний Ботанический сад. Там она легла на скамью, подложив под голову сумку и скрестив руки на животе. Марину можно было принять за нищенку, каковой, собственно, и была. Тощая, плохо одетая, с потрепанной кожаной сумкой, на которую она пристроила свою нечесаную гриву. В сумке хранились все ее богатства – документы, продуктовые карточки, блокнотик, рваные перчатки, пара книжек, скомканный платок, да еще пудра и губная помада, уже давно остававшиеся без применения.
Собирались тучи, при этом ни ветерка. Духота предвещала грозу. Над крышами еще вился дымок от пожара. Женщины, с которыми она много лет прожила бок о бок, уже разгребли свои завалы и теперь брели кто куда в поисках пристанища. Сквозь решетку сада было видно, как некоторые толкают перед собой тележки, другие катят детские коляски или дребезжащие велосипеды. Чтобы спасти уцелевший скарб, годился любой транспорт. Марина могла бы к кому-то из них присоседиться. Сами нищие, они наверняка помогли бы той, кто потерял вообще все. Но Марина не шевельнулась. Не возникло и мысли им что-нибудь крикнуть на прощание. У нее оставалось единственное желание – спать.
Потом она часто вспоминала этот день, определивший ее будущее. Цепочка ожидавших Марину бед началась, однако, с огромной удачи.
К полудню гроза наконец разразилась. Громовой залп разбудил прикорнувшую на лавке Марину. Проснувшись, она все мгновенно вспомнила – и бомбу, и пожар, уничтоживший ее комнату. Сперва теплые дождевые капли слегка оросили аллеи сада, затем вмиг обрушился ливень. Марина опрометью выскочила на улицу и укрылась в ближайшей подворотне.
Сразу похолодало. Марина тряслась от холода в своем ситцевом платье. Платьице было жалкое, не модное, не элегантное, только чтобы прикрыть стыд. Она достала из сумки платок и накинула его на плечи. Марина была растеряна, ничего не соображала. А ведь так необходимо сообразить: что делать? куда податься?
В конце концов, под аккомпанемент громовых раскатов Марина приняла решение отправиться на «Мосфильм». Почти два месяца она там не появлялась. В июле Григорий Михайлович Козинцев предложил ей главную роль в фильме «Однажды ночью», который он собирался снимать для боевого киносборника. Казалось, такая удача – сыграть, пусть и в короткометражке, но впервые, главную роль, да еще у знаменитого режиссера! Однако Марину гораздо больше привлекал театр, чем кино. Козинцев это понимал:
– Ну, Марина, где же твое честолюбие? Твое место в театре. Вспомни, тебе уже под тридцать. Настоящее преступление – зарывать свой талант в землю.
Марина тогда промолчала. А вскоре начались бомбежки, и стало уже не до съемок.
На «Мосфильме» Марина вовсе не рассчитывала получить какую-нибудь роль. Всего лишь надеялась разжиться теплой одеждой и найти пристанище. Если только его тоже не разрушили немецкие бомбы.
«Мосфильм» занимал обширную территорию у излучины Москвы-реки на месте бывшей деревни Раменки. Это был огромный парк с ручьями, мостиками, колодцами, лесистыми холмами, муляжами изб и элеваторов для натурных съемок. А в гигантских ангарах бесчисленные мосфильмовские декораторы возводили целые города, где по улицам ходили автобусы и трамваи, ездили машины. У «Мосфильма» была и своя тракторная станция.
Но вот беда: Раменки – это самый запад Москвы, который больше всего пострадал от бомбежек. По мере приближения к «Мосфильму» Марина укреплялась в уверенности, что обнаружит на его месте одни руины.
Но нет. Бомбы пощадили «Мосфильм». Ни руин, ни единой взрывной воронки. Все целехонько – и деревья, и здания. Железные ворота были заперты на замок. Но те, кто норовил пробраться на студию тайком, минуя контроль, знали лазейки в заборе. Знала их и Марина.
Она обошла всю территорию. Миновала ветхие деревянные воротца, притаившиеся за кустами сирени. Аллея, вилявшая между прудиками, привела ее к одному из съемочных павильонов. Он был пуст, если не считать завалов неубранного мусора. Исчезли муляжи фасадов, улицы, как и вообще все декорации. Как и софиты. Как все до единого стулья.
Дальше ее путь лежал к административному корпусу. Первым делом она зашла в столовую. Тоже пустота! Все вывезено подчистую, так что даже не было нужды ее запирать. В столовой Марина чуть задержалась. Какая тишина! Сколько уж времени она мечтала о таком вот полном затишье.
В корпусе было множество кабинетов – выбирай, какой хочешь. По крайней мере, у нее будет крыша над головой. Только бы найти коврик и пару картонок, чтоб устроить себе ложе. В последнее время Марина приучилась спать даже на голой земле.
Ее шаги гулко разносились по пустынному зданию. Была темень и в коридорах, и на лестницах. Она заглядывала в один за другим кабинеты. Ни души! Только пустые шкафы и столы кое-где. Марина поднялась на второй этаж, который называли этажом режиссеров. Там ее ждал приятный сюрприз.
Просторный зал, раньше забитый письменными столами, стульями, монтажными столиками, тоже был пуст. Но Марина знала, что позади него прячется комнатка с умывальником, гардеробом и диваном. Там режиссеры отдыхали, а иногда оставались на ночь. По слухам, этот будуар хранил немало интимных тайн. Диван оказался на месте, как даже и покрывало на нем. Уцелели и прикнопленные к стенам пожелтевшие фотографии съемок. На этажерке пылилось несколько книг и стопок машинописи. В комнатке обнаружился низенький столик с чайником, стаканами и салфеткой. Задернув оконные шторы, Марина улеглась на диван, прикрыла глаза и, наслаждаясь затишьем, уснула.
Ее разбудил проникший сквозь веки сполох. Сон с нее мгновенно слетел. Вокруг темнота, хоть глаз выколи. Марине казалось, что она спала всего несколько минут.
Она расслышала какие-то шорохи, было ясно, что в комнатку проник чужой. Марина подскочила на диване, вскрикнув от ужаса.
В ответ послышалось изумленное:
– Марина Андреевна!
– Кто там? Кто вы?
– Не бойтесь, это я, Каплер…
– Алексей Яковлевич? Как вы сюда попали?
– Извините меня, Марина Андреевна…
Теперь уже они оба пришли в себя. Марина нервно рассмеялась.
– Господи, как вы меня напугали!
– Никак не ожидал, что вы здесь. Я не хотел…
– Да не переживайте, Алексей Яковлевич. Такая чепуха…
– В этой темнотище задел ваш диван. Чуть на вас не упал.
– Уже ночь?
– Еще какая! В самом разгаре.
– А мне показалось, я заснула всего на минутку.
– Скоро налетит немчура. Не стоит надеяться, что они вдруг нарушат график. Сами знаете, как немцы пунктуальны.
Тут он прыснул.
– Да что мы с вами шепчемся, как подростки, спрятавшиеся от родителей? Здесь никто нас не услышит и не увидит. Здание обесточено, света нет и не будет. К счастью, у нас с вами есть огонек.