Текст книги "Мужчина и женщина в эпоху динозавров"
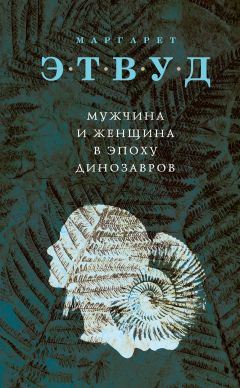
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Воскресенье, 31 октября 1976 года
Элизабет
Элизабет сидит на своем пастельном диване и смотрит на вазы. За спиной светятся две отрубленных головы. Вазы стоят на сосновом буфете. Это не ее чаши, те она не разрешила бы использовать, а позаимствованные из кухни: жаростойкое блюдо, большая белая фарфоровая миска и еще одна миска из нержавеющей стали.
В двух вазах – пакетики, с которыми дети провозились весь день, сверточки из гофрированных бумажных салфеток с напечатанным рисунком: ведьма и кот. Пакетики перевязаны бечевкой. Дети хотели использовать ленточки, но ленточек в доме не нашлось. В каждом пакетике несколько шоколадных «поцелуйчиков», коробочка драже и коробок изюма. Они хотели, чтобы она испекла имбирное печенье с картинкой – тыквой, но она сказала, что в этом году у нее нет времени. Жалкая отговорка. Они знают, сколько времени она проводит лежа на кровати.
Третья миска, стальная, полна центов – для копилок ЮНИСЕФ, которые дети нынче носят с собой. Спасем детей. Взрослые, как обычно, перекладывают эту задачу на детей, зная, что сами никого спасти не могут.
Скоро зазвенит звонок у двери, и она откроет. Там окажется фея, или Бэтмен, или черт, или какой-нибудь зверь, дети ее соседей, друзья ее детей, принявшие облик своих устремлений или родительских страхов. Она улыбнется им, похвалит их костюмы и даст им что-нибудь из ваз, и они уйдут. Она закроет дверь, сядет опять на диван и будет ждать следующего звонка. А в это время ее собственные дети делают то же у дверей соседей, подошли к дому по дорожке и отошли, по газону, где растет трава, если хозяева недавно въехали, вроде Элизабет, или иссохшие стебли помидоров и увядшие космеи, если хозяева – итальянцы или португальцы. Еще совсем недавно в этом районе жили только они, и он считался старомодным.
Ее дочери идут, бегут на оранжевые огни в окнах домов. Потом, когда они лягут спать, она будет разбирать их добычу, ища бритвенные лезвия в яблоках, отравленные конфеты. Радость детей уже не трогает ее, но страх за них еще трогает. Она подозревает, что мир замыслил против них недоброе. Нат всегда смеялся над ее страхами, называл их бзиками: острые углы столов (когда дети учились ходить), розетки в стенах, шнуры настольных ламп, пруды, ручьи и лужи (ведь можно утонуть и в двух дюймах воды), движущиеся машины, железные качели, перила крыльца, ступеньки; а позже – незнакомые мужчины, замедляющие ход автомобили, овраги. Он говорил: «Дай им самим научиться». Пока ничего серьезного не стряслось, она выглядит глупо. Но если когда-нибудь стрясется, ее правота вряд ли кого утешит.
Это Нату следовало бы сейчас сидеть на диване и ждать звонка в дверь. Это Нат должен открывать, не зная, кто там окажется, и выдавать конфеты. Раньше это всегда делала Элизабет, но Нат мог бы сообразить, что сейчас она не в состоянии. Мог бы и сам додуматься, если бы хоть немного захотел.
Но он ушел; и на этот раз не сказал ей куда.
Однажды Крис подошел к ее дому без предупреждения, позвонил в звонок. Он стоял на крыльце, и фонарь над головой превратил его лицо в лунный рельеф.
Что ты здесь делаешь? Она рассердилась: разве так можно, это вторжение, окно детской – прямо над крыльцом. Он вытащил ее наружу, на крыльцо, не говоря ни слова, придвинулся лицом к ее лицу, в свете фонаря. Уходи. Я тебе позже позвоню, пожалуйста, уходи. Ты же знаешь, я не могу. Шепот, поцелуй, плата шантажисту, только бы никто не услышал.
Ей бы выключить свет, погасить тыквы, запереть дверь. Она может притвориться, что ее нет дома. Но как она объяснит нерозданные конфеты? А если их выбросить, друзья ее детей обязательно будут задавать вопросы. Мы пошли к вам, но у вас никого не было дома. Ничего не поделаешь.
Звонят в дверь, и еще раз. Элизабет набирает полные горсти и идет возиться с дверным замком. Удобнее поставить чаши у входа, рядом с лестницей; так она и сделает. За дверью – китаец, чудовище Франкенштейна и ребенок в костюме крысы. Она делает вид, что не узнала их. Вручает каждому по пакетику и бросает монетки в щели копилок. Они радостно щебечут между собой, благодарят ее, топочут по крыльцу, не представляя себе, что это за ночь на самом деле и кого изображают их маленькие тельца в костюмах. «Ночь Всех Душ». Не каких-нибудь дружественных душ, но всех. Душ, которые вернулись и плачут у дверей, голодные, рыдают о своей потерянной жизни. Даешь им деньги, еду, что угодно, взамен своей любви и своей крови, надеешься откупиться, ждешь, когда же они уйдут.
Часть вторая
Пятница, 12 ноября 1976 года
Элизабет
Элизабет идет на запад по северной стороне улицы, в холодной серости воздуха, что сливается с монотонным небом серо-рыбьего цвета. Она не заглядывается на витрины; она знает, как выглядит, и не тешит себя иллюзиями, что могла бы выглядеть по-другому. Ей не нужно ни ее отражение, ни отражения мыслей других людей о ней или о себе. Персиково-желтое, яблочно-розовое, малиновое, сливовое, шкуры, копыта, плюмаж, губы, когти – все это ей без надобности. Она в черном пальто. Она жесткая, плотная сердцевина, та черная точка, вокруг которой спиралью закручиваются прочие цвета. Она глядит прямо перед собой, плечи держит ровно, шагает твердо. Она марширует.
На пальто, на лацканах идущих ей навстречу – памятки, красные тряпочные лепестки, капли крови, что выплеснулись из черной фетровой дырочки в груди, пришпиленные по центру булавкой. День Памяти[7]7
День Памяти празднуется в Канаде 11 ноября; он посвящен памяти всех канадцев, погибших на войне. В знак уважения к ветеранам войны в этот день люди покупают и носят на груди красные маки – символ пролитой крови.
[Закрыть]. Булавка в сердце. А что продают в пользу умственно неполноценных? «Семена Надежды». В школе принято было замолкать, пока кто-нибудь читал стих из Библии, а потом все пели гимн. Склонив голову, стараясь напустить на себя серьезный вид, сами не зная зачем. В отдалении (или по радио?) грохотали пушки.
Это написал канадец. Мы – павшие. Нация некрофилов. В школе ей приходилось учить эти стихи два года подряд, тогда еще принято было учить стихи наизусть. Однажды ее выбрали читать это стихотворение. Она хорошо запоминала наизусть; тогда это называлось «любить стихи». Она любила стихи, пока не окончила школу.
Элизабет купила мак, но не носит его. Он лежит у нее в кармане, она трогает булавку большим пальцем.
Она помнит времена, когда эта прогулка, любая прогулка через эту часть города, привела бы ее в восторг. Эти витрины с их обещаниями – по сути, чувственными – заменили собой прежние витрины и прежние обещания, сулившие только безопасность. Твидовые костюмы. Когда это случилось, этот переход к опасности? Где-то за последнее десятилетие костюмы из плотной шерсти и английские шелковые косынки уступили место всякой экзотике: импортным индийским костюмам с разрезными юбками, атласному белью, серебряным амулетам, которые должны болтаться меж грудями, как рыбки на крючке. Клевать тут. А еще мебель, milieu[9]9
Среда, обстановка (фр.).
[Закрыть], аксессуары. Лампы с цветными абажурами, благовония, магазины, всецело посвященные мылу или толстым банным полотенцам, свечи, притирания. Соблазны. И она соблазнилась. Когда-то у нее горела бы кожа, иди она по этим улицам, витрины предлагали бы себя, не требуя ничего, уж конечно, не денег. Лишь одного слова: «Да».
Вещи почти не изменились, только цены выросли, и магазинов стало больше, но тот ласкающий аромат исчез. Теперь это всего лишь товар. Платишь и получаешь, получаешь ровно то, что видишь. Лампу, бутылку. Будь у нее выбор, она взяла бы то, прежнее, другое, но мертвенный голосок внутри ее говорит, что выбора нет, говорит просто: «Ложь».
Она останавливается перед газетным ящиком и наклоняется, заглядывая в квадратное стеклянное окошко. Надо купить газету, чтобы читать, сидя в приемной. Обязательно нужно будет на чем-нибудь сосредоточиться, а журналы, которые обычно держат в подобных местах, ей сейчас не по нутру. Многоцветные журналы, где все красочнее, чем в жизни, журналы про здоровье, про материнство или про то, как мыть голову майонезом. А нужно что-нибудь черно-белое. Тела, падающие с балкона десятого этажа, взрывы. Настоящая жизнь. Но читать газету ей тоже не хочется. Все газеты пишут только о выборах в Квебеке, которые состоятся через три дня и ей совершенно неинтересны. Выборы ее привлекают не больше, чем футбол. И то и другое – мужские ристалища, в которых ей достанется в лучшем случае флажком помахать. Кандидаты, сборища серых пятен, противостоят друг другу на первых страницах газет, обмениваясь молчаливыми, хоть и не бессловесными, выпадами. Ей все равно, кто победит, а вот Нату не все равно; и Крису было бы не все равно. Он всегда будто безмолвно обвинял ее в чем-то, словно самой своей личностью, манерой речи она что-то вымогала у него, вторгалась в его жизнь. Тогда как раз все говорили про языковой вопрос.
У меня что-то с ушами. Я, кажется, глохну. Иногда, время от времени, я слышу высокий звук, как будто гудение или звон. И мне трудно расслышать, что говорят другие люди. Мне все время приходится переспрашивать.
Нет, я не простужалась. Нет.
Она репетирует свою речь, потом повторяет ее доктору и отвечает на вопросы, сложив руки на коленях, ноги в черных туфлях ровненько, сумочка у ног. Почтенная дама. Доктор – пухлая, прозаического вида женщина в белом халате, на лбу фонарик. Она добрым голосом допрашивает Элизабет и делает у себя пометки докторскими иероглифами. Потом они проходят в соседнее помещение, Элизабет садится в черное дерматиновое кресло, врач заглядывает ей в рот и уши, по очереди, при помощи зонда с фонариком. Она просит Элизабет зажать нос и дунуть – не послышится ли хлопок.
– Пробок нет, – радостно говорит доктор.
Она укрепляет на голове Элизабет наушники. Элизабет смотрит на стену, где висит раскрашенное гипсовое панно: дерево, ребенок с личиком эльфа смотрит, задрав голову, на ветви, а рядом стихи, написанные шрифтом с завитушками:
Элизабет дочитывает до этого места и останавливается. Даже идеализированное дерево в гипсовом овале кажется ей похожим на спрута, корни переплетаются, как щупальца, впиваются в округлую выпуклость земли, жадно сосут. Нэнси начала кусаться, когда ей пошел шестой месяц и у нее вырос первый зуб.
Доктор возится с кнопками машинки, от которой тянутся провода к наушникам, машинка издает сначала высокие марсианские ноты, потом низкие вибрации, рокот.
– Слышу, – говорит Элизабет каждый раз, когда звук меняется. Она точно знает, какая у этой женщины обстановка в гостиной: на диванах чехлы из мебельного ситца, лампы в виде фарфоровых нимф. На каминной полке – керамические пудели, как у матери Ната. Пепельница, обсаженная по краям божьими коровками натуральных цветов. Вся комната – одно сплошное искривление времени.
Доктор снимает с Элизабет наушники и просит ее пройти во внешнюю комнату. Они обе садятся. Доктор благодушно, снисходительно улыбается, будто собирается сообщить, что у Элизабет рак обоих ушей.
– Слух у вас в полном порядке, – говорит она. – Уши чистые, диапазон нормальный. Возможно, у вас легкая остаточная инфекция, которая время от времени вызывает закупорку слуховых проходов. Когда это случается, просто зажмите нос и дуньте, как в самолете. От давления уши прочистятся.
(– Я, кажется, глохну, – сказала Элизабет.
– Может быть, ты просто некоторых вещей не хочешь слышать, – ответил Нат.)
Элизабет говорит секретарше доктора, что не будет записываться на следующий раз, и ей кажется, что та глядит на нее странно.
– Со мной все в порядке, – объясняет Элизабет. Она спускается в лифте и проходит через старомодный бронзово-мраморный вестибюль, по-прежнему маршируя. У двери на улицу гудение опять начинается, высокое, на одной ноте, будто комар пищит, или ребенок поет не в лад, или провода гудят зимой. Где-то идут электротоки. Она вспоминает историю из «Ридерз Дайджеста», прочитанную когда-то в приемной у зубного врача, про старушку, которая начала слышать у себя в голове ангельские голоса и решила, что сходит с ума. Много времени спустя, после нескольких обследований, врачи наконец поняли, что старушкины металлические зубные мосты ловят передачи местной радиостанции. «Ридерз Дайджест» перепечатал эту историю как анекдот.
Уже почти пять часов, темнеет; тротуар и мостовая склизки от мороси. Улица забита машинами. Элизабет переступает через канавку и переходит улицу по диагонали, перед стоящей машиной, позади другой стоящей машины. Зеленый грузовик доставки резко тормозит в движущейся полосе в трех футах от Элизабет. Водитель давит на гудок и кричит:
– Дура, тебе что, жить надоело?
Элизабет продолжает идти поперек дороги, не обращая на него внимания, твердым шагом, маршируя. Надоело ли ей жить. Звон в правом ухе обрывается, будто провод перерезали.
У нее все в порядке с ушами. Звук исходит откуда-то еще. Ангельские голоса.
Понедельник, 15 ноября 1976 года
Леся
Леся обедает с мужем Элизабет, с Элизабетиным мужем. Родительный падеж, притяжательное прилагательное. Не похоже, что этот человек – муж Элизабет или вообще чей-нибудь муж. Но особенно не похоже, что он муж Элизабет. Элизабет, например, никогда бы не стала обедать в ресторане «Универ». Либо у него нет денег, а в это легко поверить, он весь в потертостях и заусенцах, весь в заплатах, как скала, поросшая лишайником; либо он не думает, что она будет судить о нем по его ресторанным вкусам. Другие рестораны ушли вперед, а этот будто застрял в пятидесятых: та же мебель, те же замызганные меню, общее впечатление запущенности.
Сама Леся никогда не пошла бы сюда, в частности, потому, что ресторан «Универ» ассоциируется у нее со студентами, а она уже вышла из этого возраста. Она вообще не очень понимает, с какой стати вдруг обедает с мужем Элизабет, разве потому, что он как-то так ее попросил – это приглашение будто вырвалось у него, – и она не смогла отказать.
Она всегда была беззащитна перед чужим гневом и отчаянием. Она вечно пытается умилостивить кого-нибудь и сама это знает. Даже в женской группе, куда она пошла в студенческие годы под давлением соседки по квартире, она всегда была осторожна, боялась сказать что-нибудь не то; боялась, что ее обвинят. Она с нарастающим ужасом слушала рассказы других женщин, откровения об их половой жизни, о черствости их любовников, даже о мужьях, потому что некоторые были замужем. Но Лесю пугали не эти рассказы, а сознание, что от нее ждут того же. Она знала, что не может, что они просто говорят на разных языках. Даже если бы она сказала, что занимается наукой, что политика ей чужда, это не помогло бы. Они утверждали, что все – политика.
Они уже смотрели на нее оценивающе; ее одобрительного бормотания было недостаточно. Скоро ее загонят в угол. Она в панике начала обшаривать свое прошлое в поисках подходящего материала, но нашла только такую мелочь, такую чепуху, что ясно было: они этим никогда не удовлетворятся. Вот что это было: надпись на золотом своде, покрывающем вестибюль Музея: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Все положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями»[11]11
Пс. 8:5, 7–9.
[Закрыть]. Просто цитата из Библии, Леся проверила, но это могло их занять на время; они любили поговорить о том, что Бог дискриминирует женщин. С другой стороны, они могли вообще отвергнуть это приношение. Ну же, Леся. Что-нибудь личное.
Она сказала своей соседке, изучавшей социальную историю и носившей затемненные старомодные очки, что у нее нет времени ходить в группу, потому что курс палинологии оказался труднее, чем она думала. Ни сама она, ни соседка не поверили этому, и вскоре Леся переехала в отдельную квартиру. Ее раздражали попытки втянуть ее в какой-нибудь многозначительный диалог, когда она сушит волосы или ест кукурузные хлопья. Тогда оттенки смысла тревожили ее; она была гораздо счастливее среди конкретных вещей. Сейчас ей кажется, что тогда, пожалуй, не мешало бы иной раз слушать повнимательнее.
Нат пока не пугал ее просьбами рассказать что-нибудь о себе, хотя и говорил не переставая с тех пор, как они уселись за столик. Она заказала самое дешевое, что было в меню, – поджаренный сэндвич с сыром и стакан молока. Она слушает, откусывая маленькими кусочками, чтобы не показывать зубов. Нат пока что ни словом не обмолвился о цели их встречи. Сперва она решила – дело в том, что она знала Криса, знает Элизабет, а Нату нужно об этом поговорить. Это Леся поняла бы. Но пока что он не упомянул никого из них.
Леся не понимает, как ему удается вести разговор хотя бы пять минут и не упомянуть событие, которое в ее жизни громоздилось бы, заслоняя все остальное. Если бы это произошло в ее жизни, конечно. До этого обеда, этого поджаренного бутерброда с сыром и – что он там ест? – горячего сэндвича из белого хлеба с индейкой она вообще не думала о Нате или в крайнем случае считала его самой неинтересной фигурой в этом трагическом треугольнике.
Интереснее всех, конечно, Элизабет, которая нынче витает в Музее, бледная, с черными подглазьями, чуть полновата для своей роли, но в целом похожа на какую-нибудь овдовевшую шекспировскую королеву. Крис тоже интересен, потому что умер. Леся знала его, но не близко. Некоторые люди у нее на работе считали его слишком замкнутым, другие – что он все слишком близко принимает к сердцу. По слухам, у него бывали вспышки ярости, но Леся ни разу ничего такого не видела. Они работали вместе только над одной композицией: «Мелкие млекопитающие мезозойской эры». Композиция уже закончена, установлена в стеклянной витрине, оборудована кнопками озвучки. Леся писала спецификации, а Крис делал модели, обтягивал деревянные каркасы обработанными шкурками нутрии, кролика, сурка. Она приходила к нему в полутемную мастерскую, в том конце коридора, где хранились чучела сов и других крупных птиц. Экспонаты, по две птицы каждого вида, лежали в выдвижных железных ящиках вроде морга для животных. Леся приносила кофе себе и Крису и пила свою порцию, пока он работал, собирал каркасы из дерева и пенопласта. Они вместе гадали о разных приметах зверей: цвет глаз, масть. Странно было видеть, как такой массивный мужчина сосредотачивается на мелких деталях. Крис был не слишком высок и даже не особенно мускулист. Но производил впечатление тяжеловесности, будто весил больше, чем любой другой мужчина его габаритов, будто клетки его тела были утрамбованы плотнее, сжаты какой-то непреодолимой силой притяжения. Леся никогда не задумывалась, нравится он ей или нет. Ведь не задаешься вопросом, нравится ли тебе каменный валун.
А теперь он умер и, значит, стал еще более замкнутым, более загадочным. Его смерть повергает ее в недоумение; она не может представить себе, что сделала бы что-то подобное сама, и не может представить, чтобы так поступил кто-нибудь из ее знакомых. Казалось, что уж Крис-то никогда бы такого не сделал. По крайней мере, ей казалось. Хотя люди – не ее специальность, так что она не годится в судьи.
Но Нат; про Ната она вовсе не думала. Он не похож на обманутого мужа. Сейчас он говорит про выборы в Квебеке, которые происходят прямо сию минуту. Он вгрызается в кусок индейки; на подбородке следы соуса. Сепаратисты выиграют, полагает он, потому что борются с насквозь продажным правительством. И еще – из-за позорной политики федерального правительства в 1970 году. Леся смутно помнит, что тогда, после похищений, нескольких человек арестовали. Она в это время ушла с головой в изучение беспозвоночных; она была на четвертом курсе, и каждая оценка имела значение.
«А как вы думаете, это будет хорошо в конечном итоге?» – спрашивает Леся. «Дело не в этом, – говорит Нат. – Главное, чтобы истина восторжествовала».
Если бы эти слова сказал Уильям, Леся сочла бы их напыщенными. Сейчас они не кажутся ей напыщенными; ее впечатляет длинное лицо Ната (у него точно была борода; она видела его с бородой, на вечеринках и когда он приходил с детьми встречать Элизабет после работы; но сейчас лицо у него безволосое и бледное), его тело, обвисшее на плечах, точно костюм на вешалке, безучастное. Он старше, он все знает, знает такое, о чем она может только догадываться; он, должно быть, накопил в себе мудрость. Тело у него, наверное, морщинистое, в лице проступают кости. В отличие от Уильяма. Уильям пополнел с тех пор, как они живут вместе; его кости уходят в глубь головы, за мягкие баррикады щек.
Уильям против Квебекской партии, потому что они собираются сделать водохранилище на месте Залива Джеймса и продавать электроэнергию.
– Но их противники собираются сделать то же самое, – возразила Леся.
– Если бы я там жил, я бы ни за кого не голосовал, – просто сказал Уильям.
Сама Леся не знает, как она стала бы голосовать. Она думает, что, скорее всего, уехала бы оттуда. Она не любит никакого национализма. В доме ее родителей это была запретная тема. Да и как иначе, когда две бабушки вечно начеку, каждая постоянно допрашивает ее наедине, только и выжидая предлога для броска. Бабушки никогда не встречались. Обе отказались пойти на свадьбу ее родителей, которые расписались в мэрии. Но бабушки устремили свой гнев не на заблудших детей, а друг на друга. А Лесю обе бабушки, видимо, любили; и обе оплакивали, будто она была в каком-то смысле мертва. Это все ее поврежденный генофонд. Нечиста, нечиста. Каждая бабушка думала, что Леся должна отбросить половину своих генов и чудесным образом регенерировать. Ее украинская бабушка стоит в кухне за спиной у Леси, читающей «Книгу для юношества о сталактитах и сталагмитах», расчесывает ей волосы и говорит с ее матерью на языке, которого Леся не понимает. Расчесывает и молча плачет.
– Мама, что она говорит?
– Она говорит, что у тебя очень черные волосы.
Украинская бабушка наклоняется, чтобы обнять Лесю, утешить ее в каком-то горе, о котором сама Леся еще не знает. Однажды украинская бабушка подарила ей яйцо, расписное, которое нельзя было трогать, оно стояло на каминной полке рядом с семейными фотографиями в посеребренных рамках. Еврейская бабушка, обнаружив яйцо, растоптала его своими ботиночками, высоко поднимая ноги и с силой опуская. Будто разъяренная мышка.
Они обе уже старые, говорила ее мать. У них была тяжелая жизнь. Когда человеку за пятьдесят, его уже не перевоспитаешь. Леся рыдала над горсточкой ярких скорлупок, а маленькая бабушка покаянно гладила ее смуглыми лапками. Она где-то купила Лесе другое яйцо, и это, наверное, обошлось ей дороже денег.
Послушать бабушек, так они обе пережили войну, их лично травили газом, насиловали, кололи штыками, расстреливали, морили голодом, бомбили и отправили в крематорий, и они выжили чудом; на самом деле это было не так. Единственная, кого действительно коснулась война, была тетя Рахиль, сестра ее отца, старше его на двадцать лет, которая была уже замужем и жила отдельно, когда семья уехала. Тетя Рахиль была фотографией на каминной полке у бабушки – пухленькая, полная женщина. Она была достаточно обеспеченна, и это все, что выражала ее фотография: обеспеченность. Ни тени предчувствия; оно добавилось уже потом, в виноватом взгляде самой Леси. Ее отец и мать никогда не говорили про тетю Рахиль. И о чем было говорить? Никто не знал, что с ней случилось. Леся, как ни пыталась, не могла ее себе представить.
Леся ничего этого не рассказывает Нату, который объясняет ей, почему французы чувствуют то, что чувствуют. Лесю на самом деле не интересуют их чувства. Она просто хочет быть от них подальше.
Нат почти доел свой индюшачий сэндвич; к жареной картошке не притронулся. Он смотрит в стол, слева от Лесиного стакана с водой, и разнимает на куски ресторанную белую булочку. Стол вокруг него усыпан крошками. На все нужно смотреть с исторической точки зрения, говорит он. Он бросает булочку и закуривает сигарету. Лесе не хочется просить у него сигарету – у нее при себе сигарет нет, и ей кажется, что сейчас не время вставать и за ними идти, – но через минуту он предлагает ей закурить и сам подносит огонь, она чувствует, что он при этом смотрит на ее нос, и из-за этого она нервничает.
Она хочет спросить: зачем я здесь? Вряд ли вы меня пригласили на обед в этот заштатный ресторан только для того, чтобы решить судьбы нации, правда? Но он уже сигналит, чтобы принесли счет. Пока они ждут счета, он говорит ей, что у него две дочери. Он называет их имена и возраст, потом повторяет, как будто хочет напомнить сам себе или убедиться, что Леся правильно поняла. Он говорит, что хотел бы как-нибудь в субботу привести девочек в Музей. Они очень интересуются динозаврами. Не сможет ли она показать им экспозицию?
Леся не работает по субботам, но как она может отказать? Лишить его детей права на динозавров. Она должна обрадоваться этой возможности проповедовать, обратить кого-то в свою веру, но она не рада; динозавры для нее не религия, а лишь заповедная страна. Тут, должно быть, кроется что-то еще, после всех этих заиканий по телефону, этого свидания в ресторане, где, как внезапно понимает Леся, совершенно точно никогда не появится Элизабет. Леся вежливо говорит, что будет чрезвычайно рада провести детей Ната по Музею и ответить на все вопросы, которые у них могут возникнуть. Она принимается надевать пальто.
Нат платит за обед, хотя Леся предлагает оплатить свою долю. Она бы предпочла заплатить за весь обед. Нат с виду совсем нищий. Более того, ей до сих пор не ясно, чем она будет обязана за этот поджаренный бутерброд с сыром и стакан молока; что именно ее просят сделать или отдать взамен.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































