Текст книги "Мужчина и женщина в эпоху динозавров"
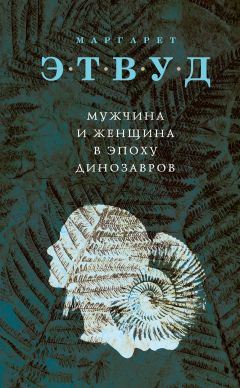
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Суббота, 30 октября 1976 года
Элизабет
Элизабет сидит на сером диване в подводном свете своей гостиной, руки спокойно лежат на коленях, будто она ждет самолета. В этой комнате не бывает прямых солнечных лучей, потому что окна выходят на север; Элизабет это успокаивает. Диван не вполне серый, точнее – не только серый; на обивке мягкие лиловые разводы, будто жилки проступают; похоже на батик. Элизабет выбрала такую обивку, потому что она не режет глаз.
На серовато-бежевом ковре, у левой ноги Элизабет, лежит обрезок оранжевой гофрированной бумаги, это дети что-то мастерили у себя в комнате; будто язык огня, жгучий. Но она его не трогает. Прежде она бы наклонилась, подняла бумажку, скомкала. Она не любит, когда что-то нарушает гармонию этой комнаты, будь то дети или Нат с его дорожками из опилок и пятнами олифы. У себя в комнатах пусть устраивают какой угодно беспорядок, там ей не приходится с ним бороться. Она хотела завести комнатные растения и здесь, а не только у себя в спальне, но потом передумала. Лишняя головная боль.
Она закрывает глаза. Крис рядом с ней в комнате, как тяжесть, как вес, ей трудно дышать, как перед бурей. Мрачный. Брачный. Злачный. Но это не потому, что он умер, – он всегда был такой. Прижимал ее спиной к двери, стискивал в объятиях, никак не отпихнуть его массивные плечи, лицо придвинуто, увеличено, сила тяготения. Придавливал ее. Я тебя пока не отпускаю. Она терпеть не может, когда кто-то имеет над ней власть. Нат не имеет над ней власти, никогда не имел. За него было просто выйти замуж, все равно что туфлю примерить.
Она сидит в комнате на Парламент-стрит, пьет вино, заплесканные стаканы оставляют багровые круги на поверхности стола, который он арендует вместе с квартирой. Она видит рисунок на клеенке – аляповатые цветочные венки, лаймово-зеленые на желтом фоне, узор будто выжжен у нее на сетчатке. В этой комнате они всегда говорят шепотом, непонятно зачем. Нат в нескольких милях от них и к тому же знает, где она, – она всегда оставляет номер телефона, вдруг что случится. Их шепот, горячие плоскости его глаз, они сверкают, как шляпки гвоздей. Змеи медянки. Медяки на глазах. Он вцепляется в ее руку через стол, как будто, если отпустит, она соскользнет с края стола, с края какого-то утеса, погрузится в зыбучие пески и исчезнет навеки. Или он исчезнет.
Она слушает, не сводя глаз с корявой столешницы, с приземистой свечи, которую он купил у уличного торговца, с нарочито безвкусных пластиковых цветов, с чучела совы, украденного им на работе; сова еще без подставки и без глаз, образчик его черного юмора. Венки медленно крутятся поверх стола, как в густом море, и уплывают прочь; где-то был такой обряд, он приносил удачу. Волна взлетает, сдержанная ярость в его руках, приостанавливается, падает, его соленое тело вытягивается вдоль ее тела, плотное, как земля, на этой самой кровати, где она никогда не останется на ночь, где простыни всегда чуть влажны и пахнут дымом, держишься до того момента, когда уже ничего не удержать. Она никогда не видела этой комнаты при дневном свете. Она не желает представлять себе, как эта комната выглядит теперь. Голый матрас. Должно быть, кто-то пришел, убрал все с пола.
Она открывает глаза. Надо сосредоточиться на чем-нибудь простом и ясном. На буфете стоят три чаши, розовато-сиреневые, фарфоровые. Работы Кайо, один из лучших мастеров. У нее хороший вкус, она уже неоднократно в этом убеждалась. Буфет сосновый, она купила его, когда сосна еще не вошла в моду, по ее заказу с буфета содрали краску, это было еще до того, как вошла в моду некрашеная мебель. Сейчас этот буфет был бы ей уже не по карману. Это ценная вещь, и чаши ценные. Она не потерпела бы в этой комнате ничего дешевого и безвкусного. Она скользит взглядом по вазам, восхищаясь нежной расцветкой, слегка асимметричными изгибами: так точно чувствовать, где можно отклониться от равновесия. Чаши пусты. Что можно было бы в них положить? Уж конечно, не цветы и не письма. Эти чаши предназначались для другого, для жертвоприношений. Сейчас они держат в себе свое собственное пространство, свою собственную, дивной формы, пустоту.
У тебя была твоя комната и было все, что снаружи, а между тем и этим – непроходимый барьер. Ты носил свою комнату с собой, как запах, похожий на формальдегид или на запах в старом шкафу, мышиный, тайный, мускусный, сумрачный и насыщенный. С тобой я все время была в этой комнате, даже когда мы были где-то снаружи, даже когда мы были здесь. Я и сейчас в ней, только ты запер дверь, коричневую дверь с облупившейся краской, с медного цвета замком и с цепочкой, в дереве две дыры от пуль – ты сказал мне, что неделю назад кто-то устроил перестрелку в коридоре. Ты жил в плохом районе. Я всегда ездила туда на такси и просила водителя подождать, пока не нажму кнопку звонка и не окажусь в безопасности в вестибюле, на щербатом мозаичном полу. В безопасности, что за нелепая шутка. Дверь заперта, и это не в первый раз – ты не хотел, чтобы я когда-нибудь вышла на свободу. Ты всегда знал, что я хотела выйти на свободу. Но в то же время мы были в заговоре, мы знали друг о друге такое, чего никто другой не знал. В каком-то смысле я доверяла тебе как никому другому за всю свою жизнь.
Мне надо идти, говорит она. Он накручивает прядь ее волос на палец, наматывает и разматывает обратно. Он проводит указательным пальцем меж ее губ, по зубам, левой рукой; она чувствует вкус вина и собственного пота, ее собственный вкус, кровь из прокушенной губы, она уже не знает – чья.
Зачем? – спрашивает он.
Нужно, отвечает она. Она не хочет говорить дети, потому что он рассердится. Но и не хочет, чтобы они проснулись без нее и не знали, где она.
Он не отвечает; продолжает наматывать и разматывать прядь ее волос, его волосы, будто перья, щекочут ей шею, теперь он скользит пальцами по ее подбородку и горлу, будто он глухой, будто он ее больше не слышит.
Суббота, 30 октября 1976 года
Леся
Леся идет рядом с Уильямом, ее рука в его прохладной руке. Здесь нет динозавров, только такие же гуляющие прочесывают территорию, без видимой цели патрулируют освещенную сетку центра города. На ходу Леся заглядывает в витрины магазинов одежды, универмагов, рассматривает манекены, похожие на мертвецов, что стоят, выпятив таз, уперев руки в бедра, расставив ноги, согнув одно колено. Если бы эти тела двигались, они бы крутили бедрами, дергались, как стриптизерки в оргазмическом финале. Но поскольку они из железной арматуры и застывшего гипса, они не нарушают пристойности.
Леся в последнее время часами блуждает в этих самых магазинах по дороге с работы. Она перебирает вещи на вешалках, ищет, что могло бы ей пойти; на что могла бы пойти она. Она почти никогда ничего не покупает. Она примеряет платья, длинные, летящие, вышитые, совершенно непохожие на вещи в сдержанном классическом стиле и джинсы, которые обычно носит. У некоторых платьев пышные юбки почти до полу. Стиль кантри. Ее бабушка очень смеялась бы. Тихим смехом, будто дверь скрипит, из-под маленьких ладоней цвета грецкого ореха.
Она думает: не проколоть ли уши? Иногда, порывшись в платьях, идет в отдел парфюмерии и пробует духи у себя на запястьях. Уильям говорит, что одежда его не интересует. Его единственное требование – чтобы Леся не стриглась. Но это ничего, она и не собирается стричься. Так что она не идет на компромиссы.
Уильям спрашивает, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Она говорит, что не отказалась бы от кофе. Они вышли из дому не для того, чтобы пить, а для того, чтобы пойти в кино. Но они слишком долго тянули время над выпуском «Стар» с кинопрограммой, пытаясь что-то решить. Каждый ждал, чтобы другой взял ответственность на себя. Леся хотела посмотреть повтор «Кинг-Конга» в университетском кинолектории. Уильям наконец сознался, что всегда хотел увидеть «Челюсти». Леся не возражала, ей было любопытно, как сняли акулу, ведь акулы – один из самых примитивных нынешних видов. Она спросила Уильяма, знает ли он, что желудок акулы плавает, а если подвесить акулу за хвост, ее парализует. Уильям не знал. К тому времени, как они добрались до «Челюстей», все билеты оказались проданы, а «Кинг-Конг» начался полчаса назад. Так что они отправились гулять.
Сейчас они сидят за белым столиком на втором этаже Колоннады. Уильям пьет гальяно, а Леся – кофе по-венски. Она с серьезным видом слизывает взбитые сливки с ложечки, а Уильям, уже простив ее за то, что из-за нее пропустил «Челюсти», рассказывает о своей последней проблеме: когда в конечном итоге теряется больше энергии – если использовать тепло от сжигаемого мусора для работы паровых турбин или если жечь мусор просто так? Уильям – инженер, специалист по охране окружающей среды, хотя иногда Леся, старательно изображая благодарную аудиторию, слышит тихий вредный голосок, который называет его ассенизатором. Однако Леся восхищается работой Уильяма и согласна, что для выживания человечества его работа гораздо важнее, чем ее. И это правда, им всем грозит утонуть в собственном дерьме. Уильям их спасет. Чтобы это понять, достаточно поглядеть на него, на его уверенность, на его энтузиазм. Уильям заказывает себе еще рюмку ликера и начинает распространяться о своем проекте выработки газа метана из разлагающихся человеческих экскрементов. Леся бормочет что-то одобрительное. Это еще и решение топливного кризиса.
(Главный вопрос тут: хочет ли Леся, чтобы человечество выжило, или ей все равно? Ответа она сама не знает. Динозавры вымерли, но это был не конец света. В моменты уныния – как сейчас, например, – она чувствует, что и людям недолго осталось. Природа что-нибудь придумает на замену. Или нет. Как получится.)
Уильям говорит про навозных жуков. Он хороший человек; почему же она его не ценит? Когда-то навозные жуки ее интересовали. Австралия решила свои проблемы с пастбищами – пастбища в Австралии скрывались под толстым слоем сухих коровьих лепешек и овечьих катышков, и трава переставала расти – массовым завозом гигантских африканских навозных жуков, и эта история когда-то вдохновляла Лесю. Леся, как и Уильям, восхищалась таким элегантным решением экологической проблемы. Но она уже не первый раз все это слышит. В конце концов ее начинает доставать оптимизм Уильяма, его уверенность, что всякая экологическая катастрофа – всего лишь задача, на которую обязательно найдется блистательное решение. Мозги Уильяма представляются Лесе в виде чего-то розовощекого и безволосого. Раньше она ласкательно звала его Уильям Англосакс, но потом оказалось, что он воспринимает это как враждебный намек на его национальность.
– Я ведь не зову тебя Леся-латышка, – обиделся он.
– Литовка, – поправила она. (У Уильяма проблемы с названиями прибалтийских республик.) – Литвак. Можешь звать, пожалуйста, я не возражаю, – неискренне добавила она. – А можно я буду тебя звать Уильям Канадец?
Мальчик Билли, милый Билли. Где ты был целый день[1]1
Английская народная песня. – Здесь и далее прим. переводчика. Переводчик благодарит Элизабет Хаммел за ценные консультации.
[Закрыть]. Вскоре после этого у них вышел спор о Второй мировой войне. Отец Уильяма в войну служил капитаном в военно-морском флоте, так что Уильям, конечно, крупнейший специалист по этой теме. Уильям считает, что британская армия (и, естественно, канадская тоже) вступила в войну по соображениям высшей морали – чтобы спасти евреев, не дать превратить их в облачко газа и горсть жилетных пуговиц. Леся не согласилась. Она заявила, что евреев спасали лишь постольку-поскольку. На самом деле спор шел о том, кто быстрее захапает территорию. Гитлер мог бы поджаривать евреев сколько душе угодно, если бы не захватил Польшу и не вторгся в Голландию. Уильям сказал, что Леся неблагодарная, раз так думает. Леся в ответ предъявила свою покойную тетю Рахиль, которую никто не спас, и ее золотые зубы безымянными осели на чей-то счет в швейцарском банке. Как ответить этой неотмщенной тени? Уильям, которому нечем было крыть, отступил в ванную – бриться. Леся почувствовала, что выиграла нечестно.
(А вот другая ее бабка, по матери, рассказывала ей: сначала мы были рады Гитлеру. Мы думали, он лучше, чем русские. А вот видишь, как вышло. В этом была некая ирония, потому что ее муж там, на Украине, был почти коммунистом. Поэтому им пришлось уехать: из-за политики. Он и в церковь не ходил, сказал, что ноги его там не будет. Плевал я на церковь, говорил он. Он уже давно умер, но Лесина бабушка все об этом страдала.)
Недавно Леся поняла, что больше не ждет, когда же он сделает ей предложение. Раньше она думала, что это само собой разумеется. Сначала люди живут вместе, для пробы. Потом женятся. Так поступали ее университетские друзья. Но теперь она понимает, что Уильям считает ее слишком экзотичной. Конечно, он ее любит – по-своему. Он кусает ее в шею, когда они занимаются любовью. Леся думает, что с женщиной своей породы – однажды она поймала его на такой формулировке – он ничего такого себе не позволил бы. Они бы занимались любовью, как два лосося, удаленно, Уильям оплодотворил бы прохладные серебристые икринки с безопасного расстояния. Он называл бы своих детей «отпрыски». Его отпрыски, ничем не оскверненные.
Вот в этом и загвоздка: Уильям не хочет ребенка от нее. С ней. Хотя она уже намекала ему; да она могла бы и залететь без спросу. Дорогой, знаешь что. Я в положении. От тебя. Ну что ж, скажет он, выйди из этого положения.
Ох, это клевета на бедного Уильяма. Он восхищается ее умом. Он любит, чтобы она пользовалась научным жаргоном при его друзьях. Когда она произносит «плейстоцен», у него встает. Он говорит ей, что у нее красивые волосы. Он тонет в ее смородиновых глазах. Он гордится ею как трофеем и как свидетельством своей непредвзятости. Но что скажет его семья, проживающая в городе Лондоне, провинция Онтарио?
Леся представляет себе его семейство многочисленным, розовым и блондинистым. Члены этой семьи по большей части проводят время за игрой в гольф, с перерывом на пару раундов тенниса с полной выкладкой. Когда они не играют в гольф и теннис, они толпятся на террасах – Леся представляет себе, что они это делают даже зимой, – и пьют коктейли. Они вежливы с чужими, но за глаза могут сказать, например: «Этот парень не знает даже, кто его дед». Леся отлично знает, кто были оба ее деда. Вот с прадедами будут проблемы.
Она знает, что на самом деле семья Уильяма совсем не такая. Но Леся, как и ее родители, считает, что любой человек с британской фамилией уже на пару ступенек выше по социальной лестнице, если только живет не под мостом. Она знает, что не надо так думать. Вряд ли родители Уильяма намного богаче ее собственных. Вот только замашки у них аристократические.
Когда-то она боялась встречи с ними, думала, что они ее не одобрят. Теперь ей даже хочется их увидеть. Она выкрасит зубы золотом, намотает на голову бахромчатые шали и явится, бренча тамбурином и топоча. Чтобы оправдать их жуткие предчувствия. Бабушка будет подбадривать ее, хлопая крохотными, как лапки крота, ладошками, скрипуче смеясь. Голос крови. «Мы беседовали с Богом, когда они балакали со свиньями». Будто народ, как сыр, с годами становится лучше.
– В неодевонском периоде не было навозных жуков, – говорит Леся.
Уильям осекается.
– Я не понял, о чем ты, – говорит он.
– Я просто подумала о параллельной эволюции: навозные жуки и навоз, – говорит она. – Например, что появилось раньше – человек или венерические болезни? Я предполагаю, что носители должны были возникнуть раньше паразитов, но так ли это на самом деле? Может быть, человека изобрели вирусы, чтобы им было где жить.
Уильям решает, что она шутит. Он ухмыляется.
– Ты смеешься надо мной, – говорит он. Он считает, что у нее очень своеобразное чувство юмора.
Альбертозавр, или, как предпочитает называть его Леся, горгозавр проламывает северную стену Колоннады и стоит в растерянности, обоняя незнакомый запах человеческой плоти, балансируя на мощных задних ногах, прижав к груди крохотные передние лапки с острыми, как бритвы, когтями. Через минуту Уильям Англосакс и Леся Литвак превратятся в два комка жеваных жил. Горгозавр алчет, алчет. Ходячий желудок, он проглотил бы весь мир, если б мог. Леся, которая привела его сюда, смотрит на него с дружелюбной объективностью.
Вот тебе задачка, Уильям, думает она. Реши-ка ее.
Суббота, 30 октября 1976 года
Нат
Он не надел плаща. Водяная пыль оседает на грубошерстном свитере, на бороде, собирается на лбу, сбегает струйками вниз. Разве можно не пустить его в дом – мокрого, дрожащего и без плаща?
Он оставил велосипед на дорожке к дому – приковал цепью к кусту сирени и щелкнул замком. Как обычно; но сегодня – не как обычно. Они не виделись месяц. Четыре недели. Она плакала, он беспомощно пожимал плечами, и вообще все было как в дешевом телесериале, вплоть до фразы «Так будет лучше». Она за это время звонила ему пару раз, хотела, чтобы он пришел, но он уклонялся. Он не любит повторений, не любит предсказуемости. На этот раз, однако, он ей позвонил.
У нее квартира «А», 32А, в большом старом доме к востоку от улицы Шербурн. Главная квартира – с фасада, а в квартиру «А» входят через боковую дверь. Когда он позвонил, она открыла сразу же. Ждала его. Хотя не помыла голову к его приходу и не надела бархатный халат; она в брюках и грязноватом светло-зеленом свитере. В руке – полупустой стакан. В нем плавает лимонная корка и кубик льда. Укрепление.
– Ну что ж, – говорит она, – с годовщиной тебя.
– С какой? – спрашивает он.
– Суббота всегда была наш день. – Она почти пьяна, она зла. Трудно ее винить. Нат вообще не умеет никого ни в чем винить. По большей части он понимает, почему она сердится. Просто он ничего не может поделать.
– Не то чтобы она это особо соблюдала, – продолжает Марта. – То одно, то другое. Прошу прощения, что помешала вам, но у одной из девочек только что отвалилась голова. – Марта смеется.
Нату хочется схватить ее за плечи, хорошенько встряхнуть, шмякнуть об стену. Конечно, нельзя. Он стоит, капая на пол прихожей, и тупо смотрит на Марту. Его тело будто обвисает на позвоночнике, плоть обмякает, как свежая тянучка на палочке. Густая карамель. Он всегда предостерегает дочерей: «Не бегайте с палочками во рту», уже видя, как они падают, как палочка протыкает нёбо. Бежит, опускается на колени, берет на руки, крик, его собственный голос. Господи боже.
– Может, не будем впутывать сюда детей? – говорит он.
– А что такое? – говорит Марта. – Они и так уже впутаны, разве нет?
Она поворачивается и идет вон из прихожей, в гостиную.
Мне лучше уйти, думает Нат. Но идет за ней, сперва сбросив мокрые ботинки, беззвучно ступая по старому ковру. По старой колее.
Горит только одна лампа. Марта продумала освещение. Она сидит поодаль от лампы, в тени, на диване. Обитый плюшем диван, где Нат впервые поцеловал ее, распустил и гладил ее волосы, струившиеся по широким плечам. Большие, ловкие ладони. Он думал, что будет в безопасности в этих руках, меж этих коленей.
– Она вечно прикрывалась детьми, – говорит Марта. На ней вязанные крючком шерстяные тапочки. Элизабет никогда бы не надела вязанные крючком шерстяные тапочки.
– Нельзя сказать, что она тебя не любит, – говорит Нат. Они уже не первый раз это обсуждают.
– Конечно, – говорит Марта. – Какой смысл не любить горничную? Я делала за нее грязную работу. По совести, она бы должна была мне платить.
Нат уже не впервые понимает, что слишком многое рассказывал этой женщине. Она передергивает, использует его откровения против него.
– Это несправедливо, – говорит он. – Она тебя уважает. Она никогда не вмешивалась. Зачем бы ей?
Он пропустил мимо ушей язвительные слова насчет грязной работы. Ему хочется спросить: «Так вот, значит, как ты на это смотрела?», но он боится прямого ответа. А ну, вали отсюда. Похабные разговоры в школьной раздевалке. Он чувствует собственный запах, мокрые носки, скипидар на штанах. Марта, бывало, дразнила его, когда они вдвоем сидели в ее ванне на львиных лапах и Марта намыливала ему спину. Твоя жена не заботится о тебе как следует. Во многих смыслах.
– Да, – говорит Марта. – Зачем бы ей? Она всегда хотела и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Это ты, Нат. Ты – ее рыбка. Снулая рыба.
Нат вспоминает, что впервые увидел Марту за ее рабочим столом в фирме «Адамс, Прюитт и Штейн» – она украдкой жевала резинку. Позже она бросила жевать, когда он намекнул, что ему эта привычка не нравится.
– Я понимаю, почему ты сердишься, – говорит он. Эту тактику – понимание – он позаимствовал у Элизабет и потому чувствует себя подлецом. На самом деле он не понимает. Когда Элизабет ему так говорит, она тоже на самом деле не понимает. Но его этот ход всегда обезоруживает.
– Мне насрать, что ты там понимаешь, – воинственно говорит Марта. Ее не умаслишь пониманием. Она смотрит в упор, хотя ее глаза в тени.
– Я не для того пришел, чтобы говорить об этом, – говорит Нат, хотя ему вообще не ясно, о чем они говорят. В таких разговорах он обычно не понимает, о чем речь. Ему ясно, что она считает его неправым. Он поступил с ней неправильно. Неправедно. Но он старался быть с ней откровенным с самого начала, не лгал. Хоть кто-то должен оценить его благородство?
– Ну ладно, тогда зачем ты пришел? – спрашивает Марта. – Убежал от мамочки? Ищешь другую добрую тетю, которая даст тебе конфетку и уложит в постельку?
Нату ее слова кажутся вульгарными. Он не отвечает. Он понимает, что именно этого и хотел, – правда, сейчас не хочет.
Марта вытирает рот и нос тыльной стороной ладони. Нат понимает: она приглушила свет не для романтического эффекта, а просто знала, что будет плакать, и не хотела, чтобы он это разглядел.
– По-твоему, это так просто: включил-выключил, – говорит она.
– Я думал, мы сможем поговорить, – говорит Нат.
– Я слушаю, – говорит Марта. – Я просто замечательно умею слушать.
Нат решает, что это не совсем верно. Она умеет слушать, когда он говорит о ней, это правда. Вся обращается в слух. У тебя прекраснейшие в мире бедра. У нее неплохие бедра, да, но с какой стати лучшие в мире? Ему-то откуда знать?
– Ты, наверное, слыхала, что случилось, – наконец произносит он. Не зная, почему его надо утешать, если Крис умер. По логике вещей, Нат должен быть вне себя от счастья – он больше не рогоносец, пятно на его чести смыто кровью.
– Ты про Элизабет, – уточняет Марта. – В этом городе все всегда знают всё обо всех. И уж конечно, куча народу приперлась мне об этом рассказать. Со смаком. Упомянут тебя и смотрят, что я сделаю. Вас обоих упоминают. Любовник Элизабет разнес себе голову. Некоторые из них говорят «хахаль Элизабет». И что? Что мне отвечать? Не повезло? Так ей и надо? Она его достала наконец? Что?
Нат никогда не видел ее в такой злобе, даже когда они жестоко ссорились. Больше всего ему нравилась в ней расплывчатость, нечеткость, отсутствие острых граней, какое-то облачное мерцание. А теперь ее как будто сбросили на тротуар с высоты, и она так и заледенела – одни раскоряченные углы да осколки.
– Она с ним не виделась какое-то время, – говорит он, наконец встав на сторону Элизабет – Марта неизменно его к этому вынуждает. – Он хотел, чтобы она оставила детей. А она не могла.
– Ну конечно, – говорит Марта. Она смотрит в пустой стакан, роняет его на ковер меж колен. – Разве супермамочка может бросить своих деточек. – Тут Марта плачет, уже не пытаясь прикрыть лицо. – Переезжай ко мне, – говорит она. – Давай жить вместе. Пусть у нас будет шанс.
Может, у нас уже был шанс, думает Нат. Был, а теперь нет. Он начинает подвигаться вперед, выбираясь из кресла. Еще минута – и она бросится на него, оплетая шею руками, точно водорослями, прижимаясь мокрым лицом к его груди, тазом – к его паху, а он будет стоять, не в силах двинуться.
– Ты подумай, каково мне, – говорит она. – Будто у тебя роман с кухаркой, и ты к ней бегаешь по черной лестнице, только об этом все знают, а на ночь ты возвращаешься к своей чертовой жене и чертовым детям, а я читаю детективы до четырех утра, чтобы не сойти с ума.
Нат размышляет над образом кухарки. Метафора ставит его в тупик. Ну у кого в наше время есть черная лестница? Он вспоминает тот вечер, когда они, завернувшись вдвоем в одну простыню, смотрели по телевизору «Вверх и вниз по лестнице»[2]2
«Вверх по лестнице, вниз по лестнице» (1971–1975) – британский телевизионный сериал.
[Закрыть] и смеялись. Сын и наследник обрюхатил горничную, и мать семейства с каменным лицом ее отчитывает. Давным-давно, когда им еще было хорошо вместе. Не в субботу; еще до того, как Элизабет сказала: «Давай договоримся как разумные люди. Мы ведь должны знать, что можем в трудную минуту положиться друг на друга». Она взяла себе четверги, а он – субботы, потому что это выходной, и Марте не надо было на следующий день рано вставать. Потом он вспоминает другой вечер, когда Марта сказала: «Кажется, я беременна». И его первая мысль: «Элизабет этого не потерпит».
Если я стану ее утешать, она скажет, что я лицемер, думает он. А если не стану, скажет, что я козел. Прочь, пока не поздно. Это была большая ошибка. Забрать ботинки в прихожей. Зря я запер велосипед.
– Может, как-нибудь пообедаем вместе, – говорит он у двери гостиной.
– Пообедаем? – Ее голос наполняет прихожую. – Пообедаем? – Удаляющийся вопль.
Он крутит педали, пробиваясь сквозь дождь, нарочно въезжая в лужи, промачивая ноги. Кретин. Чего-то ему не хватает, такого, что есть у других. Не может предвидеть события даже на шаг вперед, вот что, даже когда все ясно как день. Это такое же уродство, как высокий рост. Другие люди проходят в двери, а он ударяется головой. Даже крыса после пары ударов научилась бы пригибаться. А ему сколько нужно уроков, сколько времени?
Через полчаса он останавливается на углу Дьюпонта и Спадайны – он знает, что там есть телефонная будка. Он прислоняет велосипед к будке и заходит внутрь. Стеклянный кубик, освещенный изнутри, весь на виду. Псих-недоумок входит в будку, раздевается, стоит и ждет, что прилетит Супермен и вселится в его тело, а люди пялятся на него из проезжающих машин, и какая-то старая дама звонит в полицию.
Он вытаскивает десятицентовик из кармана и держит в руке. Это его пропуск, его талисман, его единственная надежда на спасение. На другом конце линии ждет худая женщина, бледное лицо обрамлено темными волосами, рука воздета, пальцы сложены в благословении.
Никто не берет трубку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































