Текст книги "Мужчина и женщина в эпоху динозавров"
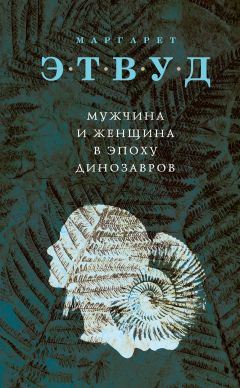
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Суббота, 20 ноября 1976 года
Нат
Трое маячат впереди, едва различимые во тьме пещеры. Над ними нависают чудовища, рептильные скелеты, сшитые в угрожающих позах, точно в каком-нибудь великанском аттракционе ужасов. Нат чувствует, как его кости распадаются и камень заполняет пустоты. Ловушка. Беги, Нэнси, беги, Дженет, иначе время настигнет вас, поймает, и вы застынете навеки. Но Нэнси, в твердой уверенности, что он ее не видит, спокойно ковыряет в носу.
Лесин силуэт склоняется к детям. Продолговатый: Богоматерь На Костях. «Вымерли – это значит, что их больше нет», – говорит она. Нат надеется, что его дети не покажутся ей невежественными или глупыми. Он точно помнит, что несколько раз объяснял им значение слова «вымерший». И они уже много раз были в этой галерее, хотя Нэнси предпочитает египетские мумии, а Дженет любит рыцарский зал, где доспехи, лорды и леди. Неужели они разыгрывают перед Лесей спектакль, чтобы помочь ему, задают вопросы, симулируя интерес, неужели они так проницательны, так хитры? Неужели его намерения так очевидны?
– Почему нет? – спрашивает Дженет. – Почему они все вымерли?
– На самом деле этого никто не знает, – говорит Леся. – Мир переменился, и новые условия им не подошли. – Пауза. – Мы нашли много яиц с маленькими динозаврами внутри. Ближе к концу они уже не проклевывались.
– Слишком холодно стало, дурочка, – говорит Нэнси, обращаясь к Дженет. – Это же был ледниковый период.
– Ну не совсем, – начинает Леся, но передумывает. Она оборачивается к Нату, колеблется, чего-то ждет.
Нэнси бежит и тянет Ната за рукав, чтобы он нагнулся. Она шепчет ему на ухо, что теперь хочет пойти к мумиям. Дженет, капризуля, будет протестовать, потом они как-нибудь договорятся, а время течет, и скоро все они станут на день старше.
Как он может их бросить? Как он сможет выносить эти заранее обговоренные субботние встречи? Видеть их лишь раз в неделю, вот чем придется заплатить, фунтом своего мяса. Как дела, девочки. Хорошо, папа. Фальшь. Ни сказок на ночь, ни внезапных погонь друг за другом по коридорам, ни голосов у входа в подвал. Нечестно. Но либо в этом поступить нечестно, либо в другом, и Леся, еще нетронутая, непорочная, будет рыдать в дверном проеме спальни, где-то в будущем. Поблекнет, станет ронять яркие чешуйки краски, тонкие осколки изогнутого стекла, разбитые украшения. А он, убийца, будет сидеть в баре «Селби», все руки в занозах, и думать о том, как жить по совести. Станет ли ему тогда лучше? Он будет смотреть хоккей с другими посетителями бара, присоединяясь к воплям болельщиков. Жить по совести. Его учили, что это единственная желанная цель. Теперь, когда он больше не верит, что это возможно, почему же он все равно старается?
Вот он хромает домой из школы, весь в синяках и ссадинах, потому что мать запретила ему драться. Даже когда он меня первый ударил? Особенно когда он первый ударил. Но он придумал способ ее обойти. Они били маленького мальчика. Нет, этого недостаточно. Трое на одного. Все равно недостаточно. Они обзывали его жиденком. Ага, вот оно. Ее глаза уже сверкают огнем. Смерть ненавистникам. О светозарный мальчик мой[17]17
Цитата из стихотворения «Бармаглот» из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Пер. Д.Г. Орловской.
[Закрыть]. Нат, который в шесть лет уже научился лицемерить, который был на добрых пять сантиметров выше любого из своих обидчиков, сражался с яростным упоением, изобретая все новые несправедливости для оправдания своих победоносных фонарей. Делами, а не верой, как говорят унитарианцы.
Он может подробно перечислить причины для бездействия, в этой или любой иной ситуации; однако по опыту собственного прошлого он боится, что все равно безрассудно ринется вперед. Вопреки своим сомнениям, и даже еще отчаяннее, безумнее из-за этих сомнений. Из-за своего эгоизма, как непременно скажет кое-кто. Только не Элизабет. Она говорит, ей все равно, чем он занимается и кто его подружки (по ее выражению), пока от этого не страдают дети. Это тоже ее выражение. Она подразумевает «мои дети». Нат уверен, она подсознательно считает, что дети родились от непорочного зачатия, она благополучно забыла ту ночь с банным полотенцем, и другую ночь, много других ночей. Лень и привычка. Что до него самого, ему хотелось бы думать, что дети уже готовыми выпрыгнули из его головы. Тогда они безраздельно принадлежали бы ему.
Но, по правде сказать, Нат знает, с кем останутся дети. Хотя они с Элизабет еще никогда не обсуждали развод. Даже в худшие времена она никогда не пыталась его выставить, и он никогда не угрожал уходом. Но развод незримо присутствует в каждом их разговоре: тайное оружие, окончательное решение, непроизносимое слово. Он подозревает, что они оба думают об этом почти все время: размышляют, отвергают.
Лучше остановиться прямо сейчас. Вместо того чтобы подхватить Лесю с ковролинового пола Галереи эволюции позвоночных, взбежать с ней по ступеням в безлюдный отдел млекопитающих и насекомых, он поблагодарит ее, пожмет ей руку, хоть раз коснется ее, подержит в ладони прохладные тонкие пальцы. Потом они пойдут к мумиям, потом – к рыцарским латам, и он постарается не видеть в этих предметах собственное подобие. На улице он утешится попкорном и сигаретой вместо двойного виски, которое ему на самом деле к тому времени понадобится. Они будут ждать на каменных ступенях Музея, семейство, прислонившись к табличке справа от двери «Искусство человека сквозь века», пока Элизабет не появится из неизвестного чистилища, куда она забрела, плотная фигура в черном пальто, идущая ровным шагом вверх по ступеням, чтобы забрать их в назначенное время.
Понедельник, 29 ноября 1976 года
Элизабет
Элизабет полулежит в ванне. Когда-то она принимала ванны удовольствия ради; теперь она это делает, как и ест, по необходимости. Она заботится о своем теле, как заботятся о машине, держит его в чистоте, движущиеся части – в порядке, до поры, когда она сможет вновь пользоваться своим телом, вселиться в него. Ради удовольствия. Она ест слишком много и сама это знает, но лучше много, чем мало. Мало есть – опасно. Она потеряла способность судить, потому что теперь ей никогда по-настоящему не хочется есть. Без сомнения, ванны она тоже принимает слишком часто.
Она всегда заботится о том, чтобы температура воды была ниже температуры тела, потому что боится заснуть в ванне. Можно утонуть и в пяти сантиметрах воды. Говорят, если вода такой же температуры, как кровь, сердце может остановиться, но только если оно и так больное. Насколько ей известно, у нее с сердцем все в порядке.
Она взяла работу домой. Она часто приносит работу домой, потому что на службе ей трудно сосредоточиться. Дома она тоже не может сосредоточиться, но по крайней мере здесь некому войти и застать ее за разглядыванием стенки. Она всегда печатает бо́льшую часть своих бумаг сама; она хорошо печатает, почему бы и нет, она много лет только этим и занималась, и к тому же она не любит передоверять свою работу другим. Она продвинулась по службе только потому, что любезно разговаривала по телефону, и еще потому, что всегда знала работу своих начальников чуточку лучше, чем они сами, поэтому совершенно естественно, что она не доверяет секретаршам. Однако гора бумаг у нее на столе растет. Пора ей браться за ум.
Она хмурится, пытаясь сосредоточиться на книге, которую держит перед глазами одной сухой рукой.
Но нам очень тяжело понять суть этих перемен. Нам трудно поставить себя на место людей, живущих в Древнем Китае (как миллионы людей до сих пор живут в странах третьего мира), тяжело работающих на своих клочках земли, отдающих почти весь урожай феодалам, вечно под угрозой наводнения и голода, – которые после долгой борьбы изгоняют землевладельца.
Элизабет закрывает глаза. Это каталог передвижной выставки. Крестьянская живопись. Сейчас выставка в Англии, а через пару лет может приехать к ним, если они захотят. Она должна просмотреть каталог и дать заключение. Она должна написать отчет, в котором будет сказано, стоит ли устраивать эту выставку и будет ли она интересна канадской публике.
Но Элизабет это не волнует, не может волновать. Ей неинтересны ни канадская публика, ни тем более этот каталог, написанный в Англии каким-то кабинетным марксистом. С его точки зрения, она тоже землевладелец. Она задумывается о своих жильцах, с их желтушными лицами, с их ненормально тихим ребенком, одетым всегда чуточку слишком опрятно, чуточку слишком хорошо. Они какие-то иностранцы, но Элизабет не знает, откуда они, а спрашивать невежливо. Откуда-то из Восточной Европы, кажется, беженцы. Тихие люди, платят за квартиру всегда на день раньше, словно боятся чего-то. Собираются ли они организовывать долгую борьбу, чтобы ее изгнать? Пока не похоже. Эти картины настолько чужды Элизабет, будто они с луны упали.
Она пропускает вступление и обращается к картинам. Новая деревня, новый дух. Наступление продолжается. Мы перестроили свиноферму. Это откровенная пропаганда, а картины просто безобразны. Яркие примитивные цвета, четко обрисованные улыбающиеся фигуры – похоже на картинки из воскресной школы, которые она так ненавидела в детстве. Иисус любит меня. Она никогда, ни секунды этому не верила. Иисус – это Бог, а Бог любил тетушку Мюриэл; тетушка Мюриэл неколебимо верила в это. Насколько понимала Элизабет, Бог никак не мог любить ее и тетушку Мюриэл одновременно.
До того как тетушка Мюриэл взяла их к себе, они никогда не ходили в церковь. Тетушке Мюриэл следовало бы это знать. Элизабет получила первый приз за то, что выучила наизусть стихи из Писания. Кэролайн, наоборот, устроила балаган. Пасха; на них были новые синие шляпы на резинке, тянущей Элизабет под подбородком, и такого же цвета пальтишки. Одно – десятого размера, другое – седьмого, но одинаковые; тетушка Мюриэл любила одевать их как близнецов. Кафедра была завалена нарциссами, но священник говорил не о Воскресении. Он больше любил тему Страшного Суда. И солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток[18]18
Откровение Св. Иоанна Богослова, 6:12–14.
[Закрыть].
Элизабет складывала и расправляла картинку с Христом, выходящим из дыры в скале, от лица его исходило сияние, и две женщины в синем стояли перед ним на коленях. Она отогнула его голову назад, потом потянула за край листа, и голова выскочила, как чертик из табакерки. В церкви пахло духами, слишком крепко пахло, от сидящей рядом бежевой прямой тетушки Мюриэл исходили волны талька. Элизабет захотелось снять пальто. Смотрите, смотрите, сказала Кэролайн, вставая. Она показывала на витраж, центральный, где Христос в пурпурной одежде стучал в дверь. Она скрючилась, затем попыталась перелезть через спинку передней скамьи и сбила с миссис Саймон норковую шляпку. Элизабет сидела смирно, а тетушка Мюриэл потянулась за Кэролайн и схватила ее сзади за пальто. Священник нахмурился с кафедры, задрапированной бордовым, а Кэролайн закричала. Тетушка Мюриэл схватила ее за руку, но Кэролайн вырвалась и побежала по проходу. Уже тогда надо было понять. Что-то не так. Кэролайн потом говорила, что это бордовое падало на нее, но тетушка Мюриэл рассказала всем, что у Кэролайн просто заболел живот. Она возбудима, говорили все; это часто бывает с маленькими девочками. Не надо было водить ее на торжественную службу.
Тетушка Мюриэл решила, что во всем виноват священник, и организовала движение за то, чтобы его убрали. Неужели они должны такое слушать? Можно подумать, что он баптист. Много лет спустя этот священник попал в газеты, потому что изгонял бесов из девочки, у которой оказалась опухоль мозга, и она потом все равно умерла. Вот видишь? – сказала тогда тетушка Мюриэл. Я же говорила, что он абсолютный псих.
Что же до Кэролайн, то, когда семь лет спустя ее крик принял окончательную форму и стало совершенно, непоправимо ясно, что она тогда пыталась сказать, это был иной случай: Божья кара. Или слабоволие, в зависимости от того, в каком настроении была сегодня тетушка Мюриэл.
В больнице и позже, в приюте для душевнобольных, Кэролайн не разговаривала и даже не двигалась. Она не ела сама, и ей подвязывали подгузники, как младенцу. Она лежала на боку, прижав колени к груди, закрыв глаза, сжав кулаки. Элизабет сидела рядом, вдыхая нездоровый запах недвижной плоти. Черт бы тебя побрал, Кэролайн, шептала она. Я знаю, что ты здесь.
Через три года, когда Кэролайн было почти семнадцать, она лежала в ванне, и санитара куда-то позвали. По неотложной надобности. Таких пациентов, как Кэролайн, не полагалось оставлять одних в ванне; это запрещалось правилами. Такие пациенты вообще не должны были принимать ванну, но кто-то решил, что это поможет ей расслабиться, распрямиться; так они говорили на суде. Но случилось то, что случилось, и Кэролайн соскользнула в воду. Она утонула, не сделав ни малейшего движения, не повернув головы, хотя это могло бы спасти ей жизнь.
Иногда Элизабет задумывается, не сделала ли Кэролайн это нарочно – может быть, все это время ее сознание, запечатанное в теле, ждало удобного случая. Она не может понять, почему. Правда, порой она не может понять, почему сама до сих пор этого не сделала. В такие моменты Кэролайн кажется ясной, логичной, чистой; мраморной, по контрасту с ее собственной медленно хлюпающей плотью, хрипами разлагающихся легких, губчатым, многопалым сердцем.
В ванной кто-то поет: не пение – скорее, гул; Элизабет понимает, что уже довольно давно слышит этот звук. Она открывает глаза, чтобы найти источник звука; возможно, трубы, вода поет где-то вдалеке. Обои слишком яркие, с пурпурными вьюнками, и она знает, что должна быть осторожна. Никаких удобных случаев. Те люди, которые в шестидесятые раздирали кошек пополам и прыгали из окон высотных домов, думая, что они птицы, ее не забавляют; она считает их глупцами. Любой, кто слышал эти голоса раньше или видел, на что они способны, знает, что они говорят.
– Заткнитесь, – говорит Элизабет. Даже это признание того, что они существуют, уже достаточно плохо. Лучше сосредоточиться на тексте. Критика Линь Бяо и Конфуция среди остатков военных колесниц древнего рабовладельца, читает она. Колесничих погребали заживо. Она вглядывается в картинку, пытаясь их увидеть, но различает только скелеты лошадей. Негодующие крестьяне шумят вокруг гробниц.
Ее рука держит книгу, тело простирается вдаль по воде, среди белизны фаянса. На краю ванны, далеко, так далеко, что ей никогда туда не дотянуться, лежат игрушки, которые дети по-прежнему запускают в воду, когда купаются, хотя должны бы уже вырасти из этого возраста: оранжевая утка, красно-белый пароход с заводным колесом, синий пингвин. Ее груди, сплющенные силой тяжести, ее живот. Фигура как песочные часы. Как в «Маленькой книжке загадок» у Нэнси:
Два тела имею,
Слитых в одно;
Хоть я и стою,
Но иду все равно.
На следующей странице была загадка про гроб. Не очень-то подходит для детей, сказала она в то Рождество. Нат купил эту книжку в коробочке, в подарочном наборе.
Ее колени возвышаются из голубоватой воды, как горы; вокруг них плавают облака из пены. Пена для ванн «Бодикинс», импортная. Она купила ее для Криса, для них обоих, в приступе сибаритства; в самом начале, она еще не знала, что он не любит, когда она смотрит на его тело, разве что с расстояния в сантиметр. Он не хотел, чтобы она отстранялась и разглядывала его; хотел, чтобы она осязала его, но не видела. Я достану тебя там, где ты живешь, сказал он ей гораздо позже, слишком поздно. Но где она живет?
Песок бежит через ее стеклянное тело, из головы – в ноги. Когда весь песок утечет, она умрет. Погребена заживо. Какой смысл ждать?
Вторник, 7 декабря 1976 года
Леся
Леся пошла обедать с Марианной. Они только что съели по сэндвичу в кафе «Мюррейс» – дешево и рядом, – а теперь идут на улицы Йорквилль и Камберленд поглазеть на витрины. Здесь уже нельзя отовариваться, говорит Марианна, которая для Леси авторитет в этих вопросах, – слишком дорого. Теперь надо все покупать на Куин-стрит-Вест. Но Куин-стрит-Вест слишком далеко.
Марианна обычно обедает с Триш, но Триш сегодня гриппует. Они часто зовут Лесю с собой, но она обычно отказывается. Говорит, что не успевает с работой и перехватит какой-нибудь сэндвич на первом этаже. Конечно, они мало чем могут ее привлечь, разве что сплетнями, которые поставляют за утренним кофе. Марианна открыто заявляет (может, это шутка такая?), что пошла учиться на биолога специально, чтобы познакомиться со студентами-медиками и выйти замуж за врача. Леся не одобряет подобного легкомыслия.
Однако теперь ей нужны именно сплетни. Она жаждет сплетен, она хочет знать все, что Марианна может рассказать об Элизабет и особенно о Нате, муже Элизабет, который не звонил, не писал и не появлялся с того момента, как пожал Лесе руку у таблички «ВЫХОД» в галерее динозавров. Она не то чтобы им интересуется, просто недоумевает. Она хочет знать, часто ли он проделывает такое, совершает такие странные поступки. Однако она не представляет себе, как выспросить об этом у Марианны, не рассказав ей, что случилось, а этого Лесе как раз и не хочется. Хотя почему бы и нет? Ведь ничего не случилось.
Они останавливаются на углу Бэй и Йорквилль поглядеть на пышный синий бархатный костюм, отделанный золотой плетеной тесьмой, с блузкой – сборчатые манжеты и закругленный воротничок.
– Слишком гойский, – говорит Марианна. Это слово у нее обозначает безвкусицу. Несмотря на то что у Марианны синие глаза, светлые волосы и имя будто из старинной баллады, она еврейка; Леся мысленно называет ее чистокровной еврейкой, в противоположность себе самой, полукровке. Марианна обращается с Лесей по-разному. Иногда она, кажется, допускает Лесю в круг евреев; вряд ли она говорила бы при Лесе «слишком гойское», если бы считала слишком гойской саму Лесю. Хотя, как ласково и презрительно объяснила одна из тетушек, когда Лесе было девять лет, Леся – не настоящая еврейка. Она была бы настоящей еврейкой, если бы еврейкой была ее мать, а не отец. Очевидно, этот ген передается по женской линии, как гемофилия.
Но иногда Марианна цепляется к Лесиному украинскому имени. Оно ее не раздражает, как, вероятно, раздражало бы ее родителей; Марианна считает Лесино имя интересным, хоть и немножко смешным.
– Что ты переживаешь? Многонациональность сейчас в моде. Перемени фамилию, и получишь какую-нибудь субсидию для национальных меньшинств.
Леся улыбается на эти шутки, но как-то слабо. Да, она действительно многонациональна, но не в том смысле, за который дают субсидии. Кроме того, семья отца уже один раз меняла фамилию, – хоть и не ради субсидий. Они это сделали в конце тридцатых; боялись, что Гитлер придет, а даже если бы и не пришел, в стране и без того достаточно было антисемитов. В те дни, рассказывали тетушки, нельзя было открывать дверь, если ты не знал, кто стучит. Вот так и вышло, что Леся носит не очень правдоподобную фамилию: Леся Грин. Хотя надо признать, что Леся Этлин звучало бы не более правдоподобно. Два года – в девять и в десять лет – Леся говорила учителям в школе, что ее зовут Элис. Леся – то же самое, что Элис, говорила ее мать, Леся – замечательное имя, так звали великую украинскую поэтессу. Чьи стихи Леся все равно никогда не сможет прочитать.
Однако она вернула себе прежнее имя, и вот почему. Когда она откроет доселе неизвестную страну (а она всерьез намеревалась это сделать рано или поздно), она, конечно, назовет ее собственным именем. Гренландия на карте уже есть, и она совсем не похожа на ту страну, которая нужна Лесе. Гренландия – бесплодная, ледяная, безжизненная, а страна, которую Леся откроет, будет тропической, с пышной растительностью и кучей удивительных животных – либо таких, которые давно считались вымершими, либо совершенно неизвестных даже в ископаемом виде. Она тщательно рисовала эту страну в блокнотах и дала имена всей флоре и фауне.
Но она не могла окрестить эту страну Элисландией: звучит нелепо. В «Затерянном мире», например, ей не нравились топографические названия. Взять хоть озеро Глэдис: слишком гойское. А само древнее плато носило имя Мэпл-Уайта, в честь художника, который, умирая, в бреду сжимал в руке свои рисунки с изображением птеродактиля – по ним профессор Челленджер и вышел на след. Леся была уверена (хотя в книжке об этом не говорилось), что Мэпл-Уайт[19]19
White Maple – белый клен (англ.). Белый клен распространен в Канаде; на канадском флаге изображен кленовый лист.
[Закрыть] был канадцем, из самых розовых и заторможенных. Кем еще он мог быть с такой фамилией?
Значит, Леселандия. Звучит почти по-африкански. Она могла бы представить это название на карте: там оно смотрелось бы вполне нормально.
Один раз, уже взрослой, она отправилась на фестиваль «Караван» в павильон «Одесса». Она обычно не ходит на «Караван». Она не доверяет официальной рекламе дружбы народов и этим костюмам, каких уже давно никто не носит. Не бывает таких поляков, как в польском павильоне, таких индейцев, как эти индейцы, таких немцев, распевающих йодли. Она сама не знает, почему вдруг пошла в тот раз на фестиваль; может, надеялась отыскать свои корни. Она пробовала блюда, которые только смутно помнила по бабушкиной кухне и даже не знала, как они называются – вареники, медовик, – и смотрела, как по сцене среди бумажных подсолнухов скачут высокие юноши и златокосые девушки в красных сапожках, поют песни, которых ей никогда не спеть, танцуют танцы, которым ее никогда не учили. Судя по программке, одних танцоров звали Дорис, Джоан, Боб, а у других были имена, как у нее – Наталья, Галина, Влад. В конце они, как бы посмеиваясь над собой (эту иронию Леся замечала и у Марианны, когда та говорила shwartze[20]20
Черная (идиш).
[Закрыть], передразнивая слова своей матери об уборщицах), спели песню, выученную в украинском летнем лагере:
Я не русская, не полька,
Нет, я не румынка.
Поцелуй меня скорей,
Я ведь украинка.
Леся оценила их пестрые одежды, ладные движения, музыку; но она глядела как будто извне. Она была тут такая же чужая, как в толпе собственных двоюродных братьев и сестер. С обеих сторон. Поцелуй меня скорей, я ведь полукровка.
Ее не посылали ни в украинские летние лагеря, ни в еврейские. Ей не позволили ходить ни в золотую церковь с куполом-луковкой, будто из волшебной сказки, ни в синагогу. Родители с радостью отпустили бы ее и туда, и туда, лишь бы успокоить бабушек, но бабушки ни за что не соглашались.
Иногда ей казалось, что она родилась не от отца с матерью, как все люди, но от какого-то неслыханного совокупления между этими двумя старухами, которые никогда не видели друг друга. Их существование было странной пародией на брак: они ненавидели друг друга больше, чем фашистов, и все же были друг другом одержимы; они даже умерли одна за другой, не прошло и года, точно старые, преданные друг другу супруги. Они по очереди наводняли собой дом ее родителей, сражались за нее, как за платье на распродаже. Если одна бабушка сидела с Лесей, то вторая должна была непременно тоже посидеть, иначе неизбежен был спектакль: рыдания бабушки Смыльской, ярость бабушки Этлин (которая сохранила свою фамилию, отказалась прятаться вместе с остальной семьей). Ни одна из бабушек так толком и не выучила английский, хотя бабушка Этлин набралась ругательств (в основном скатологических) от соседских детей, крутившихся у ее лавки, и использовала эти выражения, когда ей требовалось добиться своего. «Жопа исусова, собачья какашка, чтоб ты сдох!» – кричала она, топая ногами, обутыми в черные ботиночки, на крыльце у парадной двери. Она знала, что парадное крыльцо – самое подходящее место: родители Леси были готовы на что угодно, лишь бы увести ее в дом, подальше от чужих глаз. Англичане. Эти белесые фигуры, жившие в воображении ее родителей, не могли иметь бабушек, кричащих возле парадной двери: «Чтоб у тебя жопа отсохла!» или что-нибудь хоть отдаленно похожее. Теперь-то Леся лучше знает.
Как ни странно, у бабушек было очень много общего. Обе жили в маленьких, темных домиках, пропахших мебельной полиролью и нафталином. Обе были вдовы, у каждой в комнате верхнего этажа обитало по жильцу-мужчине с печальными глазами, у обеих был старинный фарфор, а парадные комнаты заполнены семейными фотографиями в серебряных рамках, обе пили чай из стаканов.
Когда Леся была маленькая и еще не ходила в школу, она проводила по три дня в неделю с каждой из бабушек, потому что ее матери нужно было работать. Леся сидела на полу в кухне, вырезая картинки из журналов и рекламных проспектов небольшого туристического агентства, где работала мать, и раскладывая эти картинки по кучкам: мужчин в одну кучку, женщин – в другую, собак – в третью, дома – в четвертую, – а бабушки пили чай и беседовали с ее тетками (сестрой отца либо женами братьев матери) на языках, которых Леся не понимала, потому что у нее дома на этих языках никогда не говорили.
Она должна была бы вырасти трехъязычной. Вместо этого она в школе плохо успевала по английскому, это был тяжкий и нудный труд, она писала с ошибками, ей не хватало воображения. В пятом классе им задали написать сочинение на тему «Как я провел лето», и она написала про свою коллекцию минералов, про каждый образец, с техническими подробностями. Учительница поставила ей «неуд» и прочитала нотацию: «Ты должна была написать про что-нибудь личное, из своей собственной жизни. А не из энциклопедии. Ведь что-то ты должна была делать в каникулы».
Леся не поняла. Ничего другого она в каникулы не делала, по крайней мере, ничего такого, что ей запомнилось бы, а эта коллекция камней и была чем-то личным, из ее собственной жизни. Но она не смогла объяснить. Не смогла объяснить, почему для нее так важно открытие, что все камни разные и у каждого есть имя. Эти имена составляли язык; язык, который мало кто знал, но если найти человека, который знает, с ним можно будет разговаривать. Только о камнях, но это уже что-то. Она ходила вверх и вниз по лестнице, бормоча эти имена и сомневаясь, правильно ли их произносит. «Сланец, – говорила она, – магма, вулканический, малахит, пирит, лигнит». Когда она открыла для себя динозавров, их имена оказались еще упоительнее, многосложнее, утешительнее, благозвучнее. Она не могла правильно написать слова «получать», «рассердить» или «директор», но с самого начала без запинки писала «диплодок» и «археоптерикс».
Родители решили, что она слишком увлеклась этими вещами, и отправили ее в танцевальный кружок, чтобы стала общительнее. Поздно, она уже не была общительной. Они винили в этом (про себя, конечно) бабушку Этлин, которая впервые привела ее в Музей – не потому, что бабушку сильно интересовали экспонаты, а потому, что вход стоил дешево и там можно было переждать дождь. Поскольку бабушке Смыльской принадлежали понедельник, вторник и среда, бабушка Этлин добилась, чтобы ей тоже предоставили три дня подряд, хоть это и означало, что ей придется нарушать субботу; но это обстоятельство не очень беспокоило бабушку Этлин. Она по привычке соблюдала кашрут, но прочие религиозные установления, видимо, ее не заботили. Когда Леся пошла в школу, они сохранили субботний обычай. Вместо синагоги Леся посещала Музей, который сначала и показался ей чем-то вроде церкви или святилища, как будто здесь надо было преклонять колени. Тут царила тишина, витал загадочный запах, хранились священные предметы: кварц, аметист, базальт.
(Когда бабушка умерла, Лесе казалось, что тело надо положить в Музей, под стекло, как египетскую мумию, с табличкой, где все написано про бабушку. Нелепая идея; но такую уж форму приняло Лесино горе. Она, конечно, знала, что на шиве[21]21
Иудейская траурная церемония.
[Закрыть], сидя в углу бело-розовой тетиной гостиной и поедая вместе со всеми кофейный торт, ничего подобного говорить нельзя. В синагогу ее тоже в конце концов пустили, но там не оказалось ничего загадочного. Ни ярко освещенная синагога с ее простыми линиями, ни розовая гостиная ничем не напоминали бабушку. Витрина в дальнем углу зала, внизу стоят черные ботиночки, а рядом с телом разложено несколько бабушкиных золотых украшений и янтарные бусы.)
«Объясни мине», – говорила бабушка, крепко держа ее за руку (в целях безопасности, как позже решила Леся); и Леся читала ей музейные таблички. Бабушка ничего не понимала, но кивала и мудро улыбалась; не потому, что камни производили на нее какое-то впечатление, как думала тогда Леся, но потому, что внучка, похоже, с легкостью ориентировалась в мире, который самой бабушке казался таким непонятным.
В последний год бабушкиной жизни, когда Лесе было двенадцать лет и обе уже вышли из возраста, подходящего для утренних музейных прогулок, кое-что в Музее расстроило бабушку. Она давно уже привыкла к мумиям в египетской галерее и больше не восклицала «гевалт»[22]22
Караул, спасите (идиш).
[Закрыть] всякий раз, когда они входили в галерею динозавров (где было тогда яркое освещение и не было звука). Нет, совсем другое. Они увидели индианку в красивом красном сари с золотой каймой по подолу. Поверх сари был надет белый лабораторный халат, с женщиной шли две девочки, очевидно – дочери, в шотландских юбочках. Они исчезли за дверью с табличкой: «Посторонним вход воспрещен». «Гевалт», – сказала бабушка, хмурясь, но не от страха.
Леся смотрела им вслед как зачарованная. Наконец-то – люди одной с ней крови.
– Вот это тебе пойдет, – говорит Марианна. Она время от времени дает Лесе советы по поводу одежды, но Леся их игнорирует, чувствуя, что не сможет такое носить. Марианна (которой надо бы последить за диетой) считает, что Леся должна быть статной. Марианна говорит, что Леся была бы видной, если бы ходила не так размашисто. Они смотрят на платье цвета сливы, с длинной юбкой, невероятно дорогое.
– Я бы не стала это носить, – говорит Леся. Она имеет в виду, что Уильям не водит ее туда, куда можно было бы надеть такое платье.
– А вот это, – говорит Марианна, переходя к следующей витрине, – типичное маленькое черное платье а-ля Элизабет Шёнхоф.
– Слишком гойское? – Леся думает, что Марианна выразилась презрительно, и странно довольна.
– Отнюдь, – отвечает Марианна. – Посмотри на покрой. В Элизабет Шёнхоф нет ничего гойского, она – высокий класс.
Леся, растерявшись, спрашивает, в чем разница.
– Высокий класс, – объясняет Марианна, – это когда тебе насрать, что люди скажут. Высокий класс – это когда у тебя в гостиной лежит замызганный ковер, у него вид как с помойки, а стоит он миллион баксов, но об этом знают только немногие. Помнишь, как королева руками выковыривала косточку из курицы, это попало в газеты, и вдруг все стали так делать? Вот это и есть высокий класс.
Леся чувствует, что таких тонкостей ей никогда не постичь. Как Уильям со своим вином: «насыщенный», «букет». Для нее все вина на один вкус. Может быть, и Нат Шёнхоф тоже принадлежит к высокому классу, хотя она почему-то так не думает. Он слишком нерешителен, слишком много говорит, и глаза у него бегают когда не надо. Он, скорее всего, даже не знает, что такое высокий класс.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































