Текст книги "Авангард и психотехника"
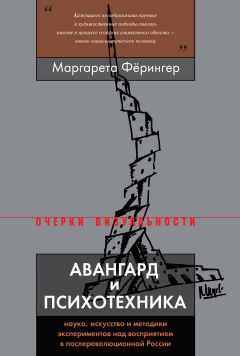
Автор книги: Маргарета Фёрингер
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Русский авангард как экспериментальная культура
В условиях, когда при взгляде с точек зрения различных дисциплин возможны те или иные искажения, необходимо четко обозначить историческую ситуацию: для послереволюционной России существенными являются не различия или сходства между искусством и наукой, а то, что это академическое разграничение почти полностью там отсутствовало. Журналы, печатавшие результаты работы художественных лабораторий вместе с данными лабораторий, занимавшихся экспериментальной психологией, зоологией и кинематографом (глава 2), обращались к неискушенной публике, не подозревавшей о существовании этих самых дисциплинарных границ.
Очевидно, что художники и ученые работали на одном и том же поле. Что может, кроме уже упомянутых Эйхенбаумом «одних и тех же фактов» (см. выше), соединить эту порванную уже последующим историческим исследованием связующую нить? Разве не оказываются тут же под рукой общие факты и связанные с ними вопросы, проблемы и цели в рамках идентичного пространственно-временного континуума? Что предоставляет нам возможность обращаться с вопросами к дискурсивному наполнению, дополнять его или заменять? И не в последнюю очередь – как нам укротить другое измерение этого дискурса: случайность, прерывность и материальность[47]47
Фуко 1996.
[Закрыть]? Как можно сделать продуктивной «некую невозможную возможность говорить о событии»[48]48
Derrida 2003.
[Закрыть]?
Мишель Фуко, как и формалисты до него, не смог разрешить упомянутой выше методологической проблемы и остановился на анализе языка: «Мишель Фуко, похоже, не обнаружил в европейской истории никаких других путеводных нитей, кроме того алфавита, который лежит в ее основе»[49]49
Kittler 1999. S. 9.
[Закрыть]. Логика медиа, действующих вне языка, логика приборов и практик, никак не проявляющихся в языке, осталась ему недоступна: «Вещи уже шепчут нам некоторый смысл, и нашему языку остается лишь подобрать его»[50]50
Фуко 1996. С. 76.
[Закрыть]. Изучением неязыковых дискурсов занялась теория медиа, которая поначалу анализировала их, используя в качестве источника их текстуализации, «системы записи»[51]51
Kittler 1995. Позднее его анализ «дискурсивных практик» подготовил развитие медиаисследований.
[Закрыть], а вскоре добавив к ним записи, сделанные с помощью «граммофона, пленки, печатной машинки»[52]52
Kittler 1986.
[Закрыть] и, в конце концов, «знаковые практики»[53]53
Siegert 2003 (курсив мой. – М. Ф.).
[Закрыть].
Превращение всех событий в языковые опознал как парадокс уже Мартин Хайдеггер: «Говоря о языке, мы постоянно остаемся втянутыми в недостаточность говорения. Эта втянутость закрывает нам путь к тому, что должно открыться мышлению»[54]54
Heidegger 1959. S. 179.
[Закрыть]. Он различал научное представление и философское мышление, указав, что представлению нужен метод, чтобы производить знание, а мышлению – не нужен. Единственная возможность распутать язык состоит в том, чтобы «принимать во внимание своеобразие пути мышления, то есть осматриваться в той области, в которой мышление пребывает»[55]55
Ibid.
[Закрыть]. Хайдеггер считал научное представление несовместимым с философским мышлением и на этом основывал разграничение между наукой и философией/искусством. И тем не менее: нельзя ли, идя от Хайдеггера, признать за науками, точно так же как и за изобразительными искусствами, право на такую область, в которой развивается мышление и в которой не встречаются ни производство знания, ни его методическое применение, ни его передача средствами языка? И если мы озираемся в этой доязыковой «области мышления», то не означает ли это, что в ней можно увидеть всевозможные вещи и события, а вот метод как раз нельзя?
Питер Галисон сравнивает архитектуру Баухауса с логическим позитивизмом Венского кружка и выявляет множество аналогий, таких как общий метод, идеология, язык, интересы, участники, стили и цели, чтобы в конце концов прийти к выводу, что искусство и наука «взаимно поддерживали друг друга», друг друга взаимно легитимизировали: «Для художников Баухауса Венский кружок символизировал твердую научную почву. ‹…› А связь представителей логического позитивизма с большим миром современного искусства подтверждала их прогрессивность ‹…›»[56]56
Galison 1990. P. 748.
[Закрыть]. Делая вывод о взаимодополнительности искусства и философии, Галисон, однако, сохраняет именно ту традиционную границу, которую обе группы – и философы, и архитекторы – в своих совместных проектах, как им казалось, уничтожали, чтобы «реформировать фундаментальные аспекты повседневной жизни»[57]57
Galison 1990. P. 732.
[Закрыть]. А между тем следовало бы рассматривать те общие для искусства и науки задачи, которые были выявлены в послереволюционной России, в качестве основы для фактического сближения науки и искусства, поддерживаемого политически и технологически. Притом это сближение не только провозглашалось в манифестах, а действительно практиковалось в тех «областях», в которых оно развивалось[58]58
Подобного рода манифесты то и дело публиковались после того, как Шкловский написал свой текст «Искусство как прием». См.: Шкловский 1917. Так, в Центре искусства и медиатехнологий в 1997 году обсуждалось взаимопроникновение методов искусства и науки, а в 2004 году – общие культурные техники этих дисциплин: «\internationalemedienkunstpreis стремится продемонстрировать, что искусство и наука ‹…› несмотря на различные методы, являются близкими культурными техниками с общим буквенно-цифровым кодом».
[Закрыть].
Чтобы удержаться от искушения повторять достаточно очевидные заявления художников и ухватить больше, чем «всего лишь идентифицирующие параллели»[59]59
Galison 1990. P. 710.
[Закрыть] между этими дисциплинами, фокус этой работы будет направлен на практики художников – на их эксперименты, инструменты и результаты работы – и на тот контекст, который мог способствовать их развитию. Вместо того чтобы анализировать произведения искусства, прежде всего на предмет того, что хотел сказать художник, мы будем рассматривать их преимущественно с точки зрения способов их создания. В этом мы следуем за Петером Гаймером и его оценкой научных иллюстраций, расширяя предмет исследования до художественных произведений вообще: «Научные иллюстрации обретают свой статус ‹…› не в тот момент, когда на них смотрят, а уже в экспериментальных ситуациях, возникающих во время их создания»[60]60
Geimer 2003. S. 37.
[Закрыть]. Помимо замысла художника не менее важно изучить пути возникновения произведений со всеми их ответвлениями и пропусками, о которых не расскажет само произведение и очень редко расскажет сам художник. Плоды трудов художников и ученых преднамеренно непрозрачны, их изображения – «иконографии невидимого, причем и те и другие настаивают на том, что именно они – настоящие»[61]61
Bredekamp 2003. S. 15.
[Закрыть]. И публикации, описывающие результаты экспериментов, и произведения искусства – это авторские работы, которые стоят в самом конце цепи различных опытов и принятых решений и которые можно обнаружить, только пройдя по этой цепи. Современный художник, как и современный ученый, – «не инженер, действующий в соответствии с теорией ‹…› а человек, мастерящий из чего и как придется»[62]62
Rheinberger 2003. S. 38.
[Закрыть].
Исходный методологический тезис данной работы лежит в продуктивности сравнения искусства и науки на уровне их практик. В истории науки подобный переход от «изучения теорий, абстрактных открытий, идей или парадигм привел к ориентации на научные практики»[63]63
Hagner 2001. S. 21.
[Закрыть], привел к так называемому «практическому повороту». Вместо того чтобы исследовать видных представителей определенных дисциплин и историзировать их теории, историк направляет свой окуляр на институты и лаборатории, приборы, объекты изучения и эксперименты[64]64
Ср.: Latour 1999; Pickering (Ed.) 1992; Rheinberger, Hagner (Hrsg.) 1993; Jones, Galison, Slaton 1998.
[Закрыть]. Это обращение к «науке в действии»[65]65
Latour 1999.
[Закрыть] наиболее последовательно осуществляется в научном проекте, который в качестве отправной точки выбирает начало эпохи экспериментирования в науках о жизни, то есть XIX век, чтобы историзировать его отдельные компоненты: эксперименты, технологии, объекты, пространства, участников и теории[66]66
Проект «Экспериментализация жизни. Конфигурации науки, искусства и техники» осуществляется в Институте истории науки Общества им. Макса Планка под руководством Ханса-Йорга Райнбергера. См. http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/exp/index_e.html. Другие работы по истории науки, уделяющие внимание искусствам, – Gockel, Hagner 2004; Jones, Galison, Slaton 1998; Dierig 2001; Obrist, Vanderlinden 2001.
[Закрыть]. Характерно, что «экспериментализацию жизни» концепция проекта приписывает не только наукам о жизни, но и современным искусствам. Согласно этому подходу, сюрреалистические эксперименты с автоматическим письмом изучаются по тому же принципу, что и экскурсы в фотографию Августа Стринберга, театр Бертольта Брехта или писательская манера Марселя Пруста[67]67
Доклады с конференции «Экспериментальные культуры», декабрь 2001 года, в Институте истории науки Общества им. Макса Планка, Берлин. См.: Schmidgen, Geimer, Dierig (Hg.) 2004.
[Закрыть]. Цель истории науки после «практического поворота» – «в тесном контакте с исследованиями культуры ‹…› принимать всерьез историческое измерение знания и форм его репрезентации, его базовых категорий и медиа, его практик и культурных, социальных и экономических взаимосвязей»[68]68
Hagner 2001. S. 30.
[Закрыть]. Граница между наукой и искусством может быть, вследствие этого, снята, если историю науки изучать методами науки о культуре[69]69
Ibid.
[Закрыть]. Все вышесказанное подводит основание под предложенный здесь подход: исследовать произведения русского авангарда на предмет их практик и устанавливать их взаимосвязь с распространенными в то время теориями, утопиями и дискурсами. В этом смысле произведения искусства могут быть описаны при помощи трехступенчатого исследования: сначала с точки зрения их материальных свойств (произведения), потом их дискурсивных связей (высказывания самих акторов) и наконец в отношении их практической реализации (эксперименты). Благодаря изучению практик становятся не важны дисциплинарные границы, потому что практики снова и снова их «подмывают, передвигают и определяют заново»[70]70
Rheinberger 2003. S. 34.
[Закрыть]. Ханс-Йорг Райнбергер описал процесс современного производства знаний на примере экспериментальных систем. Наименьшими «рабочими единицами и экспериментальными средами, с которыми имеют дело ученые и в которых они пребывают», предстают области, в которых «образуются предметы изучения»[71]71
Ibid. S. 33.
[Закрыть], или, скорее, – в которых исследователь действует и думает. Они открыты для «непредвиденных и непредсказуемых событий», которые приводят к тому, что «отдельные экспериментальные системы распадаются или объединяются в гибридные системы». Результатом этого становится подвижная сеть практик, техник, идей, вещей и событий, которая превращается не в академическую дисциплину, а в «поля, чьи локальные уплотнения можно описать как экспериментальные культуры»[72]72
Ibid. S. 34.
[Закрыть].
Октябрьская революция 1917 года дала толчок к фундаментальной перестройке всех дисциплин, которые казались значимыми новому режиму. В результате возникла сложная, междисциплинарная ситуация, способствовавшая на институциональном уровне трансферу практик и методов. Как раз в созданных новой властью академиях искусств были открыты лаборатории, в которых систематически изучалось тело и восприятие человека по физиологическим и психологическим критериям: Институт художественной культуры (ИНХУК), Российская академия художественных наук (РАХН) и Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС)[73]73
Институт художественной культуры (ИНХУК), Москва 1920–1923/1924; Российская академия художественных наук (РАХН) – c 1925 года называлась ГАХН – Государственная академия художественной культуры, Москва 1921–1930; Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), основанные в 1920 году (с 1928 года назывались ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт).
[Закрыть] стали фабрикой идей прогрессивных художников и ученых того времени в поисках основ массовой коммуникации, законов восприятия и возможности на них влиять. Речь на открытии Первой Всероссийской инициативной конференции по научной организации труда и производства не зря задала такой триумфальный тон: «‹…› После политического освобождения становится возможным подходить к проблемам сугубо по-научному, не опасаясь, что возникнут какие-то неожиданные препятствия»[74]74
Цит. по: Baumgarten 1924. S. 49.
[Закрыть].
Результатом этих процессов стало распространение в России нового научного направления – психотехники, – возникшего в самом начале XX века в нескольких европейских странах и утвердившегося как отдельная дисциплина после Первой мировой войны на волне дискуссий о рационализации. Психотехника понималась ее адептами как практическая психология, расширившая предмет своего изучения на все сферы человеческой деятельности, готовые ей открыться. Среди них было и авангардное искусство. Возвращаясь к концепции экспериментальных систем, Россию 1920‐х годов можно описать как экспериментальную культуру. В этой ситуации различные области общественной жизни – такие, как экономика, власть, школьное образование – и, соответственно, все дисциплины более или менее спонтанно меняли свои границы и взаиморасположение на фоне многочисленных непредсказуемых изменений общественной ситуации, которые, как ожидалось, в результате должны были привести к некоему новому будущему. До периода сталинской диктатуры приоритеты властей предержащих выглядели далекими от стремления к неограниченной власти партии: «До каких пределов самоуправляемости доведет себя человек будущего – это так же трудно предсказать, как и те высоты, до каких он доведет свою технику»[75]75
Троцкий 1924. С. 194.
[Закрыть]. Эти слова были сказаны вовсе не в качестве утопических обещаний, а основывались на определенных представлениях о развитии искусства и науки. Позже, уже в 1938 году, когда это будущее уже давно наступило, Троцкий напоминал о его необходимых структурных условиях – свободе искусства и науки: «‹…› философское, социологическое, естественнонаучное или художественное открытие всегда является продуктом драгоценного совпадения, что означает – более или менее спонтанным проявлением необходимости». И сами эти общественные предпосылки, «при которых это со-впадение постоянно случается»[76]76
Breton, Trockij 1972. S. 435 (курсив оригинала). Манифест был настолько политически заострен и настолько критичен по отношению к Сталину, что Троцкий попросил Диего Риверу подписать его вместо себя.
[Закрыть], совершенно необходимо сохранить.
Как могло получиться, что это самое общество превратилось в одну из самых непредсказуемых карательных систем XX века, несмотря на то что эксплицитно выступало за освобождение своих угнетенных членов? Как из социализма получилась брутальная индустриализация, из самообладания – дисциплинирование и какую роль автономия искусства и науки играла в этом процессе? По Мишелю Фуко, всякое осуществление власти теснейшим образом связано с распространением страха, в особенности это касается системы власти советских социалистов. Все социалисты будущего должны, следовательно, еще прежде чем они обратятся к правам человека, выполнить единственную задачу: «найти способ управлять, который бы не внушал страха»[77]77
Foucault 1976. S. 76–80. Здесь S. 80.
[Закрыть]. Не было ли как раз это стимулом всех тех экспериментов и открытий, который Троцкий надеялся обеспечить при помощи автономии искусства и науки?
Это исследование отказывается от традиционных дихотомий ради политической и критической позиции: вместо того чтобы демонизировать неправильное дисциплинирование и контроль, осуществлявшиеся «неправильными» властителями, или восхвалять их бесплодные надежды на свободу и равноправие, здесь будут проанализированы условия и механизмы, способствовавшие возникновению этих противоречий. Только так можно обнаружить не утрачивающие актуальности парадоксы, которые после Октябрьской революции превратили освобождение в контроль, а художников – в ученых, а также разоблачили марксистов-технократов как «аполитичных политиков»[78]78
Galison, Thompson (Hg.) 1999. S. 10.
[Закрыть]. Только так можно распознать заблуждение, что в отношении чего бы то ни было можно занимать нейтральную и аполитичную позицию. При всем воодушевлении великими политическими целями революционеров тем не менее недостаточно исследовать только действия их политического аппарата. Это уже сделано, и не одним исследователем. Но гораздо важнее понять, что «власть не всегда концентрируется в госаппарате», а как раз наоборот[79]79
Foucault 1976. S. 110. Осторожное описание раннего коммунизма, включая роль государственного аппарата, см.: Koenen 2000.
[Закрыть]. Для того чтобы извлечь урок из советской истории, необходимо задаться вопросом, каким образом структуры власти воспроизводились сверху донизу, как они применялись самими людьми, которые обычно не были членами госаппарата, – художниками и учеными. Поэтому в данной работе в фокусе окажутся «механизмы власти, которые функционируют за пределами государственного аппарата, практически параллельно с ним и в любом случае на гораздо более низком, повседневном уровне»[80]80
Foucault 1976. S. 110.
[Закрыть]. Здесь речь идет о банальных, незаметных и куда более скромных политических действиях.
Содержательно взаимные наложения художественных и научных практик в послереволюционной экспериментальной культуре будут рассмотрены на трех примерах, которые одновременно и принадлежат к русскому авангарду, и при этом тем или иным образом используют экспериментальные приемы психологии и физиологии. Этот подход, однако, не утверждает равнозначность авангарда и психотехники, а наглядно демонстрирует разницу в подходе художников к научным исследованиям их времени. В 1926 году архитектор и педагог Николай Ладовский основывает в одном из художественных учебных заведений Москвы Психотехническую лабораторию архитектуры, для того чтобы тренировать визуальное восприятие студентов. Эксперименты Ладовского сравнимы с современными ему психотехническими практиками не только в Москве, но и в Гарварде, и в Берлине, а также в среде художников-авангардистов, таких как Татлин, Ле Корбюзье, Лисицкий, Кандинский и Матюшин (глава 1). Другим пространством взаимодействия искусства и науки была физиологическая лаборатория Ивана Павлова в Ленинграде, в которой Всеволод Пудовкин снимал в 1925 году свой фильм «Механика головного мозга». Здесь будет показано, как конфронтация Пудовкина с экспериментальной рутиной лаборатории Павлова способствовала развитию кинопрактик, которые, с одной стороны, демонстрировали основы учения о рефлексах, а с другой – имитировали их при помощи кино (глава 2). Последний пример прикладной психологии – это Институт переливания крови, основанный в 1926 году Александром Богдановым в Москве. Созданный им единственный в своем роде метод обратного переливания крови стал не только продуктом его философских штудий. Он вырос из реакции на выводы наук о труде и тем самым из соединения художественных и научных практик (глава 3).
Все эти примеры объединяет изучаемая на протяжении всей работы базовая установка психотехники – воздействие на человеческую психику при помощи техники или, точнее, различные способы соединения психики и техники, а именно: обратная связь, сцепление, прививка. Главные действующие лица в этих трех изучаемых примерах являлись одновременно художниками и учеными. Архитектор использовал приемы экспериментальной психологии в художественном учебном заведении. Режиссер отправился снимать свой первый фильм в лабораторию ученого-физиолога. Психиатр применял свой философский и художественной опыт в клинической практике. Ни один из этих экспериментаторов не известен своими близкими связями с авангардом. Причина этого не в том, что они стояли в тени известных представителей авангарда, а в традиции написания истории этого художественного направления: исследователи до сих пор ограничивались изучением опубликованных работ самых знаменитых его представителей – Малевича, Родченко или Эйзенштейна, – вместо того чтобы по запутанным следам выискивать документы в российских архивах и реконструировать контексты и взаимосвязи, в рамках которых динамически формировалось это движение. Последнее было бы адекватно изучаемому предмету в особенности потому, что русский авангард известен как раз тем, что он не был движением, созданным и развивавшимся под руководством отдельных личностей[81]81
Мнение об этих взаимосвязях можно составить по публикациям Евгения Ковтуна, который сделал доступным для читателя поразительное количество материала: Ковтун 1996.
[Закрыть].
Термин «русский авангард» применялся славистами и историками a posteriori для обозначения искусства до и после Октябрьской революции. Он описывает неформальные объединения художников, каждое из которых пыталось отгородиться от любых других групп и которые в основном организовывались вокруг отдельных выставок[82]82
См. статью Фредерика Старра (Frederick Starr) в Zander Rudenstine, Costakis (Hg.) 1982. S. 15. О понятии «авангард» в искусстве и политике см.: Egbert 1967. S. 330–336. В литературе см.: Hardt (Hg.) 1989. Объединение философских и художественных представлений об авангарде разработал Бюргер, см.: Bürger 1964. Комплексное описание европейского авангарда см.: Barck 2000. S. 544–549.
[Закрыть]. В соответствии с лексическим значением слова – «головной отряд, группа бойцов, идущих впереди остальных» – русскому авангарду приписывается огромное количество черт, которые потом стали свойственны всему искусству XX века: радикальный отказ от традиции и академизма, междисциплинарность, использование разнообразных медиа, оригинальность, абстракция, любовь к экспериментам с формой, восхищение техническими изобретениями, исчезновение автора, обесценивание оригинала и т. д.[83]83
Все эти специфические черты современного искусства разбираются в критических эссе Розалинды Краус. См.: Krauss 2000.
[Закрыть] В движении русского авангарда принимали участие представители разных отраслей изобразительного искусства: скульпторы, художники-графики, фотографы и режиссеры. Большинство авангардистов в течение жизни успели поработать во многих из этих отраслей. Например, Александр Родченко начинал как живописец, потом обратился к скульптуре и графике и, в конце концов, открыл для себя фотографию. Эль Лисицкий пришел от оформления книг и выставочного дизайна к архитектуре. Тяга к техническим экспериментам у этих разносторонне одаренных людей выражалась в их работах и способствовала появлению новых художественных форм. Коллажи, серии, копии и интерактивные пространственные инсталляции стали с тех пор неотъемлемой частью современного искусства. Другой важной чертой русского авангарда был его прикладной характер, то есть использование художественных способностей автора для создания предметов повседневного обихода. Будь то одежда, мебель, посуда, книги, рекламные плакаты или цветовые решения общественных пространств – геометрические абстракции находили применение во всех видах декора и агитационных материалов. При этом целью являлось не только оформление, но и изменение сознания: «Мы пришли, чтобы очистить личность от академической утвари, выжечь в мозгу плесень прошлого…»[84]84
Цит. по: Ковтун 1996. С. 16.
[Закрыть] Практическое применение произведений искусства открывало возможность следования новым художественным приемам, и не только в рамках одной дисциплины. Многие авангардисты обратились к практикам, выходящим за привычные рамки их предмета, и зашли на территорию инженеров и ученых. Об этих междисциплинарных связях до сих пор мало что известно, несмотря на то что даже опубликованные слова участников этих процессов напрямую указывают на это: «Супрематисты сделали в искусстве то, что сделано в медицине химиками. Они выделили действующую часть средств»[85]85
Шкловский 1990. С. 95.
[Закрыть]. Для развития русского авангарда наука играла бóльшую роль, чем для всех последующих инновационных художественных направлений, потому что на фоне научного марксизма научность авангарда значительно повысила его политическое значение. Не важно, можно ли найти соответствие между русским авангардом и всем, что ему формально приписывалось, или нет, очевидно одно: никогда до и никогда после не было в России такой близости художников к власти, как в 1920‐е годы, и сами ученые и художники никогда не были настолько близки в своей работе между собой, как в десятилетие высшей конъюнктуры советской психотехники.
Взаимосвязи между искусством и психотехникой – не в последнюю очередь по причине гетерогенности обоих этих полей – крайне многообразны и исследуются в работе посредством изучения трех центральных примеров. Так проявляются самые разные точки соприкосновения между психофизиологическими исследованиями и художественным авангардом, и эти связи становятся с каждым рассматриваемым примером все более и более абстрактными: если архитектор Ладовский открыто демонстрировал влияние психотехники на свою работу, то режиссер Пудовкин использовал свои художественные практики за пределами психотехники, сняв фильм в физиологической лаборатории. Не декларируя этого влияния открыто, он, однако, использовал при монтаже психотехнические приемы. И наконец, Богданов, создавший на деле новую, инвазивную форму психотехники, также не употребляя самого этого термина и дистанцируясь от авангардистских экспериментов, в своей работе сам следовал психотехнической логике. Таким образом, начав с очевидного случая обмена знаниями между архитектурой и психотехникой, в ходе расширения фокуса исследования на следующих примерах отыскиваются подобные взаимосвязи: между кино и изучением рефлексов, а также между физиологией крови и наукой о труде. Каждое из психотехнических художественных медиа – пространство, фильм и кровь – представляет собой иную модель для практической психологии. Если пространство в качестве объективной психотехники прежде всего манипулирует технической организацией окружения человека, то кино как субъективная психотехника воздействует напрямую на восприятие зрителя[86]86
Это разграничение следует исторически сложившейся концепции психотехники. Определение субъективной и объективной психотехники см.: Giese 1928, в отношении России: Ermanskij 1928.
[Закрыть]. И наконец, кровь не вписывается в эти модели: при работе с психикой посредством физиологического подхода психотехника парадоксальным образом становится чем-то себе противоположным и вместе с тем реализуется с предельной последовательностью. В результате проблематизируется понятие о том, к чему, собственно, технически и адресуется психотехника: понятие психики. В одном случае к ней обращаются посредством движения, в другом – за счет восприятия, а в третьем – с помощью кровообращения. Сама же психика остается при этом невидима и непознаваема: ни в одном из примеров не обсуждается вопрос, где же располагается то, что по сути и является целью экспериментов. Как нечто само собой разумеющееся, предполагалось, что психика есть нечто каким-то образом физически материализующееся. Основатель психотехники Гуго Мюнстерберг даже отрицал существование нематериальной психики, несмотря на то что он в обход, через фюсис (природу), все-таки втайне искал к ней дорогу: «О подсознании можно рассказать в трех словах: оно не существует»[87]87
Münsterberg 1909. S. 125.
[Закрыть].
И последнее: обращая свое внимание на практики искусства и практики науки, применявшиеся в отношении искусства, мы получаем возможность решительно модифицировать представление об авангарде как о чем-то утопичном и преимущественно теоретическом, а кроме того – поставить на практическую почву и скорректировать те совершенно неадекватные заявления исследователей авангарда, которые, основываясь до сих пор на одних лишь дискурсах, объявляли его «лабораторией современности»[88]88
Самые влиятельные исследования об «экспериментальном авангарде»: Gray 1962; Stites 1989; Gassner, Kopanski 1992; Bowlt (Hg.) 1996; Wolter, Schwenk (Hg.) 1992; Misler (Hrsg.) 1997; Paperno, Grossman (Hg.) 1994; Schlögel 2002; Grojs 2003.
[Закрыть]. Психотехника только тогда и открывает свой настоящий горизонт, когда мы распространяем ее на область искусств. Какого рода культура проявляется здесь, какие отношения выстраиваются между человеком и машиной, каковы взаимодействия между психикой и природой в этом контексте и что, собственно, планировалось в конечном счете оптимизировать путем смычки психики и техники? И каким образом это связано с российскими проектами создания Нового Человека?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































