Текст книги "Хор (сборник)"
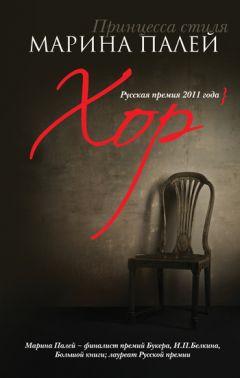
Автор книги: Марина Палей
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
22
и они поют,
и они поют,
и цветет алой розой у каждой
разверстая влажная рана горла,
и цветет жарким цветом,
маковой пьяной кровью,
цветет разверстая рана горла,
и они поют,
и они поют,
словно целуются-любятся
словно совокупляются,
да: бесстыже и жадно совокупляются
своими влажными ранами
и они поют,
и они поют,
и каждая вплескивает свою дикую кровь в другую,
и не может остановиться
и каждая заглатывает дикую кровь другой,
и не может наглотаться,
и обе они захлебываются-заливаются, жены поющие,
и обе они захлебываются-заливаются, жены грешащие,
и обе они захлебываются-заливаются, жены ликующие,
и все глубже,
все глубже,
все глубже дышат;
и они поют,
и они поют,
и первая впадает в кровоток второй —
и словно бы тонет
для жертвоприношения Жизни,
и вторая впадает в кровоток первой —
и словно бы тонет
для жертвоприношения Смерти,
и обе они тонут,
и тонут, и тонут,
и обе, необузданные, выныривают,
и обе выныривают, неугомонные
и они поют,
и они поют,
и вливают дыханье друг другу уста-в-уста,
и проводят друг другу открытый массаж сердца,
и прижимаются сердце-к-сердцу,
и, в едином ритме сердцебиенья,
кричат от боли и кричат от восторга,
кричат от Жизни и кричат от Смерти;
и они спасают друг друга,
и они друг друга губят,
и они голубят друг друга,
и они друг друга терзают,
и они любовно истязают друг друга,
и они беспощадно друг друга нежат,
алая кровь атакует, черная подчиняется,
черная берет верх, алая усмиряется;
алая побеждает, черная иссыхает,
черная закипает, алая леденеет.
они обе – две женки-зверины,
они мехом покрыты,
да, лохматых две женки-зверины,
они мехом заросши,
и женки плачут-поют:
для чего, для чего густой надобен мех?
да, и поют они, плачут:
для чего, для чего нужен-понадобен мех тот красивый?
мех понадобен, чтобы любить,
гладить и целовать,
мех понадобен, чтобы убить,
шкурку содрать,
и одна из них, из женок поющих,
жена Андерса,
сильная она, бархатная, теплая,
и она ловит-улавливает другую жену
своим мягким голосовым жгутом;
и заарканивает ее своей ворсистой голосовою петлею,
и обвивает ее нежным ворсом, и связывает, и ведет за собою
в любовь-рабство,
в освобождение-смерть;
и другая жена из женок поющих,
жена Пима,
истерзанная, слабая,
шелковистая, льдистая,
и подает она голос свой
всегда нежданно, словно нечаянно;
и она высоко-высоко вскрикивает,
и резко взлетает в сильнейших мгновениях боли
прямо в смерть,
и страшно взлетает в сильнейших мгновениях боли
прямо в бессмертие,
и снова покорно умирает,
и снова медленно затвердевает в ледяной сукровичный кокон;
но та, первая, жена Андерса,
бросается поперек этому колдовству,
этому смертному оледенению,
и терзает-пытает ее, вторую,
ручьем-кипятком,
ручьем-кипятком
своей червонной, черной своей крови;
и та, первая, жена Андерса,
она низкогласая властолюбица, вот она кто,
и она стонет-взыхает, вот она как,
и она воет-скулит, вот она как,
и она рычит-повизгивает, вот она как,
и захлебывается блаженством боли,
но та, вторая,
исплакавшаяся водоросль, вот она кто,
обездвиженная, замороженная, вот она какова,
поначалу безвольная, вот она какова,
и она медленно-медленно заледеневает потверже,
потверже, погорше, ой да погорше заледеневает она,
и та, вторая,
она безучастно пронзает,
да, безучастно,
и вот она, ой, безучастно пронзает,
бубновое сердце
той, первой,
ой, да, первой,
ой, да, той, первой,
ой, да, она безучастно пронзает
бубновое сердце
той, первой,
сталью высокого,
ой, да, какого у жен не бывает,
ой, да, какого у птиц не бывает,
ой, да, какого у флейт не бывает,
голоса-льда,
ой, да, льда-голоса,
ой, да, голоса-льда
…Тогда, в утрехтском поезде, собрав все самообладание, стараясь говорить как можно более спокойно и ровно, он сказал ей: знаешь, мне кажется, если кому-то нравится петь, танцевать, или, скажем, заниматься спортом… то для этого есть специальные места… люди там собираются группой, специальные люди… может быть, для твоего пения лучше всего подошла бы хоровая группа?
Его речь преследовала сразу несколько целей. Главное, надо было прервать это дурацкое, тягостное молчание. Потом… ему очень хотелось услышать ее голос. Он соскучился… и ему было страшно. Он хотел убедиться, что голос этой… женщины… тот же самый, что у жены… Кроме того, ему, этим подчеркнутым спокойствием своей интонации, хотелось немного ее поддеть. Он был бы рад, если бы она стала кричать – даже орать, надсаживаясь в этом пустом вагоне, – выть всем животным нутром, без стыда и срама, – как она не позволяла себе при нем наедине никогда, но позволила при всех, когда пела. Он хотел убедиться, что и он, ее муж, ее законный муж, может вырвать из нее вместе с криком эту ее потайную, затаенную нечеловеческую суть. Да, он, ее муж, может вызвать в ней эту страшную, неведомую ему ранее внетелесную страсть. И на самом последнем месте (на самом последнем! это было так на него не похоже!) действительно пребывало желание как можно скорей загасить раздор.
В это время поезд подъехал к Утрехту. Она легонько растормошила детей и стала надевать плащ.
«Ну так что же?» – спросил ее Андерс в проходе вагона.
«Ты прав, – сказала она, не поворачивая головы. – Я буду ходить в хор. – И, выйдя на платформу, добавила: – Кстати, я уже договорилась».
Вот с этой самой минуты, о чем он, конечно, не знал, судьба Андерса Виллема Францискуса Марии ван Риддердейка, включив триггер ускоренного продвижения, необратимо встала на путь гибели.
* * *
Dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen, die gevangen worden met het boze net; en gelijk de vogelen, die gevangen worden met den strik; gelijk die, alzo worden de kinderen der mensen verstrikt, ter bozer tijd, wanneer derzelve haastelijk over hen valt.
Человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.
(Екклезиаст, гл. 9, ст. 12)
Часть третья
1954 и 1958. Er is een tijd om te kermen, te wenen, te zwijgen, te genezen
[22]22
Время – сетовать, плакать, молчать, врачевать (нидерландск.). Екклезиаст.
[Закрыть]
У нее были огромные глаза, притом неправдоподобно прозрачные: казалось, ее лицо – насквозь – пробивают каналы неземного зрения, – так что всякий раз, глядя в глаза жены, Андерс видел лишь воздух за ее головой.
Он заметил это не сразу – нет, далеко не сразу.
После памятной Пасхи прошло три года.
Жена Андерса уже три года ходила в хор.
Регулярно, без единого пропуска.
Вторник, пятница.
Вторник, пятница.
Вторник, пятница.
Вторник, пятница.
Эти дни стали для Андерса пыточными. Вот как бывают присутственные дни, так для него были привычно-пыточные. А дни между ними, что еще тяжелей, – обратились в мучительное ожидание неизбежного. Боль стала единственным, вытеснившим прочее, рутинным содержанием жизни. Боль, черными гвоздями, намертво, вбитая в каждый час ее скудного расписания.
2И вновь наступила Пасха. И вновь оба брата и младшая их сестра, со своими семьями, собрались во Влаардингене у своей матери, Берты ван Риддердейк. И вновь гости сидели в гостиной, в столовой, в гостиной. Все было то же самое.
Хотя… Андерс поймал себя на том, что у него постепенно увядает желание участвовать в этой speling[23]23
В этой игре (нидерландск.).
[Закрыть]. Ну да: het sop is de kooktoestel niet waard[24]24
Соус не стоит керосинки. Тождественно выражению: игра не стоит свеч (нидерландск.).
[Закрыть]. По крайней мере, в нем нарастало именно это чувство, которое, по правилам той же speling, надлежало строжайшим образом камуфлировать.
С каждым годом Андерс все ясней замечал, как разительно его жена отличается от его же родни. Одета она была так же, как все они, – в неброскую, но, тем не менее, достаточно дорогую одежду – да, в праздничную одежду людей среднего достатка, фантазии которых не дозволено простираться далее установленных их кругом границ. Говорила она почти без акцента, на те же самые темы, однако…
Это было уже не впервые, когда, после девятилетней совместной жизни, Андерс отмечал это «однако» – какую-то неспокойную разницу… На сей раз, сидя за пасхальным столом, он заставил себя (сам не зная почему) мысленно сформулировать, в чем же данная разница заключается.
Ему удалось это не вполне, не всеохватно. Он остановился на частностях. Например: когда жена поддерживала разговор о погоде, она не надувала глубокомысленно щек, не морщила озабоченно лба, не вздымала брови как бы в порыве редчайшего изумления, в которое приходит мыслитель, сталкиваясь с неразрешимым метафизическим сюрпризом, – она просто называла данные погоды. Когда речь заходила о той же погоде, но уже с оттенком как бы личной оценки, она не вздыхала смущенно, не подкатывала глазных яблок, не пожимала робко плечиком – то есть не проделывала всего того, что проделывали другие, которые (вплывая в опасный океан вольных мнений) неизменно сопровождали этим мимико-пантомимическим кривляньем любую «отвлеченную фразу» – а именно: фразу, не касавшуюся денег. Она не делала того, что проделывали все другие, неизменно сопровождавшие этими лживыми жестами кальвинистской скромности любую элементарную фразу с оборотом «volgens mij»[25]25
По-моему (нидерландск.).
[Закрыть]. Более того: она не была озабочена тем, чтобы загромождать гулкие, нежилые пространства якобы диалогов или общих бесед такими (обязательными для всех других) клоунскими (то есть ханжескими) словесными построениями как: ах, я этого не знаю достоверно… ах, я, конечно, могу ошибаться… ах, я не смею настаивать на своем сугубо частном мнении… ах, простите мне эту запредельную дерзость мысли… ах, кто я такой, чтобы судить об этом… Нет, она не делала этого никогда.
Например: «Вы не слышали, какая сегодня температура на улице?» Ответ почти всякого из сородичей и компатриотов Андерса был бы таков: «Я посмотрел сегодня утром, часов в одиннадцать (жесты, мимика: ну, может, было не одиннадцать… я не утверждаю, что было ровно одиннадцать…), – я посмотрел на уличный термометр за окном (жесты, мимика: хе-хе, за окошечком…да-да-да…) ну-у-у-у-у, я не знааааю (жесты, мимика: ах, там, снаружи, было так много сложного, так много проблемного, о чем умолчу…) – термометр показывал, по-моему, плюс семь градусов, или что-то вроде того… я не зна-а-а-аю…
А других тем для общих бесед в их кругу не было. Ну, налоги. Ну, как их по возможности уменьшить. Ну, скидки. Ну, типы страхования. Ну, автодорожные штрафы. Ну, распродажи. Так ведь на эти темы говорить – только нарушать здоровье. Поэтому о погоде – лучше всего: если уж зарядил дождь, то это случается не потому, что ты свалял дурака – что-то там продешевил, упустил, прохлопал – а с налогами-то ведь именно так… Со штрафами – тем более… Или с покупкой предмета за шесть гульденов, когда он, тот же самый предмет, продается в соседнем же магазине на тридцать центов дешевле.
Но в поведении его жены не было стандарта. Правда и то, что она не совершала ничего из ряда вон, это так, – однако риск некой непредсказуемости, как это постфактум осознал Андерс, витал вокруг нее непрестанно.
3Для Андерса трафаретные формы поведения, присущие его соотечественникам, перестали казаться сами собой разумевшимися (то есть не замечаемыми) – вскоре после его угона в Германию. До войны, дважды совершая летние туристические поездки в составе студенческих групп, он не заезжал дальше Польши. Именно там, в Германии, он впервые встретил людей, живших до своего пленения где-то намного восточней Польши, – людей, о которых он никогда прежде не думал, хотя довоенные газеты время от времени и печатали о них какие-то странные материалы. В трудовом лагере Третьего Рейха он начал улавливать иной интонационный фон и ритм речи, совсем не похожий на таковой в немецком языке, который он знал превосходно, или в английском, который он знал хорошо и очень любил, или в понятном ему французском. Он, конечно, не знал тогда, что этот фон мимики и жестов войдет в его жизнь своевольно и навсегда – и не только лишь с памятью.
4…Вернувшись в одиннадцать часов вечера с пасхального обеда, который закончился ровно в девять, уложив детей и слегка посмотрев телевизор, супруги легли в постель. Жена сразу уснула, что было ясно по ее дыханию – еле слышному, ничем не обремененному, ритмичному – такому, какое бывает только у молодых беззаботных зверей. Привычно установив этот факт, Андерс с какой-то даже веселой злостью отдался на произвол своей фирменной, не ведающей пощады бессоннице.
«Вот одинаковое же едим, жена, одинаковое пьем, одинаковым воздухом дышим, – думал он про себя, пока его пальцы с растерянной робостью поглаживали в темноте ее голову. – Откуда у тебя там такое?»
Он принялся было играть в восстановление материи из небытия, но почему-то, вместо одежек, с пугающей отчетливостью увидел тот, трехгодичной давности, эпизод в утрехтском поезде – да-да, именно так: она сняла плащ…
Она сняла плащ, так как в поезде было жарко. Но, сняв плащ, она не знала, куда девать полуобнаженные руки: это платье было без карманов. Тогда она, удовлетворяя свое желание уединиться, прикрыла глаза. Поезд слегка убаюкал ее. Дети постепенно угомонились.
Когда поезд остановился, где-то посреди черного поля, Андерс увидел, что мальчики крепко спят.
Он посмотрел жене прямо в лицо.
Она спала.
Он взялся открыто разглядывать ее черты, знакомые до бесчувствия…
Поезд тронулся, голова жены качнулась и…
И… оскалила зубы?
5Когда-то у его матери была кошка, предшественница существующей: она умерла, когда Андерсу было уже шестнадцать. Та кошка была рыжая, почти сплошь рыжая, с белым нагрудничком, в белых носочках. Ее звали Lenore (в честь знаменитой Lenore Ulric, бродвейской звезды, на которую мать, соблазненная газетной накипью, тщетно пыталась походить во дни своей юности). Надо ли говорить, что этой Lenore позволялось абсолютно все: она даже обедала вместе со всеми, прямо на столе. На обеденном столе, который числился материнским приданым! Еще бы: ведь Lenore была членом семьи. Отец так и писал матери из своих деловых поездок: поцелуй (далее следовал хронологический порядок по нисходящей) Барбару, Пима, Андерса, Кристу и Lenore. А иногда даже так: Lenore, Барбару, Пима, Андерса и Кристу.
В представлении Андерса, который начал что-то соображать, когда Lenore была уже взрослой кошкой, она являлась, конечно, неотъемлемой частью дома (как крыша) и мира (как мама) – и была она, разумеется, человеком. (Только самой лучшей породы.)
Так длилось до определенного момента, пока Андерсу не минуло, кажется, шесть. В тот день он как раз помогал матери купать Lenore в зеленом тазу с выщербленной эмалью, потом они вытерли ее белым пушистым полотенцем с желтыми цыплятами, причесали и положили греться (и облизываться) на красный бархатный пуфик возле печки.
Было навечерие (канун) Святого Николаса, и в гостиной, готовой для завтрашнего детского праздника, уже затопили печь. Через некоторое время Андерсу захотелось проверить, высохла ли Lenore. Он открыл дверь. Довольно большая, почти пустая комната откликнулась волнующим сердце эхом. Lenore на пуфике не оказалось. Он стал звать ее, не заглядывая пока под диван, но слышал только собственный голос. Тогда он заглянул под диван, но не обнаружил ее и там.
С подоконника, держа в глиняных ручках игрушечный, туго набитый мешочек, на Андерса, улыбаясь, в упор смотрел Черный Пит. На смоляном, круглом, как сковородка, лице его рот казался особенно красным; белые, довольно-таки вытаращенные, пуговичные глаза, не сходя с лица Андерса, жили отдельно от улыбчивых губ. Андерс почему-то не выдержал его странной улыбки, и, отведя глаза вбок, увидел рыжий хвост Lenore: он выглядывал из-под занавески – в том углу, что служил гардеробом. Голубой, в белых оленях, плотный материал, наверху пышно сосборенный, свисал до самого пола с полукруглого металлического крепления под потолком, образуя темный, пахнущий странной одеждой гостей, закуток. Слева его еще защищала толстая и довольно высокая (для сидящего на полу Андерса) боковая стенка дивана: это была крепостная стена. Справа это пространство отгораживал деревянный бок мощного сундука, за которым, весь в бело-голубых изразцах, сиял (в тот вечер особенно жаркий) бок печки. Конечно, Андерс считал это укромное место (самое уютное в доме) своим Королевством.
Он отдернул занавеску: Lenore, передними лапками, стояла на ящичке для обуви. Изо рта у нее свисала веревочка, шнурок от ботинок. «Ну что, высохла уже, mijn poessje?»[26]26
Моя кошечка (нидерландск.).
[Закрыть] – Андерс протянул к ней руку, но тут веревочка как-то сама по себе дернулась… Lenore нежно разжала зубы: об пол влажно шмякнулась мышь; из ее оскаленного старческого, детского ротика полилась кровь. Дергаясь всем своим тельцем, мышь смотрела прямо на Андерса. Lenore игриво наклонила голову и, вытянутой лапкой в белоснежном носочке, ловко поддела мышь, но та не побежала, а только, перевернутая на другой бок, сильнее задергала хвостиком. Lenore пару разочков ударила в пол вытянутой лапкой, наклонила к мыши голову, еще раз обнюхала eе и принялась есть.
Андерс, конечно, слышал, что кошки едят мышей. Он видел даже картинки в книжках. Но то – кошки. Разве можно представить, чтобы мышь съела, например, мама?! Lenore не была кошкой и, кстати сказать, для Андерса ею так никогда и не стала. Но, нечаянно выдав свою природу нечеловека, так и не став кошкой, она превратилась в некое существо, которому Андерс не знал названия.
Переборов истерику, он не мог перебороть рвоты за столом, на котором это существо сидело как ни в чем не бывало, жадно лакая молоко из материнского блюдца. Но родителям Андерс так ничего и не сказал. Он по опыту знал, что отец будет кричать: «Что из тебя получится, Андерс!» – и хорошо еще, если дело ограничится криком.
Через несколько дней врач, не нашедший у Андерса никакой определенной болезни, посоветовал родителям отсадить сына от общего стола. Он решил, что у Андерса развивается вариант невроза (то, что в дальнейшем будет называться детской и подростковой анорексией), – невроз, вызванный, в данном случае, отвращением к быстрому взрослению сестры и брата – и нежеланием следовать им. Андерс постарался и в дальнейшем, вплоть до своего отбытия из дома родителей, сохранить за собой привилегию отдельного столика, а его перемену к Lenore никто не заметил.
…Так вот: тогда, в утрехтском поезде, взглянув, как впервые, на ровные, словно жемчужинки, зубы жены, Андерс с ужасом понял, что, скорее всего, он имеет дело совсем не с женой… не со своей женой… но с кем же тогда?
6Пастор, долгие годы служивший во влаардингенской Grote Kerk, отец Лоренс ван Бретт, худой, остроносый, противоестественно румяный, с неподвижной улыбкой в нижней части лицевого черепа, походил на тщательно вымытый, причесанный, хорошо загримированный труп. Убранный сегодня с особым блеском, он казался уже полностью приуготовленным к обряду погребения, так что оставалось загадкой, почему, зачем (и, главное, каким именно образом) его мертвое тело сохраняет вертикальное положение.
Андерс поймал себя словно бы не на своих мыслях. Он постарался сосредоточиться на белом одеянии отца Лоренса, служившего литургию. Этот белый цвет должен был, по идее, вывести мысли Андерса на путь чистоты и благочестия. Отчасти Андерс на этот путь и вернулся – ему (под нажимом больной совести) стало даже немного казаться, что – похожий в этой препоясанной альбе на Райского Акушера – там, за белыми с золотом рассветными облаками, – там, в сверкающей горным хрусталем Вечности, – отец Лоренс оказывает радостное родовспоможение вновь прибывающим.
Но… Глядя в лица прихожан, Андерс поймал себя снова словно бы на чужой мысли, а именно: они, эти реальные люди, занимали его сегодня почему-то гораздо больше, чем невидимый Господь. Было в их лицах нечто такое, что вызвало к жизни одно детское воспоминание…
7Однажды его, семилетнего, отец повез в роттердамский зоопарк. Это было первое для Андерса посещение зверинца – места, еще издали пронзавшего ноздри и мозг диким, призывным воздухом настоящих тропиков – то есть ароматом жаренного в джунглях мяса (brasserie[27]27
Закусочная (фр.).
[Закрыть] находилась сразу у входа) – и восхитительно-грубым, необузданным в своем мощном размахе смрадом навоза.
О, эти сказочные – экваториальные и транс-экваториальные звери! Там были – дышавшие, как печи, бизоны в устрашающе-огромных шубах, там были разлинованные тушью матросо-матрасные зебры, лихо встряхивавшие смоляными гривами с бело-розовыми, вплетенными в них, цветами (что придавало им, африканкам, нечто японское); там были две двигавшиеся серокаменные горы: пара медленно сходившихся и расходившихся, неправдоподобно равнодушных слонов…
Зоопарк, что отметил отец, оказался устроен как малая модель планеты: звери и птицы были расселены там в том же соответствии, в каком их непорабощенные собратья обитают в своих естественных регионах… Андерс был поражен всем сразу – и каждой божьей тварью в отдельности… Он даже стал позевывать от счастливой, не по плечу ребенку, усталости, когда увидел, как объяснил отец, гориллу, сидевшую за толстой прозрачной перегородкой.
Волшебно неподвижная, горилла сначала была обращена к зрителям огромной своей спиной – черной, косматой, угрюмой… Но вот она резко повернулась на чей-то визг: ее физиономия, черная и складчатая, как старый футбольный мяч, выражала брезгливую усталость и запредельное отвращение. Глядя на это существо (которому дети и взрослые, барабаня в перегородку, строили рожи), Андерс внезапно разрыдался – так громко и безнадежно, что смущенному отцу пришлось быстро увезти его домой.
Тогда Андерс, конечно, не мог еще объяснить, даже себе, причины своих слез. Сейчас, почти через тридцать лет, он, как никогда ясно, вспомнил тот день…Ему тогда показалось (если расщепить глухую тоску ребенка бесстыдно-опытным языком взрослых), ему показалось, что толщина прозрачной – почти призрачной – перегородки, достаточная для необходимой прочности (а на самом деле всего в два мужских пальца), – это воплощение некоего… («межродового», – как подсказал себе взрослый Андерс) барьера. То есть, еще до появления этого несчастного существа на свет (да уж! «на свет»! что за желчная фигура речи!), – еще тогда, в дозародышевом безначалии, данный барьер бесповоротно отделил его жребий – от жребия тех, кто может на него теперь невозбранно глазеть из принципиально иного пространства, из другого измерения… Всего два пальца… три сантиметра…. и это существо могло бы стоять вместе со всеми, с этой стороны перегородки… и жить жизнью непойманного человека…
Но есть барьер. И вот перед нами как бы недочеловек… заарканенный недочеловек со всеми вытекающими…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































