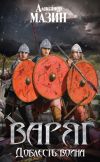Читать книгу "Завтрашний царь. Том 1"

Автор книги: Мария Семёнова
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мария Семёнова
Завтрашний царь. Том 1
© М. В. Семёнова, 2024
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
Начин
Последний полёт
Здесь не было даже плохонького зеленца. Деревянному городку досталась лишь оттепельная поляна у края болот. Если смотреть из-под облаков, крепостца была тёмным пятнышком на краю бедовника, у подножия бесконечных дымов. Западный ветер приглаживал летящие кудлы пара, не давал сразу взмыть вверх. Па́облако пучилось, рвалось, закручивалось исполинской волной – и в отдалении всё равно достигало туч, колыхаясь одной сплошной занавесью от небес до земли. Край света, предел, отведённый смертному человеку!
Люди помнили: на самом деле мир здесь не кончался. По ту сторону болот до сих пор стояли леса. Ещё дальше высилось кольцо острых гор, именуемое Венцом. Во времена, когда строилась крепостца, горы ещё бывало видно в вёдреную погоду. Однако те дни давно стали баснословными, сблизившись в понимании молодых со днями Йелегеновых войн. А Дымная Стена – вот она. Близкая, вещественная. Не рукой тронуть, так стрелой дострелить.
Если спуститься, встать перед воротами – крепостца даже обретала величие. Не утопленная в снежную глубь, как иные северные зеленцы. С крепкими бревенчатыми пряслами, с высоким кровом, уберегающим двор. Углом против тока обычных ветров, ухиченная льдом и снегом, чтобы сохранялось тепло. С воротами за выступом стены, чтобы не закидывало в буран…
И даже сизые хвосты из дровяных печей, грязноватые и ничтожные против туманной Стены, вблизи глядели столпами незыблемого уюта.
…Створки ворот дрогнули, завизжали промороженным деревом, отделились одна от другой. Роняя иней, начали раскрываться.
Первыми, живо вздевая на ноги лапки, выскочили скороходы. Иные, белобородые, помнили, как некогда поспешали стогнами Фойрега: дорогу красному боярину Кайдену! Теперь кричать «поди-примись» было без толку. Подлый народишко весь остался в дому, а позёмка, влекущая в горнило Стены бесконечное дымное покрывало, не оробеет, на стороны не раздастся.
Ворота разъехались чуть шире, выпустили ещё лыжников. Эти были суровые мужи, поджарые, седоусые. В одинаковых кафтанах, нелепых поверх толстых кожухов. По алому сукну на каждой груди золотым шнуром – о́знак: лось, припавший на колено, стрелы веером.
Всё вместе гляделось охотничьим выездом андархского волостеля. Только заблудившимся во времени на пятнадцать годков. У иных лыжников были на руках сокольничьи рукавицы. Бархатные, с шитьём и кистями. Все – пустые. Нескончаемая зима угомонила боярскую кречатню, прежде шумную, изобильную. Не стало ни ловчих птиц, ни подсокольных собак. Лишь кафтаны да порожние рукавицы как знамёна проигранных битв.
Наконец с громкой жалобой отвыкших вере́й ворота разошлись настежь. Внешние, за ними внутренние, открывая зеленоватые огоньки в потёмках под кровом двора. Такое в последние времена бывало нечасто. Дрова добывались всё тяжелей, люди отчаянно сберегали тепло. Вот только ныне бережливость помалкивала.
Двое молодчиков, юноша и подросток, вывели осёдланного оботура со всадником. Владыка Уркараха сидел прямой, гордый. Глаза, подёрнутые как будто ледком с кровавыми жилками, смотрели за небоскат. У правого бедра узорный кожаный тул, у левого – снаряжённый лук в налучи. Сильная рука легко несла сокола. Последнего на кречатне.
Это была царская птица. Белого, бесскверного, чуть крапчатого пера. Не самец-челиг какой, лёгкий, маленький, для женской руки. Боярское запястье попирала истая соколица. Которую, уважая величие и мощь, охотники собственно соколом и зовут.
На клобучке птицы лежал венец маленьких самоцветов, зелёных, голубых. В прежней Андархайне с белыми кречетами охотились лишь праведные. Остальным было заповедано. Даже красным боярам вроде Гволкхмэ́я Кайде́на. Некогда могучий, непобедимый пернатый ловец, как и люди, оставил славные времена прошлому. Сколько лет его, сбивавшего головы лебедям, напускали на жалких уток, пытавшихся удрать в знакомый хлевок? Последние несколько дней сокольники трепетали. Хозяйский любимец вовсе померк, не радовался свежему мясу, полётам на должике. Взъерошились потускневшие перья, одна ёмь превратилась в сомкнутый кулачок… Гордый сокол, краса и роскошь царских охот, изготовился воспарить на ту сторону неба.
Птице, привыкшей дремать в тихом полумраке кречатни, не нравился ледяной ветер. Она хрипло вскрикивала, пригибалась на рукавице.
Выпустив боярина, ворота спешно замкнулись. Скутали двор, не потратив лишней крохи тепла.
Странный задался выезд… Ни шума, ни лая, ни весёлого клича. Люди переговаривались шёпотом, боясь потревожить хозяина.
Потоптавшись, шествие потянулось на бедовник.
Пустошь раскинулась сколько достигал глаз, окоём прятала морозная мгла. Раньше здесь были каменные холмы, поросшие лесом. Беда их освежевала, содрав зелёную шкуру. Постепенно в распадках скопился снег… Теперь впереди лежала равнина, гладкая, как новенький холст. Только этот холст всё время двигался, струился навстречу охотникам, с шорохом и тихим посвистом обтекал ноги…
Боярин закрыл сокола полой мехового плаща, птица успокоилась, благодарно притихла.
Отдалившись от крепости на версту, люди остановились. Вот здесь уже воцарилась мёртвая тишина, смолкли все шёпоты. Сокольники тоскливо топтались, один за другим стаскивали ушанки. Старший сын боярина стоял крепко, развернув плечи. Привык уже быть меньшедо́мком, вторым хозяином. Младший, прижитый от чернавки, прятал хлюпающий нос в высоком меховом воротнике.
Гволкхмэй Кайден высвободил сокола из-под полы. Птица приподняла крылья, ища опоры в ветровых струях. Она знала, что будет дальше. Сейчас рука сдёрнет наглазник, возвращая миру краски и свет. Резко бросит в воздух, указуя добычу…
Вместо привычного движения боярин вдруг заговорил.
– Сиживал ты на руке царевича, славного Гайдияра, – тяжело и скрипуче прозвучал его голос. – После мне вверился. Душу над землёй возносил, красной дичи избивая без счёта… Нажился ли на белом свете, красавец мой несказанный?
Сыновья смотрели во все глаза. Младший щурился на ветру, смаргивал слёзы, но взгляда не отводил.
Сокол неловко переступал, ждал на́пуска. В хвостовых перьях звякали бубенцы.
– Желал я, чтя заповедь царскую, тебя праведному вернуть, да людское зло помешало. Ответь, в довольстве ли весёлом у меня гостевал? Знал ли вы́бережку, знал ли холю и волю?
– Кхеек, – хрипло ответил сокол. – Кхеек, кхеек…
– Кивнул, батюшка, – встрепенулся младший.
Охотники переглядывались, творили священные знаки.
– Кивнул, да не на то, – недовольно буркнул первак. – Изволишь ли дале вопрошать, батюшка?
Птица подпрыгивала, кричала. Просила укрытия либо полёта.
Гволкхмэй Кайден медленно произнёс:
– Сокол мой красный да ясный, нажился ли, говорю, на белом свете сполна?
– Кивнул! – подтвердил теперь уже меньшедомок.
– Кивнул, – шмыгнул носом пригульной.
– Кивнул, – эхом отозвались сокольники.
Боярин медленно наклонил голову. Вот теперь всё было решено.
– Лети же, царский ловец, – проговорил он, как прежде, размеренно. – Лети на руку доброму царю Аодху. Поведай сгинувшему государю о непреклонной верности нашей. Как я ему служил, так, милостью святого Огня, мои дети молодому Эрелису служить станут…
Опытным движением сорвал с птичьей головы клобучок. И огромным размахом, каким-то неистовым, бешеным против обычного, устремил сокола в небеса.
Во всю ширь пахнули могучие кречетиные крылья, плеснули выпущенные опутенки. Птица пошла вверх отвесно, прямо дерясь в высоту, не кружа, как иные. Сокольничие тихо молились. Боярин Гволкхмэй бросил в снег бархатную рукавицу. Не спеша достал из налучи лук. Тщательно устроил на тетиве стрелу, вынутую из колчана. Не охотничью томарку, какой бьют пернатую дичь, – почётную боевую. С красным оперением, с гранёным железком, способным раздвинуть звенья кольчуги, найти щёлочку в дощатой броне.
Ушко стрелы мерцало, как живой уголёк, наконечник был вызолочен.
Старший боярич вскинул пятерню, снова прекратив все голоса.
Хозяин крепости, запрокинув голову, смотрел вверх. Ветер сдувал слёзы с тусклых глаз, низал бисером на седых волосах.
Звон бубенчика всё слабей доносился сверху, но слух Гволкхмэя Кайдена был отточен годами лазоревой слепоты. Левая рука неспешно воздела лук. Правая в двупалой перчатке натянула тетиву… и спустила её, как только кречет, ища добычи, ненадолго замер под облаками.
Тетива прогудела погребальной струной. Все глаза метнулись за красными перьями, но куда! Лук боярина обладал недюжинной мощью. Стрела ушла и пропала, как вовсе не бывало её.
На громадном бедовнике стало тихо и бесприютно. Лишь текли, шуршали, чуть слышно беседовали нескончаемые белые струи.
Потом вверху явилась тёмная точка.
Она близилась, росла, кувыркалась, ветер перебирал обмякшие крылья, силился опустить наземь бережно, воздать последнюю почесть. Не получилось. Гулкий удар отдался по крепкому насту. Старейший из сокольников дрогнул, прикрыл глаза рукавицей. Мрачно заревел оботур.
Боярин никогда не промахивался.
Сыновья нога в ногу рванулись к павшему кречету. Закутали птицу в богато расшитое полотенце. На белой груди почти не было крови. Гволкхмэй Кайден молча принял свёрток, покинутый биением жизни. Спрятал под плащом, придерживая рукой.
Меньшедомок извлёк плоскую сулею, наполнил серебряную чару. Подал отцу. Боярин омочил палец, стряхнул первую каплю вверх, вторую на снег, третью через плечо. Сделал щедрый глоток. Вернул чарку сыну. Тот испил, передал брату…
Охота надевала шапки, оттирала носы и уши, заворачивала домой. Старший с младшим вновь повели оботура.
Боевая стрела, окончившая соколиный лёт, была драгоценной старой работы. Отроки погодя искали её, не нашли и не удивились тому. Должно быть, она так и мчалась сквозь тучи, ведя гордую кречатью душу на ту сторону неба.
Доля первая
Студный день
Под толстым серым куполом шегардайского зеленца утро с вечером не всегда различимы. Поди разбери, откуда сочится чуть розовеющий свет. С Воркуна восстаёт? Клонится к Последним воротам?..
Верешко, зевая, привычно затворил калитку, свернул за угол… Тут же пришлось плотней стягивать у горла ворот заплатника. По улице Третьих Кнутов всегда несло стылым ветром, но сегодня холод не просто лез под одежду – пронизывал ледяными ножами. Верешко даже застонал про себя. Вот на что было подряжаться ночевщиком именно в «Барана», когда три из четырёх городских кружал находились куда ближе к дому? «Пыж» – примерно на полдороге. «Ружа» – всего-то Лобок-остров перебежать…
Сейчас уже отдыхал бы в тепле, под журчание пустых разговоров черёдниц. Не бежал бы в рань-перерань безлюдными стогнами, оскальзываясь на заледенелых торцах.
Ох! Даже Малюта, нерадивый отец Верешка, вечерами напивался не у себя в куту, а на другом конце города, в «Зелёном пыже».
Дыхание рвалось густым паром.
Срезая путь, у Кошачьего моста Верешко свернул на тропинку, спускавшуюся к самой воде. По венцу берега часто выпадал иней, но внизу, где дышала вода, под ногами всегда хлюпало… сегодня жухлые стебельки щетинились белым, поршеньки оставляли чёрные следы.
Кошачий мост едва не прозвали Злым. За то, что упрямо проседал при постройке. Наконец строители якобы принесли в жертву кошку, драгоценную в городе, одержимом крысами и мышами… и тогда под первыми гружёными телегами ряжи лишь скрипнули. Знатоки шегардайских старин дорожили этой басней, но Верешку была по сердцу другая. О молодом мостнике, что нырнул за котёнком, барахтавшимся в холодной воде.
С берега, поросшего чахлым кустарником, был хорошо виден испод моста. Там вечно устраивали ночлег городские непутки, и что за кошачьи драки приходилось раскидывать страже!.. Сейчас у береговых устоев было тихо и пусто. Ни дрянных кущей, ни вяло бранящихся, по-утреннему неприбранных женщин. Черёдники строгости набрались? Радибор в съезжую приплатил, чтоб согнали шумных жиличек?
Всего один рогожный полог перекрывал жилую пещерку. Вот внутри завозились, показалась рука…
Справа, где берег венчал добротный купеческий тын, послышался глухой рык. Верешко вскинул голову. Дворовый кобель, знавший его шаги, давно уже не гневался на раннего пешехода, так с чего бы?..
У забора стояла незнакомая уличная сука. Вздыбленная серая грива, взгляд лютый: не подходи!
Во дворе шаркнули тупые когти, звякнула по камням цепь. Кобель что-то пробурчал, но не грозно – умильно. Сука фыркнула, облизнулась, отвела взгляд. Верешко всё же не посмел её миновать. Осторожно попятился, взбежал на мост, пустился длинной дорогой.
…Ночью блудящую женщину посетил знакомый горько-сладостный сон. Она сидела у тёплого печного бока, держала на коленях сыночка. Рядом вершилась тихая домашняя жизнь, появлялись родители, дочь, слуги… Она смотрела на круглое личико в пеленах, не могла насмотреться. Она не помнила родов, память зияла дырой, но какое это имело значение? Всё было так хорошо…
Печной бок вдруг перестал греть, осыпался сырым каменным крошевом. Женщина вздрогнула, проснулась.
– Мама, не спи, – теребила дочь. – Уже Верешко пробежал, сейчас черёдники пойдут, гнать станут… Вставай, нынче день добрый…
Сон разлетался дымными клочьями. Не соберутся, не овеют зыбким теплом. Руки у доченьки были совсем детские, прозрачные, в цыпках. Зато растрепавшаяся коса – густая, длинная, залог будущей красы…
…Краса, горе девичье! Непутка вскинулась, обняла девочку с таким яростным отчаянием, словно ту отнимали прямо сейчас.
Вчера ей предложили продать дочь.
«Я бы подучил обхождению, а там и дом хороший найдётся. – Хобот вытер руки о кружальный столешник. – Я таких, как твоя, уже немало пристроил. Раньше бабы к Опалёнихе бегали, теперь все деток хотят. Заплачу щедро, не пожалеешь…»
«Ты о чём?» – похолодела непутка.
«О том, дура, что красе девьей холя нужна. Спасибо лучше скажи. Заберу с хлеба долой, хлеб тебе, знаю, трудом нелёгким даётся…»
Кружало содрогнулось от хохота. Все знали, каков был тот труд, чего ради она прихорашивалась в сенях, наталкивала тряпьё под рубаху на груди и на бёдрах.
«Да ты…»
«Сам видел: молодой Радиборович вслед облизывался. Не углядишь, сжуёт да и выплюнет, поди правду сыщи…»
Женщина не помнила, как выскочила из «Ружи», потом вешала рогожку под Кошачьим мостом. В ушах гудели пьяные голоса:
«Нешто ждёт, что зассы́ха её в боярыни выйдет?»
«От доброго кореня, ха-ха, добрая отрасль!»
«Куда мать, туда и дитя…»
…Непутка посидела немного, потом медленно поднялась. Старая, разбитая в неполные тридцать. Спустилась к берегу. Расширив подол, исправила утреннюю нужду.
Прищурилась, заметила на ерике прозрачный ледок.
Нутро отзывалось глухой болью, мир был чёрным и серым. Даст ли новый день еду и тепло?
За добро, явленное без меры, следует неустанно благодарить. А то приноровишься к дармовому благу, ввадишься числить его каждодневным и вечным – тут же лишишься всего.
Чуть не всякий торговый день с Привоз-острова долетал шепоток, расползался сизым угаром, вещая о страшном. О том, что в дикоземьях Левобережья погасла ещё одна искорка. Уступил, сдался стуже очередной зеленец.
– Слышь, желанный, а люди? Люди-то?
И камень падал с души, когда в ответ слышалось:
– А что им? К соседям перебежали, захребетниками живут. Своим кипунам ленились молитвами порадеть, чужие хвалят теперь!
Порой добавлялись известия о стариках, отказавшихся обременять молодых:
– Благословили детей уводить. С тем остались…
Тут задумаешься, не купить ли тележку. Чтоб в случае чего и отца свезла, и что-нибудь из домашнего скарба.
«Какую тележку! – обрывал себя Верешко, редко выходивший за стену. – Готовить, так саночки…»
…Только не выручат саночки. Вот как всё будет:
– А нашли их, желанные, на полдороге. Мужья жён обнявши, дети малые к подолам приткнувшись…
Улица Третьих Кнутов скоро вывела Верешка на изволок. Отсюда уже был виден Торжный остров в опрокинутом венце туманных столпов.
Стоило бросить взгляд, и сделалось холодней прежнего.
Слишком густой пар от дыхания Верешку не привиделся.
И забереги на протоке не показались.
Там, где срединный и самый мощный городской зеленец граничил с соседними, слабело тепло, и вниз ручьями протекал холод. Обычно он рассеивался, не достигая земли. Курился обтрёпанными рукавами. Моросил дождиком. Уличные певцы называли эти хоботы обломанными зубами мороза. Тщатся, мол, прокусить, ан не могут!..
…Ох, сглазили песнотворцы! Сегодня осадные башни зимы упирались в твердь плотно и основательно. Домов не видно было во мгле, по улицам расползались белые клубы.
Клыки зимы, всегда грозившие городу, достигли и впились. Сжимались, поигрывая…
В прошлую зиму такое видели всего один раз. В эту, получается, уже четвёртый.
Один из белых клыков накрыл кончанскую вечевую площадь прямо на пути Верешка. Сын валяльщика стал озираться, прикидывая обход. Потом заметил людей, которых не напугал холод.
Жрецы вынесли из храмов знамёна, хранимые для праздничных шествий, и совершали молитвенный ход. Заклинали стужу Высшими Именами. Не позволяли наводнить улицы, захватить город.
Бились там, где бессильно никли мечи и стрелы мирян.
Верешко даже приостановился. С изволока было далеко видно и слышно. Из храма Огня несли светочи, и не подлежало сомнению, что первым шагал Твердила, старейшина кузнецов. В молельне Морского Хозяина гудели ревуны; храм стоял на сваях, гул шёл словно со дна. Из обители Внуков Неба долетало пение земляных дудок, звавших на помощь тёплые ветры.
А на вечевой площади Лобка заслоном встали мораничи. Шествие возглавлял молоденький посвящённый, совсем недавно подававший облачения старшим жрецам. В своей мирской семье он был вторым сыном, отчего, сложив прежнее рекло, до сих пор звался Другоней.
В час боренья, когда безнадёжны труды
И враждебная сила нам застит пути,
Материнским платком огради от беды,
Правосудная, чада свои защити…
Голосок у юнца был сиплый и слабый, вчерашний служка то и дело останавливался прокашляться, перевести дух, но глаза поверх тканой повязки светились счастьем служения. Люди за ним шли бодро и радостно: накажи многогрешных, Мать… но не оставь! Да сбудется по воле твоей, по вечному завету между Матерью и детьми!
Жители Лобка покидали дворы, тянулись за благословением. Верешко тоже побежал навстречу молящимся. Вот сейчас богоречивый заглянет ему в глаза, возьмёт руку в ладони… скажет несколько слов… самых истинных и спасительных…
Может, удастся сберечь благодать, отца наделить?..
Не успел. Из переулка на Третьи Кнуты шагнул Люторад.
Под его взглядом Другоня осёкся. Умолк… вовсе остановился. Верные, тянувшиеся за юным жрецом, неволей скучились кругом обоих.
– Тебе кто дозволил? – сквозь зубы, с грозным нажимом прошипел Люторад.
– Богозарный брат… – только и выдавил Другоня, часто моргая. Сразу стало заметно, какой он на самом деле молоденький. Немощный телом. Незрелый в служении. Оба опоясанные жрецы, но какое может быть равенство между вчерашним служкой и сыном святого?
– А что, Божьему человеку за дозволением бегать, прежде чем с людьми Матушке порадеть?
Говорил санник Вязила. Он всегда был важен и горд, а ныне особенно. В его ремесленных вершился спорый труд, полный страха и радости: лучшие делатели источили сани, чтобы царевичу Эрелису ехать на них в отеческий город. Такими, как Вязила, держатся храмовые общины, его на жертвенный пир поди не пусти.
Уличане зароптали, поддерживая Вязилу. Людям не нравится, когда песенный лад рушат за то, что головщик нелюбим.
Люторад, чуть заметно скрививший губы от наглого «брат», не пал до пререканий с мирянами.
– Лучше подумай, как правиться будешь, ночь по улицам бегавши, честной люд соблазнявши…
Другоня вдруг обрёл почву под ногами:
– Ты же и послал, богозарный.
– Я?
– Так в съезжую. Там, в блошнице…
Верешко навострил уши, одержимый дурным любопытством, замешенным на страхе и отвращении. В каморах расправы гостевали захожни и горожане, грешные городской Правде. В торговые дни над площадью исправно посвистывал кнут. Ждали поимки злодея, годного для торжественной казни, но пока достойных не попадалось. Это многих тревожило. Приезд царевича ощутимо близился… а чем встречать?
«Неужели?.. Кого, за что?..»
Увы, блошница и нынче пополнилась лишь буйными мочемордами. Таких казнить – курам на смех! Отрезвить в холодке да вытолкать взашей…
– Это их ты всю ночь на правый путь наставлял?
С каждым осуждающим словом Другоня как будто становился всё меньше.
– Нет, богозарный. Уличное дитя…
– Какое ещё уличное дитя?
– …Поцелуя Владычицы сподоблялось… Прошу, святой брат, возглавь радение верных…
И юнец склонился – низко, повинно, смиренно. Наконец-то додумался передать честь тому, кто достойней.
Люторад повернулся – только ризы плеснули шитым подолом. Люди потянулись вслед, кто ворча, кто обрадованно.
Каждое сердце пусть верой озарится,
Путь обретая сквозь гиблые снега!
Страха не знают повинные Царице,
В прах повергают жестокого врага…
Голос у Люторада был выученный, но выученный хорошо – сильный, победный. Верешко последовал бы за ним, но… молиться молись, а дела держись. Промедлишь – тележку со снедным для водоносов покатит кто-то другой. Сын валяльщика отступил, пропуская шествие. Злое, непрощаемое дело – дорогу перебивать!
В охвостье молитвенной рати плелась всякая рвань, мизинный народишко. Кто в надежде на дармовую кормёжку, кто кошелёк срезать.
Трусцой пробежала тётка Комыниха с надолбой-дочкой: может, святое дело у той хоть каплю разума пробудит?.. Девка безмозгло озиралась, пускала слюни, размахивала толстыми руками.
Промелькнул вор Карман, люди сторонились его, придерживали на поясах кошели. Разживётся ли ныне чем-нибудь – поди знай, а вот на кобыле в торговый день точно поездит…
Другоню, стоявшего у забора, обступили кувыки. Горбун Бугорок, хромой Клыпа, слепой великан Некша с коротышкой-поводырём.
– Напоёшь, святой жрец, ещё раз голосницу пригожую?..
Забор скрипнул калиткой. Сопровождаемый полудюжиной ратников домашнего войска, явил себя купец Радибор. Заметив кувык с их вагудами, нахмурился. Ещё чуть, и велел бы в толчки гнать бродячих гудил, но заметил жреца, отвернулся.
На глаза попал Верешко. Радибор тотчас уставил палец, словно это он был виной стуже:
– Охти, безлепие наше… Сын жилы рвёт, отец по кружалам. Эй, паренёк! Не надумал Малюта дом заложить?
Хоть с разбегу да в Воркун головой.
А Радибор ещё добил:
– Не журись, Верешко. По заулкам тоже люди живут, не только по улицам.
Верешко хорошо знал те заулки. Соблазнится Малюта – и будет их вечерами ждать развалюха в топком конце Лапотной либо Ржавой. Один раз удай, и не остановишь. Дом сменится углом или собачником где-нибудь в людях. А там вовсе Дикий Кут… с дикими камышничками вповалку…
А в нынешнем доме, помнящем маму, Радибор новую лавку откроет.
Малюту в толчки погонит, когда тот пьяный по былой памяти завернёт…
Верешко шмыгнул мимо кувык, безо всякой гордости припустился бегом.
«Кыште, отрыщте, мысли истошные!»
В «Баране и бочке», где властвовала добрая Озарка, наплывали снедные запахи, кружило голову благословенное сухое тепло. Не чета греву от железного жбана, доставленного водоносами. Во дворе, как всегда, вертелись уличные мальчишки. Озарка подзывала то одного, то другого, вручала корзинки:
– Это грамотнику Вараксе. Это – Пёсьему Деду. Это – ворожее, что в конце Малой живёт!
Дерево в Шегардае было привозное, стоило недёшево. Каждодневный дым из трубы считался знаком достатка. Простолюдье несло горшки в Озаркину печь, посильно доплачивая за дрова. Сколько мог судить Верешко, с этой платы Озарка подкармливала бродяжек, разносивших приспешное. И не только.
Внизу длинного стола, на скамье, ютилась бледная женщина. На голове простой намёт, из-под намёта – две реденькие косы, знак распутства. Рядом – дочка-отроковица. Девочка бережно хлебала из дымящейся миски, тщетно просила:
– Мама, отведай…
Дверь в поварню стояла настежь распахнутая. Слышались речи баб-кутянок, дорвавшихся до Озаркиных хлопотов.
– Во дела чудовы́е! Блудящих в доброе место пускают! – подвязывая запонец, возмущалась одна. – Завтра хлеб позволят месить! Ушам не верю, Озарушка!
Верешко различил голос знатой сплетницы, баламутившей по всему Шегардаю. Даже вспомнил прозвище: Ягарма. Стало страшно. «Сын в людях, а отик…» Бойся не ножа, бойся языка!
– Я сама думала две косы наружу плести, – спокойно отвечала Озарка. – Доброта людская спасла. И сестрицу не прогоню. А кому не любо – вон Бог, вон порог.
В поварне примолкли, занялись делом. Верешко оглядел кружало. В темноватом уголке сидел ранний гость. Он занял лучшую лавку, но, по запаху, пробавлялся смиренно: ел плотвейную щербу. Верешко присмотрелся. Чистый столешник, вышитый наскатёрник… В печном тепле тулился Коверька, посовестный человек. Радибор таких звал просто ворами, гневался: «В расправу пойду, черёдников натравлю! Кнута на них нет!»
Коверька хлебал щербу неспешно, скромно, опрятно. Поглядывал на входную дверь. Там устроилась пришлая баба, молодая, в заметной тягости, изнурённая непосильной дорогой. Возле ног большой короб, за коробом на полу играет тихий мальчоночка… Пришлая пила горячее, ёрзала, держала руку на чреве.
– Да я ж, Озарушка, разве что говорю? – лебезила перед хозяйкой Ягарма. – Истинная правда твоя, им, бедным сестрицам, и голову приклонить негде, и от обид защитника нету…
Помощь с готовкой для мирских трудников радовала Богов, смотревших на Шегардай, а земная власть облегчала подать, взимаемую на прокорм водоносам. Оттого уличанские бабы охотно пособляли в кружале и, боясь изгнания, придерживали дурной нрав.
– Просевень в кладовке возьми, – ровным голосом велела Озарка. – Опара взошла уже, пора тесто месить.
Ягарма поспешила в кладовку. Верешко опоздал скрыться с глаз, но сплетница его не заметила. Снаружи раздавались шаги. Уж не подружка ли Вяжихвостка идёт, жгучие новости за щеками несёт?
Шаги оказались мужскими. На пороге явил себя незнакомый гость, задержавшийся с торгового дня. Справно одетый, сосредоточенный, шёл словно по рукам бить о мешке золота, только рукавицу дома забыл. Поклонился божнице. Увидел Коверьку, чуть замер, вздохнул, решился, подсел.
Озарка вышла к ним, отряхивая с ладоней муку. По мнению Верешка, красивее не родятся: добрая, полнотелая, с ямочками-умилками, легко рождавшимися на щеках.
– Вели, статёнушка, всё нести, чем богата, – потребовал гость.
Коверька смущённо развёл руками, вроде бы отвергая невмерную щедрость, но промолчал. Купец недовольно скосился на Верешка, на непутку, на де́тницу у двери… Гнать бы всех вон, да из кружала не выставишь. Око на око беседовать ступай под дружеский кров… в глухой переулочек…
– Студный день выдался, – начал он осторожно.
– Студный, – равнодушно отозвался Коверька.
– Люди бают, ты муж опытный, в людских делах сведущий…
– Может, и бают.
Купец собрался с духом:
– Совета бы мне, человече посовестный. Вдруг подскажешь чего.
Принесли угощение: горячую кашу, зелень, жареные пирожки. Гость сам почти не ел, всё пододвигал блюда Коверьке. Тот отказывался, наконец щипнул по кусочку:
– Мне ли брюхо тешить, когда у иных оно к спине липнет… Отдай бедным, добрый Жало, я и порадуюсь. Что у тебя, гость богатый, за беда приключилась?
Прибежала, отдуваясь, баба Вяжихвостка, подружка Ягармы. Влезла в застиранный запонец и с ходу принялась тараторить:
– А ворожея-то впрямь знающая оказалась!
– Да ну! Шептала, поди? Книги тайные раскрывала?
– Поверишь ли, желанная! Выспросила, что он, блудень, любит, чего боится…
– А потом?
– А потом говорит: веди к себе, бабонька, сама в глаза бесстыжие посмотрю!
Верешко заметил, как насторожила уши непутка. Инно чуть ожила, подалась вперёд.
– И не убоялась?! Нравен, на руку скор…
– Скор-то скор… вошла, он бух на колени, словечка даже не вякнул!
– А она?
– А она хвать его за руку и страшным голосом молвит: взгневил ты, пустая людина, Матерь нашу безгневную, Правосудную! Вот тебе тяжкое слово из уст её справедливых! Узри то слово над головой у себя, как тучу, громом разящую! Отныне заповедно тебе свою жёнку бить, к чужим с подарочками ходить! Ослушаешься – тут-то гром и падёт! Да не на тебя, порожний мешок, – на твоего сына! По святой воле Матери бесчаден состаришься…
– Охти, жутко-то! И что сталось?
Верешко, старательно пропускавший чужую беседу мимо ушей, вдруг пристально вслушался.
– А то, что вот уже месяц с ловли домой голубем быстрокрылым летит! Ни по девкам непотребным, ни по гостям! Жёнку нарядами приодел, сыночка с рук не спускает! Сам будто выдохнул что дурное, а уж баба цветёт…
Каждое слово падало золотой капелькой. «Ну скажи, всезнающая Вяжихвостка, дорого ли чудесная ворожея просит за ворожбу? Вдруг да хватит медных чешуек в свёрточке, запрятанном под гнилой половицей?..»
…И преобразится Малюта. Отрезвеет, вспомнит себя. Расчешет бороду, поведёт сына за шерстью, за красками… на невольничий торг – помощника покупать…
– Слыхали, желанные? «Пыжа» грозятся снести. Сказывают, видать его, язвищу, из новых теремов, с чистых гульбищ, в окошечки зоркие. Гоже ли будет нашей Ольбице непотребством глазоньки осквернять?
…А сохранилось ли у отика в душе хоть что вправду святое? Как сын для рыболова-гулёны? Такое, что невозможно сменять на кружку горького пойла?.. Что ему Верешко, если мамины прикрасы все пропил…
– И вот дал он мне, Радибор, кремнёвое купецкое слово, – долетала от печи жалоба торгового гостя. – Мол, выручи, не забуду! Всё как есть в Шегардае верну, да с надбавкою за добро!
– А ты?
– А и выручил, и бирку резать не стал… как же нам, купцам, без верного слова? Не усомнился… а постучал к нему намедни… ты кто таков? что за речи срамные? эй, там, спускай кобеля! А пёс у него на цепи… ещё тех кровей, с Пропадихи… тебе ли не знать!
– Мне? – лукаво удивился Коверька. – Откуда бы?
Гость шутку не принял, махнул рукой с усталым отчаянием:
– И что мне теперь? Старцам вашим челом бить? Знаю я, как своих с чужими рассуживают, если слово против слова упёрлось… Только шепнули мне: если по закону никак, ступай к тем, кто… по совести. Твоего слова жду, батюшка, на тебя наде́ю храню.
– Нет совершенства в законах, но ими Андархайна стоит, – сощурился хитрый Коверька. – Ты, добрый гость, не на Правду ли восстать меня подбиваешь?
Заезжень хотел гневно отречься, не успел. Возле двери ахнула, простонала непраздная. Верешко оглянулся… С подола на берестяные лапотки, на мытый пол проворно текло.
Пока он пытался смекнуть, к чему бы такое, непутка подоспела на помощь:
– Да ты, милая, разрешиться надумала! Родня есть у тебя?
– Нету, – низким голосом пропела брюхатая.
Коверька сразу выбежал из-за стола, обхватил тяжёлое тело, клонящееся со скамьи: