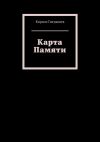Текст книги "Памяти памяти. Романс"

Автор книги: Мария Степанова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава вторая, о началах
В первый раз я уклонилась от написания этого текста тридцать с чем-то лет назад, оставив его на вырост на второй или третьей странице школьной тетради в линеечку. Объем и значимость предполагаемого были так велики, что само собой подразумевалось уютное «не сейчас».
Строго говоря, история этой книги сводится к набору отказов: случаев, когда я по-разному от нее отделывалась: откладывала на потом, на лучшую-себя, как тогда в детстве, или приносила ей маленькие, посильные, заведомо недостаточные жертвы, делая на клочках по ходу поезда или телефонного разговора что-то вроде коротких зарубок (для памяти – из этих двух– или трехсловных концентратов память должна была собрать и возвести складную походную конструкцию, жилую палатку сюжета). Вместо памяти о случившемся, которой у меня нет, работать должна была свежая память о чьем-то рассказе; ей предоставлялось размочить сухую скоропись так, чтобы та развернулась вишневым садом.
В русских мемуарах начала двадцатого века упоминается детская забава: на дно чашки кладут желтоватые пластины, заливают водой, и они начинают сиять навстречу неправдоподобными китайско-японскими красками, цветением заморского и чужого. Я никогда их не видела, где теперь это все? Зато в арсенале семейного, еще-от-бабушки, новогоднего богатства был человек-курилка, чернолицый шкет ростом со спичку, который убедительно курил микроскопические белые сигаретки – и дым шел, и огонек смещался пеплом, пока запас курева не закончился навсегда. Теперь о его способностях приходилось просто рассказывать, и это можно считать хеппи-эндом – рай для исчезающих вещей и обиходных занятий, видимо, в том и состоит, чтобы быть упомянутыми.
Итак, в первый раз я начинала писать эту книгу, когда мне было десять лет, и было это в квартире на Банном переулке, где я набирала первые буквы этой главы. В восьмидесятых у окна был письменный стол со щербатым краем, светила оранжевая настольная лампа, к ее белому пластиковому основанию я приклеила переводную картинку, лучшую из всех. Под темным и снежным небом плюшевая мать-медведица везла на санках елочку и мелкого, косо сидящего медвежонка, где-то сбоку был прилажен мешок с подарками. Картинок на листе, отливавшем пасмурным липким глянцем, было пять или шесть, их отреза́ли по одной, вымачивали в миске с теплой водой. Потом надо было ловким движением снять с листа прозрачную цветную пленку, и быстро-быстро перенести ее на голую поверхность, и расправить, загладить морщины. Помню на дверцах кухонного шкафа мальчика-кота в плаще и карнавальной маске, еще – пингвина и пингвиненка в зелено-розовых зубцах северного сияния. Но медведи были мне милей.
Как будто, если я перечислю поштучно все эти вспоминаемые на ходу лоскуты старой жизни, которые еще двадцать лет, до ремонта, снашивались и чернели на дверцах кухонного шкафа и только теперь ожили и налились цветом, – толстый мальчик в сомбреро и зелено-желтом домино! полумаска без хозяина, а вокруг вензеля елочной канители! – мне полегчает. «Тут-то ему и конец пришел»: на этом я и рассыплюсь на сотни ветхих, сгнивших, потускневших вещей и вещичек. Как будто делом моей жизни было составить им каталог. Как будто за этим я и росла.
Второй раз я начала писать эту книгу, сама о том не зная, в свои кривоватые и дикие шестнадцать лет. Дело было на излете любовной истории, которая казалась мне тогда страшно важной, имеющей всё определить; с годами она так поблекла и заветрилась, что сейчас уже и не восстановить то чувство начала-всего, с которым я сквозь нее проходила. Но один сюжет я помню очень основательно. Когда стало понятно, что все закончилось – если не в моей голове, то в делах и днях, – я посчитала необходимым запомнить существенное, своего рода избранное: детали, точки сборки, повороты разговоров, отдельные реплики. Мне хотелось их зафиксировать – подготовить к дальнейшему, когда-нибудь, описанию; линейный способ повествования тут никак не годился, очень уж неубедительной была эта самая линия. Я тогда записала все, что казалось важным не забыть; на каждый клок бумаги приходилось слово или словосочетание, которое немедленно выстраивало в памяти здание события: разговор, угол улицы, шутку или обещание. Поскольку все случившееся отчаянно сопротивлялось в моей голове любой попытке себя упорядочить, наладить последовательность – алфавитную ли, хронологическую, – задача будущего была такой: когда-нибудь, очень скоро, я сложу все эти обрывки в шляпу (папину, у моего папы была прекрасная серая шляпа, которую он не носил) и буду вытягивать по одному и по одному записывать, сюжет за сюжетом, точка за точкой, пока не придет пора оставить эту карту страны нежности в покое: памятником себе самой. Со временем эти тридцать-сорок записочек расползлись по ящикам тогдашнего стола, а потом и просто как-то расточились, провалились в дыры переездов, перестановок, внезапных генеральных уборок.
Надо ли говорить, что я не помню ни одного из сорока слов, забыть которые так боялась столько-то лет назад.
* * *
Но сама идея обрывочного, не глядя, припоминания-приподнимания своей или общей истории из тьмы известного и подразумеваемого продолжает волновать до сих пор. Начальная стадия этой спасательной операции стала для меня делом привычным; скоропись на конвертах по ходу телефонного разговора, быстрые в три слова записи в рабочей тетради, невидимые каталожные карточки, которые бессистемно и наспех пополняются и никогда не просматриваются, все это постоянная составляющая моего сегодня. Только людей, с которыми еще можно поговорить про как было, все меньше.
При этом я всегда знала, что когда-нибудь напишу книгу о семье, и было время, когда это казалось делом жизни (суммарных, сведенных воедино жизней – поскольку, так уж вышло, я стала первым и единственным человеком этой семьи, у которого нашелся повод для речи, обращенной вовне: из интимного разговора своих, как из-под теплой шапки, – в общий вокзальный зал коллективного опыта). То, что всем этим людям, живым и мертвым, не пришлось быть увиденными, что жизнь не дала им ни одного шанса остаться, запомниться, побыть на свету, что их обыкновенность сделала их недоступными для простого человеческого интереса, казалось мне несправедливым. Вроде как требовалось говорить о них, за них – и страшно было начать, оказаться вместо любопытного слушателя и адресата – крайней точки рода, куда, как сходящиеся линии проводов, обращена многоочитая и многоярусная семейная история, – тем самым чужим и другим. Рассказчиком то есть, инстанцией отбора и отсева, тем, кто знает, какая часть общего объема нерассказанного должна переместиться в световое пятно, а какой так и предстоит остаться во тьме, внешней или внутренней.
Занятно, как подумаешь, что существенная часть усилий моих бабушек и дедушек была направлена как раз на то, чтобы оставаться невидимыми. Достичь искомой неприметности, затеряться в домашней тьме, продержаться в стороне от большой истории с ее экстракрупными нарративами и погрешностями в миллионы человеческих жизней. Осознанно или неосознанно они делали этот выбор – кто знает; осенью 1914-го, когда моя молодая прабабка кружным путем вернулась в Россию из воюющей Франции, она могла, например, взяться за старое и развернуть революционную агитацию, попасть в учебники истории и, очень возможно, в расстрельные списки. Вместо этого она ушла за поля учебника, куда даже сноска не дотянется – видны только обои с разводами и безобразная желтая масленка, которая пережила и хозяйку, и старый мир, и двадцатый век.
В ранней юности это будило во мне неловкость, которую было сложно перевести в слова и стыдно осознать до конца. Она относилась, как бы это сказать, к сюжетостроению – я вынуждена была признать, что моя родня мало постаралась, чтобы сделать нашу историю интересной для пересказа. Это было особенно очевидно в военные годовщины – войне было всего-то сорок с небольшим, мой теперешний возраст, на школьные праздники приходили чужие деды в цветах и медалях, рассказывали мало (случившееся с ними плохо поддавалось расфасовке на байки и былички), но стояли у черной доски прямо: не свидетелями, так свидетельствами. Мой же дедушка Лёня не воевал, он был инженером и работал в тылу; на дедушку Колю с его офицерской книжкой и орденом Красной Звезды было больше надежды – но он, как объясняли, в войну служил на Дальнем Востоке, и до ответов на вопросы о том, воевал ли, дело так и не доходило.
В какой-то момент стало казаться, что все же не воевал: был под подозрением после того, что с ним случилось, – темной истории, которая, как туча, висела над этой частью семьи и никогда не разрешалась рассказом. Это называлось «когда отец был врагом народа» и приходилось на 38–39-й годы, пору негласной «бериевской» амнистии, когда кого-то неожиданно выпускали, а кого-то, как деда, не успели посадить. Что именно произошло тогда, описывалось туманно и впроброс, и только потом я сопоставила даты и поняла, что на эти же зачерненные дни пришлась бабушкина вторая беременность – мой папа родился 1 августа 1939-го, ровно за месяц до начала мировой войны и оденовского стихотворения:
Waves of anger and fear
Circulate over the bright
And darkened lands of the earth,
Obsessing our private lives;
The unmentionable odour of death
Offends the September night.
Бог весть каким чудом он оказался среди тех, кто выжил и вырос в полной семье, где были все: и мать, и отец, и сестра; я знаю две версии того, как разрешилась эта история, и та, что бытовала в моем детстве, кажется елочной, апокрифической, в свое время мы до нее дойдем. В любом случае рассказ о дедушке-военном не клеился никак – в домашнем нарративе деду отводилась роль щепки в водовороте, все это никак не ложилось в русло хорового отчета о войне и победе.
В общем, у всех родственники были фигурантами истории – а мои квартирантами, что ли. Никто из них не воевал, не был репрессирован (непрозрачные отсылки к аресту и допросам касались и второго деда, но и там, похоже, рассосалось, обошло стороной), не оказался под немцами, не попал ни в одну из больших боен столетия. Особняком стоял рассказ про двадцатилетнего сына прабабушкиной сестры Верочки, погибшего на Ленинградском фронте, – но эта история была не про войну, а про несправедливость, и была обколота таким количеством ледяных иголок, и фотографии мальчика в тупоносых валеночках настолько не могли закончиться похоронкой, что до сих пор у меня, как когда-то у мамы, от которой я перенимала все слова и имена, темнеет в глазах и горле при слове Лёдик.
И, конечно, среди них не было известных людей – если считать армию искусств действующей, то и здесь мои родственники как бы настаивали на штатской неприметности. Среди них были врачи, много врачей и инженеров, были архитекторы (но особого, непарадного рода – проектировавшие не шпили и фасады, а дороги и мосты), были бухгалтеры и библиотекари. Это была очень тихая жизнь, похоже – в стороне от работающих мельниц современности. Почти никто из них не состоял в партии, но и в этом не было ничего демонстративного; просто их жизнь, кажется, проходила глубоко внутри жилы, не выходя на поверхность, где любое движение становится заметным и имеет последствия и масштаб. Теперь, когда уход в последнюю тьму сделал их истории завершенными, о них можно говорить и рассматривать, можно поднести близко к глазам. В конце концов, быть увиденным – своего рода неизбежность, и один лишний раз им вряд ли повредит.
* * *
Время от времени, это всегда был вечер, и обычно выходной – или особого рода выходной, когда болеешь и выздоравливаешь, – мама вдруг звала посмотреть фотографии. С усилием (потому что эта часть шкафа примыкала к дивану и дело требовало сноровки) открывалась дверца, и, уж для полного моего счастья, выдвигался дополнительный ящик с коробочками. В коробочках хранилась милая сердцу мелочь, паспортные и еще какие-то фотографии всех лет, крымские довоенные камешки, чьи-то вековой давности погремушки, дедова готовальня («вырастешь – я тебе отдам»), что-то еще. Альбомы лежали по соседству, и было их много. Некоторые были туго, до полного истончания шкуры, насыщены фотографиями, другие стояли пустые, но их тоже извлекали на свет. Самый солидный был затянут в рыжую кожу и имел серебряного вида сбрую; был черный лаковый – с желтым феодальным замком на го ре и «Lausanne», косо написанным поперек. Был ар-нувошный, с металлическими вензелями и уже сто лет назад устаревшей японской чио-чио; были еще, толще и тоньше, больше и меньше. Страницы были не по-нынешнему тяжелые, с широким серебряным обрезом и прорезями, в которые полагалось вставлять фотографии – и некоторую тоску нагоняло то, что фотографии сегодняшние, на скользкой и глянцевой бумаге, к этим прорезам никак не подходили, были шире или уже и уж точно легковесней. То, тогдашнее, выглядело основательней и долговечней, было рассчитано на другую длительность и странным образом ставило под сомнение любые мои потуги встроиться в соседнюю рамку.
К фотографиям прилагались рассказы. Люди с дремучими бородами и люди в очках с тонкими оправами имели к нам прямое отношение, были прадедами или прапрадедами (некоторые пра– были лишними, я набавляла их в уме для вящей солидности), их знакомыми или друзьями; девочки оказывались бабушками или тетями с похожими до неразличимости именами. Тетя Саня, тетя Соня, тетя Сока чередовались на этих портретах, меняя возрастные этажи, но не выражение лица, сидели и стояли на фоне туманных интерьеров или неправдоподобных пейзажей. Смотреть начинали с начала, от первых бород и воротников, и ближе ко второй половине вечера расплывалось все, кроме ощущения объема. Он был велик; географический разброс – непомерен: Хабаровск и Горький, Саратов и Ленинград, где жили все эти люди или их потускневшие от времени дети, не привязывали семейную историю к месту, а лишний раз ее сдвигали в не-здесь. Счастьем было добраться наконец до маленького альбома, где была моя маленькая мама – насупленная в эвакуационном Ялуторовске, с куклой в подмосковном Нахабине, в матроске и с флажками в детском саду. Это был масштаб, мне доступный и соразмерный; в некотором смысле для него все и затевалось – увидеть эту детскую маму, надутую, напуганную, бегущую со всех ног по какой-то забытой годы назад глиняной дорожке, значило оказаться на территории новой, опережающей близости, где я была старше и могла ее приголубить и пожалеть. Глядя на это дело оборотными глазами возраста, я понимаю сейчас, что укол жалости и равенства, пронзавший меня тогда, был сделан слишком рано – но хорошо, что был: оказаться старшей и жалеющей мне так и не пришлось.
Только много позже я заметила, что все переплеты, рассказы и золотые бока фотографий (потому что у них были полноценные бока, и вензеля и надписи на оборотах, имя фотографа и город, где снято) были со стороны невесты, с маминой стороны. С папиной – кроме двух-трех карточек, стоявших на книжной полке, не было ничего. А на этих карточках молодая бабушка Дора была похожа на мою молодую маму, а суровый дедушка Коля на старого Пастернака, и так, молчаливо присутствуя в домашнем красном углу, они почти не имели отношения к широкому течению семейной истории, к ее причалам, отмелям и устью.
И еще были альбомы с открытками (которые потом оказались перепиской, тем, что осталось от эпистолярия прабабушки Сарры, беглыми вестями из Парижа, Нижнего, Венеции, Монпелье), целая библиотека другой, утонувшей визуальности. Щекастые красавицы и усастые красавцы, русские дети в кафтанчиках и символистские смерть-и-девы, горгульи и нищенки. И, уже безо всякой скорописи на той стороне, города, ровно-коричневые итальянские, французские и немецкие ведуты.
То, что я больше всего любила, была маленькая серия открыток с ночными городами – сумеречные сады, трамвай, светящийся на крутом повороте, пустая карусель, чей-то потерявшийся ребенок стоит у клумбы, держа в руках ненужное серсо, высокие дома и невыносимо рыжие, словно напомаженные, окна, за которыми идет еще та, старинная жизнь. Все это, темно-синее и в огнях, источало чистое вещество тоски – и было недостижимо вдвойне и втройне. И потому, что невозможность путешествовать была составной и внятной частью повседневности: люди нашего мира за границу не ездили (а двое или трое выездных знакомых были вроде как позолочены редкой и дорогой удачей – какая случается нечасто и не с каждым). И потому, что современный Париж из путеводителя, написанного Моруа, никак не был похож на тот, синий и черный, из чего ясно следовало, что то, как его ни назови, кончилось давно и бесповоротно. Открытки, как и визитные карточки, как и бледные конверты с матово-малиновым нутром, прямо-таки просились к немедленному применению – но невозможно было себе представить, что́ с ними здесь и сейчас делать. Альбомы поэтому закрывались и отправлялись на полку, открытки раскладывались по коробкам, вечер кончался, чем кончаются вечера.
Какие-то вещи этого старого мира (а дом был ими набит, стоял на них, как на лапах) все же удавалось приспособить к новой жизни; желтоватые сложные кружева нашили мне на мушкетерский мундир для школьного карнавала, в другой раз сгодилась черная парижская шляпа с неправдоподобной длины и кучерявости страусовым пером. Маленькие лайковые перчатки уже было не натянуть (они съежились от времени, но казалось, что просто не по руке – и я, как золушкина сестра, стыдилась широкой кости). Из цветных и легких гарднеровских чашек пили чай два-три раза в год, когда являлись гости. Все это приходилось на праздники – непарный сапожок обыденной жизни, когда все законы съезжают набок и можно, чего нельзя. В остальные дни альбомы лежали, а время шло.
Здесь надо сказать, и очень отчетливо, что семья была самая обыкновенная, не из богатых, не из заметных, и что груз сохранившегося старого на поверку, когда все начало всплывать, а вещи – восстанавливать понемногу свой первоначальный смысл, оказался, чем и был изначально: музеем интеллигентского быта начала столетия, с измученной тонетовской мебелью, парой дубовых кресел и чернокожим собранием сочинений Л. Н. Толстого в издании Сытина. То, что могло показаться зарытым сокровищем, им и было, но в каком-то другом, специальном смысле. Часы били, барометр показывал бурю, пресс-папье с совой ничего особенного не делало. Главной задачей этих нехитрых и неизощренных вещей было, кажется, оставаться вместе, и у них получилось.
* * *
Как подумаешь, странно, что эта задача – вспомнить всех – была со мною всю жизнь и что я тем не менее до такой степени не готова это сделать, ни тогда, ни сейчас. Никакие повторения пройденного – а каждое погружение в подводные пещеры прошлого подразумевало именно это: перечисление тех же имен и обстоятельств, почти без дополнений и разночтений, – не заставили меня выучить наизусть этот перечень. Что-то заскакивало в память само, на правах трамвайного зайца, как правило, это была байка или курьез – словесный эквивалент бартовского punctum’a. Это были сюжеты из тех, что годятся для пересказа; и действительно, какая мне разница, врачом или присяжным поверенным был очередной родственник с крахмальным воротом. Некоторое чувство повинной неполноты еще больше мешало запоминанию и заставляло меня откладывать на потом подробные расспросы. Было и так ясно, что вот когда-нибудь (когда дорасту до той лучшей-себя) я возьму специальную тетрадь, мы с мамой сядем рядом, и она расскажет мне все с начала, и тут-то будет, наконец, и смысл, и система; и генеалогическое дерево, которое я нарисую, и точное знание каждого брата и племянника, и, наконец, книга. В самой необходимости такого запоминания мне ни разу не пришло в голову усомниться.
Но я не расспросила и не запомнила – и это при некоторой способности к легкому усваиванию ненужного и обезьяньей памяти на все словесное. Так пазл и не сложился: остались скороговорка «Саня-Соня-Сока» и некоторое количество безымянных, без сносок, фотографий, летучие истории без носителей и знакомые лица неизвестных людей.
Чем-то все это похоже на маджонг, который был у меня на даче. Дача (дачка: комнатка, кухонка, терраса, заболоченный клок земли, где держались за землю упрямые яблони) была в подмосковной Салтыковке; туда мои родные десятилетиями свозили все отживающее, и там оно крепко и основательно вело вторую жизнь. В доме, кажется, ничего и никогда не выбрасывали, и постаревшие вещи уплотняли мир и делали его однозначней. Бывшая мебель старела в тяжелой работе: вмещать, собирать, выдерживать наше летнее домохозяйство; бессмысленные чернильные приборы в сарае, столетние ночные рубашки в комоде, и там же, на полке за зеркалом, маджонг в холщовом мешочке. Это была вещь, которая интриговала меня годами, – и с каждым новым летом я надеялась в ней разобраться и поставить ее на службу человеку. Не получалось.
Было известно, что прабабушка привезла маджонг из-за границы (и, поскольку в доме были два невесомых от старости кимоно, большое и маленькое, мое, я не сомневалась, что граница была русско-японская). В мешке лежали темно-коричневые костяшки, каждая с белым брюхом, покрытым непонятными иероглифами, которые не удавалось разобрать – и отправить лодку к лодкам, а растительный завиток к ему подобным. Категорий оказывалось слишком много, родственных элементов – до тревожного мало, приходила мысль о том, что за годы какие-то костяшки могли затеряться, и запутывала меня окончательно. Наличие какой-то системы было здесь очевидным, но такой же внятной была невозможность ни разобраться в ней, ни даже придумать на ее основе свою, попроще. Даже унести костяшку для таскания в кармане было нельзя, чтобы не обездолить целое.
Когда я собралась вспоминать всерьез, стало вдруг ясно, что у меня ничего нет. От тех вечеров при свете старых фотографий не осталось ни дат, ни данных, ни даже простого пунктира родственных связей: кто чей брат и чей племянник. Ушастый мальчик в тужурке с золотыми пуговицами и ушастый взрослый в офицерском сукне – явно один и тот же человек; но кем они мне приходятся? Помню, и то нетвердо, что звали его Григорием, но и это не помогает. Люди, составлявшие тот мир с его валентностями, родственными связями и междугородней порукой тепла, умерли, разъехались, потерялись. История семьи, которую я запомнила в поступательном темпе линейного нарратива, развалилась в моем сознании на квадратики фрагментов, на сноски к отсутствующему тексту, на гипотезы, которые не с кем проверить.
Потому что мало того, что вокруг маминых рассказов вилось некоторое количество недостоверных сюжетов – из тех, которые добавляют перца заурядному переходу поколения в поколение, но присутствуют на правах апокрифа, нетвердого приложения к точному знанию. Такие байки обычно существуют в режиме ростка, которому еще только предстоит развернуться и дорасти до жизнеподобия; их формат – полфразы на полях основного рассказа. Говорили, что он жил там-то; кажется, она была то и это; по легенде, с ними случилось то-то. Это, конечно, и есть самая сладостная часть предания, его сказочный элемент. Эти зародыши романной формы – то, что запоминается навсегда, поверх скучных обстоятельств времени-места; их-то и хочется развернуть, пересказать, насытить деталями собственного изготовления. Их я помню хорошо. Беда в том, что без носителя и они теряют смысл и проверяемость – а со временем и индивидуальность, выстраивая себя в памяти по обиходным моделям, в русле типического. Трудно сказать уже, что из усвоенного мною было – даже не на самом деле, а на самом слове: что из этого передавалось из уст в уста, а что я, сама того не зная, пристроила к рассказу по собственной воле.
А иногда – зная; хорошо помню, как в той же непотребной юности я пыталась быть интересной, рассказывая кому-то историю о семейном проклятии. Он женился, говорила я, по страстной любви на обедневшей польской дворянке, для этого ему пришлось креститься – и отец проклял его и больше никогда не сказал ему ни слова, они жили в нищете и вскоре умерли от чахотки.
На самом деле никакой чахоткой история не кончилась – в семейных альбомах есть фотографии отверженного сына в его счастливом, кажется, будущем, в очках и внуках, на заурядном советском фоне. Но вот польская дворянка – была ли она, или и ее я добавила к истории для вящей красоты? Польская – для интригующей иноземности; дворянка – чтобы разбавить скучноватый перечень купцов, юристов и докторов не-своим и необщим? Не знаю, не помню. Что-то такое было в мамином рассказе, брезжит какая-то отправная точка для вольного фантазирования – но нет уже никакой возможности ее увеличить и добраться до начального зерна. Так в моей истории и останется ненадежная польская дворянка причиной твердой и безусловной семейной беды. Потому что проклятие было; и нищета была, и прапрадед мой так больше и не увидел своего первенца, а потом все они умерли, так и есть.
И было еще другое, то, что досталось мне в наследство и что имеет отношение к самой конструкции этой истории, к тому, как и кем она рассказывалась. Это представление о нашем роде как женском, как о череде сильных, отдельно стоящих (верстовыми столбами по ходу столетия) женщин: их судьбы были предъявлены с особенной крупностью, они – держась друг за друга и друг в друга переходя – составляли первый план общей многоголовой фотографии. Странно, как подумаешь, что у всех у них были мужья – но мужчинам этой семьи почему-то доставалось меньше света, словно у истории были сплошь героини, а на героев она поскупилась. С другой стороны, своя правда здесь была, хотя мужчины в этом и не виноваты – не на них род держался, и не по их вине. Один рано умер, другой умер еще раньше, третий был занят другими, почему-то несущественными, вещами. Последняя линия передачи – та часть рассказа, когда веселая сутолока многообразия уже выстроилась в предысторию, в ступеньки, уверенно бегущие/ведущие ко мне, состояла в моем уме (и, может быть, в мамином) уже исключительно из женщин. Сарра родила Лёлю, Лёля родила Наташу, Наташа родила меня. Поколенческая матрешка вроде как предполагала преемственность единственных дочерей: раз уж так вышло, что одна выходила из другой, помимо всего прочего ей доставались дар и возможность быть единственным рассказчиком.
* * *
Что я, собственно, имела в виду, что собиралась сделать все эти годы? Поставить памятник этим людям, сделать так, чтобы они не растворились неупомянутыми и неупомненными. Между тем на поверку оказалось, что не помню их прежде всего я сама. Моя семейная история состоит из анекдотов, почти не привязанных к лицам и именам, фотографий, опознаваемых едва ли на четверть, вопросов, которые не удается сформулировать, потому что для них нет отправной точки, и которые в любом случае некому было бы задать. Тем не менее мне без этой книги не обойтись.
В эссе Рансьера про фигуры истории есть важное рассуждение. Там вообще много сюжетов, так сказать, первой необходимости. Например, что задача искусства – показывать невидимые вещи, и это мне очень нравится – еще и потому, что в этом же видел задачу поэзии (выводить предметы на свет увиденности) Григорий Дашевский. Но главное для меня здесь, кажется, вот что. Думая об истории, Рансьер неожиданно противопоставляет документ – монументу; здесь надо договориться о терминах. Документом он называет любой отчет о совершившемся, имеющий в виду быть исчерпывающим, рассказать историю – «сделать память официальной». Его противоположность, монумент, «в первоначальном смысле термина – то, что сохраняет память самим своим существованием, то, что говорит напрямую, самим фактом того, что разговаривать ему не положено… свидетельствует о человеческих делах лучше, чем любая хроника их усилий; обиходные вещи, клочок ткани, посуда, надгробие, рисунок на сундуке, контракт, заключенный между двумя людьми, о которых мы ничего не знаем…»
И в этом смысле, похоже, монумент-памятник, о котором я думала, был построен давно, в нем, как в египетской пирамиде, я и жила все эти годы: между креслом и пианино, в пространстве, размеченном фотографиями и предметами не-моей, моей, ушедшей, длящейся жизни. Коробки домашнего архива, где почти нет прямой речи, годящейся в свидетельства, – все больше поздравительные открытки, профсоюзные книжки, эпителиальные клетки прожитого и непроизнесенного, – рассказчики не хуже тех, кто может говорить за себя. Хватило бы и перечня, простого перечисления предметов.
Можно было бы понадеяться сложить из всех этих вещей мертвого Осириса, коллективное тело семьи, которой больше нет дома. Все эти отрывки воспоминаний и обломки старого мира безусловно составляют какое-то целое, наделены специального рода единством. Целое это, ущербное и неполное, состоящее все больше из зияний и отсутствий, будет не хуже и не лучше, чем любой человек, проживший свое и выживший, – вернее, его неподвижный финальный corpus.
Тело-калека, лишенное возможности связать свое припомненное в последовательный рассказ, – хочет ли оно быть увиденным? И даже если предположить, что оно ничего уже не хочет, допустимо ли делать его предметом своего рассказа, выставочным объектом, розовым чулком императрицы Сисси или ржавой заточкой со следами крови, которой для нее все закончилось? Выводя свою семью на свет общего обозрения, пускай со всею возможной любовью, лучшими словами в лучшем порядке, я все равно делаю Хамово дело: обнажаю беззащитную наготу рода, его темные подмышки и белый живот.
Скорее всего, я не узнаю о них ничего нового, и это делает письмо еще невозможней. Здесь нет ни интриги, ни расследования; ни ада Петера Эстерхази, узнавшего, что его любимый отец был осведомителем тайной полиции, ни рая тех, кто отродясь все про своих близких знает, помнит и с честью несет в голове. У меня так не вышло, и книжка о семье получается вовсе не о семье, о чем-то другом. Видимо, об устройстве памяти и о том, чего она от меня хочет.
* * *
Поздней весной 2011 года знакомый пригласил меня приехать в Саратов. Имелось в виду что-то вроде лекции с рассказом о сайте, где я работала; обсуждая это дело, мы сидели в московском кафе, которое, как мне рассказали, специализировалось на виски, редких его сортах. Пили чай; знакомый делал любимому Саратову деятельное добро – отправлял туда разных столичных людей с беседами об интересном.
Разговор быстро перешел с лекции на сам Саратов, родину моего прадеда, где я никогда не была. Время от времени в доме появлялись тамошние родственники, которых я страстно ждала с тех пор, как услышала от кого-то из них сказку на ночь, страннейший, как подумаешь, пересказ гоголевского «Вия» – но со счастливым концом, похожим на финал цветаевского «Молодца»: панночка с Хомой шли рука об руку по каким-то воздушным этажам, с неба на небо, с яруса на ярус, по красным сыплющимся розам. Еще до «Вия» была игрушка, красная улыбающаяся собака по имени Пиф Саратовский. И было много другого всякого, но с годами воспоминания свелись к этим двум.