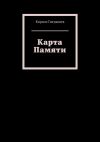Текст книги "Памяти памяти. Романс"

Автор книги: Мария Степанова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Где-то на речке в середине или конце тридцатых две молодые женщины позируют фотографу, не переставая смеяться. Одна уже распустила волосы, наклонилась, вот-вот положит в траву белую вязаную шаль, вторая придерживает шляпку от невидимого ветра. У них легкие короткие платья, сумки уже на земле, сброшенное белье комком лежит в ногах.
20Идет дождь, и люди бродят, как потерянные, по мокрому лугу. Их много, человек двадцать – мужчины в канотье, женщины в длинных юбках, подолы метут сырую траву, над головами ненадежные купола парасолек. Далеко на горизонте – стена, ограждающая неизвестно что, правее отсвечивает серая вода. Они стоят ближе и дальше, по двое, по трое, поодиночке, и чем больше всматриваешься, тем явственней понимаешь, что так может выглядеть ландшафт посмертия, его начальный берег, где каждый сам по себе.
На обороте фотографии красивым почерком с росчерками и завитушками написано по-французски, и я перевожу на ходу: «Монпелье, 22/VII. 1909. В память о нашей зоологической экскурсии на Палава. Было грустно… погода испортилась. Д. Х<аджи>-Генчев». Адрес – «мадемуазель С. Гинзбург, Починки». Палава-ле-Фло – курортный поселок к югу от Монпелье, длинные дюны идут полосой между Средиземным морем и пресными озерцами. Плоские берега крыты серым песком; где-то здесь водятся розовые фламинго, что, видимо, объясняет зоологический оттенок той давней поездки. Сейчас это людное и недорогое пляжное место, а сто лет назад было пусто, церковь Святого Петра стояла новенькая, гостиницы еще не построили.
Среди тех, кто гулял там под низким небом, есть женщина, которая держится очень прямо. Она стоит одна, отвернувшись от объектива, ее узкая спина в светлом летнем жакете – осевая линия фотографии, центральный столб ее остановленной карусели. Голова в жесткой шляпке закинута, в руках лохматый букет. Лица не видно, но мне нравится думать, что это моя прабабушка Сарра.
Глава четвертая, секс мертвых людей
Мне было лет двенадцать, и я обшаривала квартиру в поисках интересного. Его было много: с каждой новой смертью в нашей квартире прибывало вещей, оставленных как их застало, в том случайном-окончательном виде, который мог бы изменить только сам хозяин, уже выбывший из живых. Содержимое бабушкиной последней сумки, состав ее книжных полок, пуговицы в коробке были остановлены, как часы, на определенном дне и минуте. Такого в доме было много, и вот однажды я нашла еще одну штуку – старый кожаный бумажник где-то в дальних ящиках, а в нем фотография и ничего больше.
Было сразу понятно, что это именно фотография, а не «картинка», не открытка, не, например, цветной календарик. На фотографии была голая женщина, она лежала на диване и смотрела в объектив. Фотография была любительская, давняя, успевшая поджелтеть, но тип чувства, которое она вызывала, никак не соотносился с тем, например, что подразумевали прабабушкины парижские письма или дедушкины шуточные стихи. Она не добавляла ничего ни к стягивающему горло чувству семейной общности, к черно-белым многолицым полухориям незнакомой родни, всегда стоявшим у меня за спиной, ни к голоду, который вызывало незнакомое-чужое, ночная Ницца на дореволюционных открытках. На фотографии было явно-запретное (что мало смутило бы меня, потихоньку от родителей вышедшую на поиск этого запретного), смутно-неприличное (хотя фронтальная нагота этой женщины была откровенной и бесхитростной), и, самое странное, оно не имело ко мне совсем никакого отношения. Это было чужое, чье-то. То, что бумажник давно остался без хозяина, дела не меняло.
Женщина, лежавшая на кожаном диване, была некрасивая. По моим тогдашним меркам, сформированным Пушкинским музеем и картинками в мифологии Куна, в ее устройстве было много оскорбительных неточностей. Ноги у нее были короче, чем надо, груди меньше, зад больше, живот был какой-то не по-мраморному пухлый, и все это делало ее еще живей, как бывает живым все знать не знающее о существовании образцов. Она была «взрослая» – лет, как я сейчас понимаю, тридцати с небольшим – и не обнаженная, а именно что очень голая, хотя это все было не главное. Смотрела женщина прямо на смотрящего, то есть в объектив, то есть на меня – с интенсивностью, которая не давала никакой возможности считать этот взгляд рассеянным взглядом богини или модели в мастерской художника.
У взгляда был прямой и утилитарный смысл, между женщиной и ее свидетелем что-то происходило или должно было произойти. Строго говоря, взгляд уже был происходящим: его каналом или коридором, его черной дырой. Лицо, плосковатое, широкощекое, с глазками-дырочками, этим взглядом полностью исчерпывалось. Сообщение было не на предъявителя, но на месте смотрящего почему-то оказалась я, и это делало ситуацию печальной и нелепой. Было совершенно ясно, что (в отличие от всего искусства и всей истории, так внятно обращенных ко мне, принимавших меня в расчет) Фотография На Кожаном Диване совершенно меня в виду не имела, и видеть не хотела, и знала со всей отчетливостью, что на моем месте был и должен оставаться кто-то другой, с именем, фамилией и, возможно, усами.
Отсутствие этого другого и делало происходящее таким непристойным. Это был в прямом смысле coitus interruptus, а я была вроде как инструментом вмешательства, оказалась не в том месте и не в то время, застала недолжное: секс. Секс был не в теле, не в позе, не в обстановке, которую я, однако, хорошо запомнила, а только во взгляде, в его прямизне и недвусмысленности, игнорирующей все, не имеющее отношения к делу. Странно, как подумаешь, что и тридцать лет назад – а сейчас, когда я пишу это, и со стопроцентной вероятностью – оба участника этой расстановки были уже мертвы. А упало, Б пропало; они умерли, и только бесхозный секс остался в пустой комнате.
* * *
Если бы мне надо было объяснить, что я имею против изображений, я сказала бы, что у них общая болезнь, эйфорическая амнезия – они не помнят, что они значат, откуда взялись, кто их родня, но прекрасно себя при этом чувствуют. Для смотрящего (воспринимающей инстанции, которую уже и не поймешь, как назвать, читателем или зрителем) картинка вроде как делает больше, обслуживает лучше. Она быстрее доносит свое сообщение, не тратит лишних слов, а главное – не устает вступать с ним в активное взаимодействие: поражать, цеплять, занимать. Картинка соблазняет иллюзией экономии: там, где текст только разворачивает первые фразы, фотография уже пришла, ужаснула, убедила и великодушно уступила место тексту, который, так и быть, расскажет неглавное – что случилось и где случилось.
Сто лет как говорят, что примета или проблема нашего нового времени – перепроизводство визуального материала, замена тяжелых, груженных смыслом телег описания на легкие саночки изображения. Оно, конечно, так и есть, и дело даже не в бремени, что лишь поначалу кажется невесомым. Дело еще и в том, что в зеркальном коридоре воспроизведения пропадают не только мертвые, но и живые. В эссе Кракауэра о фотографии этот процесс описан с фотографической же наглядностью, и можно разложить по фазам то, что делает наше внимание с фотографией бабушки – как она исчезает буквально на глазах, пропадает в складках собственной одежды, оставляя на поверхности изображения воротничок, турнюр, шиньон.
Но то же самое происходит с каждым из нас по мере того, как каждое новое селфи, групповой снимок, фото на паспорт выстраивают нашу жизнь в цепочку – в историю, не имеющую ничего общего с той, что мы рассказываем себе и хотели бы передать близким, в линейное было-стало, в полное собрание не нами выбранных моментов и поз, открытых для следующей фразы ртов и смазанных подбородков. Бальзак предвидел что-то такое и отказывался фотографироваться, считая, что каждый новый снимок отслаивает или состругивает с него еще один слой бальзака и что, если позволить такое с собой делать, ничего не останется. (Или останется: дымок, кочерыжка, последний остаточный слой толщиной с посмертную маску.)
Но механика фотографии и не имеет в виду сохранность сущего. Логика ее работы скорей похожа на то, как собирают посылки для потомков или инопланетян: свидетельства о человечестве, антологию лучшего, попытку самоописания через выставку достижений цивилизации: шекспир-монализа-сигара, пенициллин-айфон-калашников. Все это напоминает египетские захоронения, устроенные как просторные чемоданы, набитые всем необходимым. Но если предположить в потомках/инопланетянах любознательность, не боящуюся времени, их потребность в информации могла бы удовлетворить только безграничная библиотека изображений, в которую, как в чулан, сложено все: каждая минута каждого из нас. Если бы это пугающее досье собрать и оставить до востребования, оно мало бы отличалось от того, далеко еще не полного, что хранится и накапливается сегодня где-то в воздухе, в его бесформенных карманах, и вызывается к жизни одним движением компьютерной мыши.
Фотография замечает в первую очередь перемены, которые всегда одни и те же, – рост, переходящий в угасание и небытие. Я видела несколько таких фотопроектов, разворачивавшихся и осуществлявшихся десятилетиями. Они гуляют по соцсетям, вызывая умиление, тоску и что-то вроде непристойного любопытства, с каким молодые и здоровые люди разглядывают то, что еще не стало для них даже будущим. Вот молодой японец фотографируется с маленьким сыном; время идет, мальчику год, четыре, двенадцать, двадцать, это род ускоренной перемотки – мы видим, как один наполняется жизнью, как воздухом воздушный шарик, и как сдувается, и съеживается, и темнеет второй. Вот австралийские, что ли, сестры-погодки, они тоже снимаются вместе уже сорок лет, год за годом – и с каждым новым изображением все очевидней старение, разочарование, сигнальные звоночки небытия. В этом смысле искусство занято чем-то глубоко противоположным: любой удавшийся корпус текстов – это хроника роста, вещь, не вполне соотносящаяся с параллельной хронологией первых морщин и пигментных пятен. Но фотография более бескомпромиссна; она уверена, что совсем скоро ничего этого не будет, и, как умеет, сохраняет всё.
Я говорю здесь о фотографии особого рода, он же, по неслучайному совпадению, самый массовый, обводящий широким меловым кругом всех профессиональных репортеров, любителей с их снимками, сделанными на телефон, и целый набор промежуточных вариантов. Общая их черта сводится к тому, что фотограф и зритель безоглядно уверены в том, что результат съемки обладает качеством документа: он свидетельствует о действительности, схваченной как она есть, без всяких там словесных прикрас: роза так роза, амбар так амбар. Художественная фотография с ее попытками изогнуть и перестроить видимый мир во славу частного восприятия интересует меня только в точках, не предусмотренных автором, – там, где реальность мешает замыслу и льстит зрителю, заметившему шов: грубые ботинки, что выглядывают из-под карнавального шелка.
В некотором смысле претензии, если не возможности, документальной камеры чрезмерны: видеть и удерживать все существующее и существовавшее – задача, доступная разве что Тому, Кто, как написано на воротах Фонтанного дома, conservat omnia. Но техника, снимающая со времени его визуальную стружку, очень старается – и в ее виртуальных хранилищах обителей много.
* * *
Среди способностей камеры много таких, что наводят оторопь. Она, скажем, впервые дает основание цитировать человека, животное или вещь как целое, как единицу текста – сдвигать с реальности легкую шапку означающих, полностью игнорируя означаемое. Она впервые ставит знак равенства между человеком и его изображением – лишь бы изображений было побольше.
Век или два назад портрет был исчерпывающим свидетельством и, за немногими исключениями, единственным – грубо говоря, тем, что от тебя (и за тебя) оставалось. Он становился, что ли, оправданием жизни, ее точкой фокуса, и в силу природы этого ремесла требовал работы и от художника, и от портретируемого. Поговорка «Всякий имеет лицо, которого заслуживает» в эпоху живописи предельно соответствовала действительности – для тех, кто в классовой структуре имел право на необщее лицо памяти, оно было лицом портрета.
Или, что еще важней, лицом письма. Основная часть мемориального наследия была текстуальной, дневниковой, эпистолярной, мемуарной. С середины девятнадцатого века баланс письменного и визуального сместился, стопка фотографий стала вырастать. Они предъявляли памяти уже не «меня как есть», а «меня в субботу в черной амазонке». Количество семейных картинок ограничивалось только социальными рамками, денежными возможностями – но даже у Михайловны, бабушкиной деревенской няни, были три фотографии, которые она хранила.
Старуха-живопись (назову так для краткости способность собственноручного изображения живого, материал может быть любой) одержима сходством как невозможностью; и тем больше она увлечена своей задачей – сделать изображение исчерпывающим, то есть единичным, и точным, то есть непохожим: предложить портретируемому его концентрат, не его-сейчас, а его-всегда, спрессованный кубик главного. Об этом, собственно, все рассказы про Гертруду Стайн, которая с годами становилась все больше похожа на свой портрет работы Пикассо, или про то, как человек, которого писал Кокошка, сошел с ума и стал совсем как на картине.
Мы, постоянный предмет старухиного интереса, слишком хорошо понимаем, что вместо сходства она продает нам гороскоп: трактовку-образец, с которым можно соглашаться (это зеркало мне льстит) – или уж восставать. Но с появлением фотоизображения мадам Бовари впервые может не задумываясь сказать: «Это я» – и выбрать из тридцати шести отпечатков самые привлекательные. Жизнь подставляет ей новое зеркало, и оно отражает взахлеб, ничего не требуя и ни на чем не настаивая.
Тут живопись и фотография расходятся в разные стороны, одна – к скорому и неизбежному концу, к развоплощению, вторая – к своей безразмерной копилке. При дележе наследства одной достался дом и сад, второй – кот в мешке. Марфа забрала реальность, Мария осталась говорить языками абстракций и инсталляций.
* * *
Тут я еще раз сделаю оговорку: речь идет о мейнстриме, о той утилитарной-первоочередной фотографии, задача которой – создание и архивация копий. Вопрос, собственно, в том, что именно сохраняется.
С изобретением цифровой фотографии вчера и сегодня стали сосуществовать с небывалой интенсивностью: как если бы в доме перестал работать мусоропровод, и все отходы повседневности навсегда остались тут. Не надо больше экономить пленку, знай жми на кнопку, и даже то, что стирается, остается в долгой памяти компьютера. У забвения, этой обезьяны небытия, появился брат-близнец – мертвая память накопителя. Семейный альбом просматриваешь с любовью, в нем собрано немного: то, что осталось. Но что делать с альбомом, где сохранено все без исключения, весь непомерный объем былого? В пределе, к которому стремится фотография, объем зафиксированной жизни равен ее реальной длине; контора пишет, но некому читать.
Так и вижу эти гигантские мусоросборники изображений, подгребающие к себе весь шлак, все неудачные кадры, вторые-третьи дубли, хвост выбежавшей собаки, случайно снятый потолок кафе. Какое-то приблизительное представление об этом можно получить в социальных сетях, где висят тысячи неудачных фотографий, скрепленных тегом, как булавкой. Впереди у них – альтернативное кладбище, огромный архив человеческих тел, о большинстве которых мы ничего не знаем, кроме того, что они были.
Страшное это бессмертие, и страшней то, что в него попадаешь против воли. То, что регистрируют сейчас фотографии, – не что иное, как тело смерти: та часть меня, которая лишена личной воли и выбора, которую любой может присвоить, которая фиксируется и сохраняется без усилий. То, что умирает, а не то, что остается.
В старые времена весь-я-не-умру было делом выбора. От него можно было уклониться и взять, что дают всем: «Смиренный грешник Дмитрий Ларин, / Господен раб и бригадир, / Под камнем сим вкушает мир». Теперь невозможность уйти – вроде как неизбежность. Хочешь или не хочешь, тебя ждет странное продленное существование, в котором твой физический облик сохраняется до конца времен – исчезает лишь то, что и было тобой.
Роскошь раствориться, исчезнуть с радаров недоступна уже никому.
Под съемку попадаешь как под дождь, с тем же привычным «ну вот, началось». Кто и когда будет все это просматривать? Наш внешний облик, соскребаемый с нас тысячами камер слежения на вокзалах, трамвайных остановках, в магазинах и подъездах, – как отпечатки пальцев, оставленные человечеством до появления криминалистики. У него нет алфавита, только новая (старая) множественность листьев в лесу.
С появлением записи, архива из жизни исчезает невоспроизводимое. Как играла Жорж, как пела Бозио – все это передавалось средствами слова и требовало от тех, кому интересно, усилия: это надо было угадать, восстановить, представить-себе. Теперь до всего бывшего рукой подать. И чем дольше ведется запись, тем больше людей застревает в зоне полусмертия. Их телесная оболочка ходит и говорит, их земной голос звучит, когда захочешь, они могут отталкивать, очаровывать, вызывать желание (тело отдельно, имя отдельно, как титры в кинематографе). Кульминация этого дела – старинная порнография, безымянные мертвые тела, занятые механической работой в то время, как их носители давно уже земля или пепел.
Но тело как оно есть находится вне предания: у него нет таблички с именем и пояснениями, оно не имеет знаков отличия. С него задним числом совлечена всякая память, любой след того, что с ним было, – история, биография, смерть. Это делает его непристойно современным, и чем голей, тем ближе к нам и дальше от человеческой памяти. Все, что мы знаем об этих людях, – две вещи: что они уже умерли и что они не имели в виду завещать свои тела вечности. То, что имело когда-то простой функциональный смысл – быстрый, как колесико зажигалки, круговорот желания и удовлетворения, – и вовсе не собиралось стать очередным мементо мори, продолжает работать как машина. На этот раз, по крайней мере для меня так, это машина по производству сострадания.
Все законы, описанные когда-то Кракауэром и Бартом, действуют и тут; пунктум (репродукция над кроватью, длинные черные носки на тощих икрах мужчины) пытается стать алфавитом и рассказать происходящее как историю, на этот раз – об устройстве времени, его вкусах и чувствительности. Но все, что видно на самом деле, – нагота, неожиданно оказавшаяся последней. Эти голые люди с их ляжками и животиками, с усами и челками когдатошней современности оставлены на милость смотрящего. У них нет ни имени, ни будущего, все это увязло где-то в предстоящих им двадцатых-тридцатых-сороковых. Их нехитрое занятие можно остановить, ускорить, заставить их начать с начала, и они снова будут поднимать бывшие руки-ноги и запирать двери, словно они наедине и все еще живы.
* * *
Одна русская собирательница купила на Шри-Ланке коробку фотографий, которые чем-то ее поразили, да так, что через год она вернулась, чтобы выкупить весь архив, занялась поисками, нашла следы исчезнувшей – к концу века никого не осталось в живых – семьи и сделала всё, чтобы подарить им странное бессмертие, которое иногда достается предметам, потерявшим хозяев. Что именно было в них, что их так бесповоротно выделило из общего, ничего-особенного, множества? Видимо, то же, что отличает музейную вещь от ее заурядных сестер: непростое качество, которое дает ей право на преимущественное внимание. В том архиве (отец семейства, Джулиан Раст, был профессиональным фотографом) нет снимков, что ограничивались бы голой функцией, утилитарным сохранением сущего. Они намагничены собственным совершенством, дающим изображению волшебный блеск экспоната. Семья в снегу под еловыми лапами, ребенок в санках и ручной олененок, купальщицы, наездницы, овчарки выглядят как film stills, и зритель ждет продолжения истории, новых кадров и знания о том, что с героями сталось.
В этом есть, как подумаешь, заведомая асимметрия – не меньшая, чем в существовании наследной аристократии или, скажем, изящных искусств, которые без билета проходят в двери, закрытые для остальных. Но интересными, то есть извлеченными из рядов, бывают ведь и фотографии, сделанные просто так, без намека на профессионализм. Какое свойство, какая особенность делает их не-отразимыми, лишает нас той способности к сопротивлению, что только и помогает не замечать молчаливое присутствие прошлого, которое не поддается использованию, как лампа или графин, и глазами глядит из мусорных ящиков и с антикварных прилавков?
Есть глубокая несправедливость в том, что люди, как и их портреты, никуда не могут деваться от первого, базового неравенства: деления на интересное и неинтересное, притягательное и не очень. С тиранией выбора, который всегда стоит на стороне красивого и занимательного (в ущерб всему, что не умеет претендовать на наше внимание и остается на неосвещенной стороне этого мира), подспудно солидарны все, и в первую очередь наши тела с их прагматической повесткой. В книге Эрика Р. Канделя, где говорится о том, как работает человеческий мозг и как он воспринимает искусство, есть пассаж, кажущийся самоочевидным. Наши суждения о прекрасном/привлекательном определяются ненавязчивым присутствием биологической догмы, логикой выживания, заставляющей выбирать из предложенного набора «то, что обещает здоровье, плодовитость, способность сопротивляться болезни». Предпочтения не определяются ни воспитанием, ни возрастом: трехмесячные младенцы тоже солидарно голосуют за истинные ценности красоты, здоровья и симметрии.
Кажется, что подспудно этот выбор подразумевает и что-то другое, большее – то, на что боишься опереться и о чем не можешь не задумываться. Выясняя, что определяет привлекательность человеческого лица, психолог начал искажать пропорции, предлагая своим респондентам выбирать между естественным и преувеличенным, нормативным и гротескным. «Когда он видоизменял черты обычного приятного лица – делал скулы повыше, подбородок меньше, глаза больше, сокращал расстояние между носом и ртом, – участники эксперимента считали, что лицо становится еще привлекательней». Это важная точка. Над общим законом, утверждающим приятность как залог фертильности и норму как страховку от неприятностей, стоит еще один, отменяющий все вышесказанное. Он требует от нас неестественного отбора, оставляющего только сверхчеловеческое, оно же не вполне человечное. Он хочет, чтобы человек превысил собственные физические возможности, пройдя анфиладу искажений, сообщающих ему черты божественности или автопародии.
Как тут быть тем, кто составляет безусловное большинство, – популяции просто-людей, два глаза, нос и рот, ничего особенного? Красота хочет от нас трансгрессии, искажения, преувеличения, крыльев или котурнов. Природа ищет возможности продолжать, примириться с girl next door и ее многообещающей симпатичностью, с 90–60–90, открытым купальником и готовностью к череде детей, внуков и правнуков. В узкой дельте между тем и этим размещается зона частного выбора, место для меня, смотрящего, моей верности идеалу и способности к компромиссу. Так устроено дело в мире живых; но когда речь идет об ушедших, всё еще жестче и бесповоротней.
И это несправедливо – как вообще несправедлива диктатура смотрящего с его невесть откуда взявшимися запросами. Если вспомнить, у слова есть второе, не самое очевидное значение. На языке тюрьмы и зоны, которым пользуется существенная часть тех, кто вообще говорит по-русски, смотрящий – тот, кто определяет правила и следит за их выполнением. Вот цитата, взятая мною с одного из полезных сайтов русского мира: «Смотрящий – тот, кто смотрит за криминальным порядком на хате, в зоне или области и не допускает так называемого беспредела».
Как-то так можно было бы описать и отношения между смотрящим и фотографией, читателем и текстом, зрителем и пленкой. Они – промежуточная инстанция власти, что-то вроде билетеров в музейных залах оперативной памяти. От них зависят и правила, и то, как они исполняются. И при этом смотрящий – чего уж там – судья неправедный. Его закон и его выбор не божеские, а человеческие, пуще того, воровские. Его дело – присвоение/усвоение чужого; его вкусовое суждение – право сильного среди бессильных, живого среди неживых (и заведомо лишенных всяческих прав).
Может быть, поэтому я так люблю фотографии, демонстративно не нуждающиеся в собеседнике, не желающие меня замечать. Они – своего рода репетиция небытия, жизни без нас, времени, когда в комнату уже нельзя будет войти. Семья занята чаепитием, дети играют в шахматы, генерал склонился над картой, продавщица раскладывает пирожные; так реализуется старинное, неистребимое желание заглянуть во все окна многоквартирного дома, допросить волшебный горшочек о том, что у кого на обед. Смысл этой мечты ведь в том, чтобы оказаться на время не-собой, а кем-то совершенно другим, совсем на себя не похожим. Большинство старых фотографий здесь бессильны, все, что они могут, – настаивать на своем: на себе, я – это я, явь – это явь.
То же с отходами производства – картинками, не оправдавшими в свое время надежд фотографа и поэтому не вполне состоявшимися. Собака, размытая собственным бегом и кажущаяся бесконечной, чьи-то ноги в туфлях на мокром тротуаре, случайный прохожий, попавший в объектив, во времена бумажных отпечатков отсеивались и уничтожались первыми. Именно они навощены сейчас специальной прелестью того, что нам (и никому) не предназначено. Это ничье, а значит, мое: мгновения, выжившие по ошибке, освобожденные от всякой привязи, украденные жизнью у себя самой. Эти изображения людей предельно безличны, именно этим и хороши; они снимают со зрителя груз преемственности, исторической памяти, совести и долга перед умершими – и предлагают взамен образцы, последовательный каталог бывшего и будущего, чем случайнее, тем верней. Здесь действуют не Иван Иванович с Марьей Петровной, а условные единицы, он-и-она, она-и-она, свет-и-никого. Свобода от смысла дает шанс добавить сюда свой собственный; свобода истолкования делает картинку зеркалом, и оно купает в своем квадратном пруду любую предложенную версию. Photo trouvée, эти найденыши, хороши именно готовностью стать объектом, устранив для этого устаревшую чужую субъектность, похоронить своих мертвецов – и того, кто снимал, и того, кто снимался. Они не пытаются заглядывать нам в глаза.