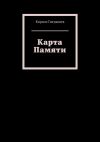Текст книги "Памяти памяти. Романс"

Автор книги: Мария Степанова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Неглава, Лёля (Ольга) Фридман, 1934
Моей бабушке едва исполнилось восемнадцать; мой дед старше ее на целых четыре года. Они познакомились «на дачах», в студенческой компании архитекторов, собиравшейся где-то в Салтыковке. Они поженятся только через несколько лет: Сарра Гинзбург, мать Лёли, настаивала, что девочке сперва надо закончить медицинский институт, и долго не могла смириться с неудачей.
1Ольга Фридман – Леониду Гуревичу, 25 ноября 1934 года.
21–3 ч. ночи
Слеза, любимый, слеза сделала переворот в моих мышлениях.
Маленькая, скупая, она выкатилась из твоего глаза и победила. Победила глупые сомнения, страх, стыд – все, что составляло непроходимую преграду к твоему счастью. Эта маленькая, блестящая точка словно приворожила меня, наполнив настоящим блистательным счастьем.
Знаешь, родной, я никогда не думала, что горе, переживание других может доставить так много радости.
Теперь я понимаю твое желание видеть мои слезы, теперь, наконец, я простила тебе те мучения, которые ты заставил меня пережить.
Такого блаженного состояния я еще не переживала ни разу. Видеть, как человек, бесконечно дорогой для тебя, мучается безумно, чтобы не доставить тебе мучений; ощущать, что ты дорога, что ты необходима для другого, – это счастье, любимый!
Оно мучительно и поэтому блаженно. Оно особенное и мало понятное.
Пожалуй, я даже сама себе не смогу разъяснить испытанного в ту минуту чувства, когда эта блестящая волшебница, стоившая тебе стольких месяцев страданий, заставила окончательно перевернуться моему внутреннему «я»… Мне никогда не приходилось видеть, чтобы люди так переживали, мне всегда казалось, что только я одна переживаю сильно и искренно, но разве то, что испытывала я, может сравниться с твоими переживаниями?!
Нет! Конечно, нет!!! Только сейчас я поняла, что значит чувствовать, только сейчас я узнала, где кроется то, что называют «желанием»… Когда я не видала тебя день – я тосковала, мучилась, места себе не находила, но не звонила тебе и не рассказывала всего, что творилось у меня на сердце. Меня удерживали страх, сомненья, мне казалось, что это разлучит нас; мне казалось, что нельзя быть столь неудержимой в своих желаниях, мне казалось… да, что только не казалось. Я привыкла сдерживать свои порывы и мое терпение выручало меня.
Но ты, любимый, такой неудержимый в своих желаниях! Сегодня я поняла, что стоит тебе заставить их замолчать. Что я, – мои страдания показались мне уже не такими тяжелыми и знаешь, у меня промелькнула мысль, быть может, я тебя не стою?
Я не хочу этим сказать, что чувствую меньше, чем ты, или более поверхностно. О, это не так! Не истолкуй превратно моей мысли… Но ты, ты чувствуешь как-то еще более тонко, еще более… Хотя нет, не в этом дело! Я никак не могу согласиться, что ты любишь сильнее, чем я. Понимаешь – это ложь!
Но, вот ты никогда не сталкивался с трудностями, ты избалован, тебе никогда не приходилось заглушать то, что ты желаешь. А вот мне всегда приходится это делать. Ты эгоистичен, думаешь о себе, а главное тебе никогда не приходилось находиться между двумя различными полюсами, одинаково любимыми пусть даже различной любовью и делить между ними то, что так хочется отдать только в одни руки.
Подумай, мальчик, как тяжело так жить; может быть, мои страданья дадут тебе силу для ожиданья и борьбы…
Я не хотела говорить тебе этого, я не хотела мучить тебя, не хотела этого ради себя – признаюсь…
Но, сегодняшних минут достаточно!
Я всегда заставляла свои желания отодвигаться на задний план. Теперь думала немного пожить для себя, не считаясь ни с чем, но нет, я поняла, что это ошибка, жестокая ошибка или радужные мечты, т. к. жить для себя, мучая любимого – я не способна. Я поняла сегодня, что как индивидуум я больше не существую, что я слилась с тобой, всецело растворяясь, я уже решила, Лешик, быть совсем-совсем твоей, но видишь ли, мой мальчик, придя домой, я встретила маму взволнованную, тоскующую, и боль, жгучая боль обожгла сердце. Я решила, но мама, мамины тоскующие, измученные глаза сказали «Надо ждать!»
Как я могла забыть ее хоть на минуту.
Родной! Мама так мало видела счастья, мама столько мучилась, столько вынесла ради меня и столько еще мучается и страдает теперь, что я не в силах нанести ей этот последний удар. Пойми, ведь у мамы я одна. У меня есть ты, у твоей мамы – муж, а моя имеет только меня. Ради меня она такой молодой покончила со своим счастьем, для меня она отдала свою жизнь, из-за меня не вышла еще раз замуж и воспитала, вырастила меня совсем-совсем одна.
Я знаю, что́ ей стоило это! Я знаю, чувствую теперь ясно всю величину этой жертвы, я знаю, – хотя мама ни разу ни намеком, ни жестом, ни поступком не давала мне к этому повода. О, мама, как скала! С ней будет похоронено все, что чувствовала и переживала она и ни одна душа не догадается об этом. Так переживать и так скрывать это – может только мама.
И, видишь, родной, когда я стала большая, мама так боится потерять меня, даже не потерять, а выпустить в жизнь еще не подготовленной, наивной, мама считает меня еще совсем ребенком и мысль о том, что я могу вытти замуж раньше, чем буду в институте самостоятельным, оформившимся человеком, ей доставляет много, много страданья. Она молчит, лишь шуткой намекая на это, но я знаю – такой исход ей нанесет последний удар…
И, видишь, я мучаюсь, но все же не в состоянии сделать то, что прочла сегодня в твоих глазах. О, все это очень, очень сложно!.. Сложнее даже, чем ты думаешь, Ленёк!
Понимаешь, давно – я поклялась у папиной могилы, поклялась, когда мама, ломая свою жизнь, из-за моей просьбы отказала любимому человеку, что я когда-нибудь принесу ей не меньшую жертву.
Время пришло. Я говорю тебе: «Подожди, любимый» так, как мама сказала ему: «Подожди, любимый, пусть Лёля будет самостоятельной».
Не говори мне, что я не знаю, не понимаю, как тяжело все это. О! Я отлично сознаю все…
Я послала тебе то письмо потому, что я иначе должна была послать сегодняшнее. Я думала, что ты не так глубоко переживаешь.
Прости!!!
Иначе я бы никогда не позволила себе поступить так жестоко.
И вот сегодня мне пришлось сказать то, чем бы я никогда не хотела поделиться с тобой.
Еще раз прости, Лёнечка!
Я недооценивала твоего чувства, я боялась поделиться тем, что принадлежало мне одной.
Слеза сказала мне, что меня уже больше нет – есть «МЫ» и нам предстоит победить тяжелое, полное лишений время, нам предстоит принести жертву человеку, который так многого лишил себя из-за одного из нас. Вот единственный выход, который я знаю, любимый!
Сможешь ли ты пойти на это? Хватит ли у тебя выдержки и силы?
Решай, мальчик! С сегодняшнего дня тебе открыто все; ты ясно должен представить то, на что я зову тебя.
Быть может, сознание нашей жертвы поможет нам весело смотреть в грядущее, быть может, обоюдная поддержка сгладит те мучительные часы, которые придется пережить, быть может, что неизбежность заставит нас быть сильными.
Я не могу представить себе, что будет иначе. Я уверена, что ты поддержишь меня. Ведь не могу же я потерять тебя теперь, когда ты стал особенно близким и дорогим?! Ведь не могу же?!!…
На две жертвы – я не способна!
Так обещай, что ты поможешь мне выполнить то, что я всю жизнь считала своей священной обязанностью, поклянись, что любовь твоя достаточно глубока для этого.
О! Я буду несказанно счастлива, что и на этот раз не ошиблась в тебе…
Всю тяжесть будничных переживаний, клянусь, я буду скрашивать вниманьем и благодарностью, т. к. силу твоей жертвы я оценяю высоко. Слеза… о, слеза многое сделала, любимый!
Твоя любящая Оля.
Ольга Фридман – Леониду Гуревичу. Без даты.
Родной мой! Любимый!
Как однообр<азно> медленно тянутся дни, как тоскливо протекает время.
Эти 3 дня – мне кажутся вечностью.
Я выбита из колеи, я ничего не могу делать. Хочется быть с тобой, переживать твои горести и невзгоды, хотя, слава Богу <зачеркнуто>, они уже кажутся позади! Но это успокаивает лишь отчасти, и настроение просто убийственное.
Сижу, читаю твои письма, и познаю вновь, какой хороший у меня мальчик.
Лёнечка, милый!
Как передать тебе то, что пережито, передумано в эти долгие дни, как рассказать всю тоску и боль души! Любимый, как хочется, чтобы наша жизнь текла вот в таком же тепле и нежности, которой пропитаны твои письма.
Сколько накопилось невысказанно! А слов нет! Я не умею де литься!
Ф.
<На другой стороне листа:>
Пусть счастье наше будет овеяно новым чувством, пробудившимся во мне. Пусть наши отношения будут зиждиться на внимании и ласке. Пусть никогда не поднимается горечь со дна наших сердец! Пусть никогда не произносят обиды наши уста, и даже мысли пусть будут направлены для счастья друг друга.
Изменившаяся
<На обороте, крупным почерком моего деда:>
Родная моя!!!
Эти два слова скажут тебе все, сообщат тебе о всех моих мыслях, желаниях, мечтах, кои я мог бы вложить в сотни, тысячи строк, и все же тебе пришлось бы читать между строками, чтобы понять то, что я хочу рассказать тебе, что нельзя выразить словами, ибо слова фиксируют плоды мышления, а не чувств. Будь счастлива, дорогая.
Глава девятая, проблема выбора
«Мир есть общая могила священная, на всяком бо месте прах отец и братий наших», говорится в православном заупокойном каноне. Поскольку земля одна (и мы у нее одни), местом встречи живых и мертвых, которой традиционно оказывается кладбище, может стать любой клочок земли под нашими ногами. И все-таки кладбище работает на нас: у него даже слишком много функций. В восемнадцатом веке венецианские монастыри были оборудованы специальными приемными – залами, где люди здешнего, светского мира музицировали, играли в домино, болтали между собой и пили кофе, попутно навещая родственников, от этого мира ушедших. Монахи и послушники, отделенные (чуть не написала «от живых») решеткой, сидели там, поддерживая разговор, а потом уходили в свою, другую, жизнь. Такой зоной одностороннего разговора – комнатой свиданий, монастырских или лагерных, всегда фрагментарных и неполных, – кладбище стало в последние двести-триста лет. Но есть у него и другое дело, и оно куда древнее этого: кладбище – место письма, территория письменного свидетельства.
В этой адресной книге человечества все необходимое изложено довольно-таки конспективно и сводится в основном к именам и датам, больше и не нужно: мы все равно прочитаем две-три знакомых фамилии, некому держать в уме весь ее тысячестраничный объем. Если предположить, что тем, кто там лежит, есть хоть какое-нибудь дело до нашей памяти о них, им остается надеяться на случайное чтение – на прохожего-остановись, на человека, который неизвестно почему выделил из ряда надгробий вот это, и стоит, читает, полный старинного любопытства к тому, что было до него. Эта вера в спасающее зрение чужого человека – в его глаза, перемещающиеся по каменным строчкам, от буквы к букве насыщая их временной жизнью, теплом телеологической цепочки, – делает такими сиротскими безымянные могилы, камни со стершимися чертами, те, что некому прочитать. Казалось бы, надгробие вещь почти избыточная: оно что-то вроде дорожного знака (прохожий, здесь лежит человек), все главное не на нем, а под, и свои своих узнают. Но почему-то краткая справка о том, как звали того, кто под, и сколько ему было лет, необходима: почему и зачем – другой вопрос.
И это очень старинная потребность, она старше христианства с его верой в общее воскресение. В книге, шаг за шагом сопоставляющей два неожиданных корпуса текстов (Целана и Симонида Кеосского), Энн Карсон утверждает, что именно над могилой – где только и есть, что чужая смерть, камень и потребность в поясняющей надписи, – поэзия вылупляется из звуковой оболочки и начинается как письменное искусство, рассчитанное на того, кто смотрит и видит, на его способность сделать то, что вырезано на камне, частью своей памяти, ее внутреннего порядка. Эпитафия становится первым жанром письменной поэзии, предметом своеобразного контракта между живыми и мертвыми – пакта об обоюдном спасении. Живые предоставляют мертвым место в собственной памяти и верят, что, говоря словами поэта, наши мертвые нас не оставят в беде.
Поэт, какой угодно, здесь совершенно необходим: он выполняет работу спасения, делая чью-то жизнь портативной – отделяя знак от тела, память от места, где это тело лежит. Единожды прочтенная, эпитафия разом становится летучей: транспортным средством, открепительным талоном, который предоставляет мертвым новую, словесную природу и неограниченные возможности передвижения по внутренним и внешним пространствам памяти, по антологиям мировой лирики и коридорам наших умов. Но что им наши антологии?
«Ответственность живых перед мертвыми сложно устроена, – пишет Карсон. – Это мы отпускаем их в смерть, потому что не уходим вместе с ними. Это мы удерживаем их здесь – отказываем им в небытии, – называя их по именам. Следствием этих двух несправедливостей (wrongs) становится написание эпитафий». В этой точке понимаешь, что поэзия как послание, письмо, рассчитанное на предъявителя, начинается с сюжета, который так мучительно меня волнует. Именно так: с попытки устранения несправедливости, заключенной в самой идее отбора, разделения человеческой популяции на особи, на две категории – интересное и неинтересное, годное для рассказа и годящееся только для небытия.
В греческом мире память, как залетейские души на запах крови, шла к тому, что можно было счесть примером, образцом для подражания. В книге Карсон с тревожной наглядностью показывается, как с появлением в пятом веке до Р. Х. денег – универсального способа обмена всего на все – валюта исключительного начала сосуществовать с другой, уравнявшей в правах с героями всех, кто готов заплатить за долгую память звонкой монетой. Симонид, родоначальник жанра, был известен еще и тем, что первым сделал поэтическое письмо коммерческим – проще говоря, брал за свои эпитафии деньги, – так что в посмертное хранилище на равных правах входили защитники Афин, заслужившие свой билет ценой гибели, и девушка как-ее-там, чья-то дочь и сестра, ничем больше в своей тихой жизни не отличившаяся.
Карсон описывает это как экономику равенства, не делающую разницы между важным и неважным; можно назвать ее и экономикой нового неравенства – для тех, кто не в состоянии оплатить свою эпитафию, разницы никакой. Обеим схемам находится место в широком русле общей несправедливости – той самой, вечной, сводящейся к тому, что нас слишком много и помянуть-поименовать каждого невозможно.
«Поэт есть тот, кто спасает мертвых». Но не всегда, не всех: на всех не хватит места или слов, и вот приходится выбирать, чем именно руководствоваться – избирательной логикой жалости, случая, сердечной склонности или безличным принципом навлона, платы, которую брал Харон при транспортной переброске в небытие. Поэт, выходит, получает свои драхмы за возможность выписать обратный билет; а несправедливость поджидает на берегу и его, и пассажиров.
Кладбище с его непритязательным набором имен и дат ведет себя честней; в своих территориальных пределах оно не выбирает и старается помнить всех. Видимо, именно поэтому оно вынесено на окраины наших городов, на периферию зрения и сознания, словно объем прожитого другими, как и количество этих других – больше, чем можно удержать в уме. Перемещенные лица человеческой истории, списанные со всех счетов и лишенные права на все, кроме надписи, таблички, редких цветочков по праздникам, мертвые, как волнующееся море, окружают нашу повседневность. Иногда их становится видней, чем обычно. В эти редкие минуты действительность как бы сдвигается, становится слоистой и, пока моя нестойкая лодка ползет по поверхности черной воды, из нижней тьмы проступают лица, и каждое из них еще можно различить, разглядеть, выручить – поместить в световое пятно сосредоточенного внимания.
Но как выбирать и кого выбрать. В пространстве между очевидной необходимостью, не рассуждая, спасать всех – и такой же очевидной, соприродной человеку, подневольной до хруста в костях потребности выбрать из любого множества то самое, единственное, нету места для правильного решения. Эта зона кромешной неправоты, насыщенная своим и чужим страданием, искаженная общим бессилием, прорезана сейчас вольтовой дугой, сплавляющей прошлое и настоящее до полного выгорания обоих. Любой текст, любая речь, исходящая из ситуации невозможного выбора, вспыхивает и горит, не давая ответа на собственные вопросы. Не выбирать и называть имена, подряд, пока не кончатся страницы? Ограничиться тем, что (теми, кто) ближе? Найти и вытягивать из ткани времени, как цветную нитку, то, что соответствует одному, невнятно сформулированному, критерию? Закрыть глаза и рухнуть назад – спиной вперед, словно тебя подхватят родные, заждавшиеся тебя руки?
* * *
В Государственном архиве Российской Федерации есть пропускной отдел, брешь в стене, за которой сидит сторожевая дама, выдающая читателю билетик, талон на временное место в толще былого. На рабочем столе у нее тяжкая, диковатая в своей бронетанковой несовременности машина для постановки печатей, сделанная в тридцатых и бодро работающая до сих пор. Чтобы привести ее в движение, требуется нешуточное физическое усилие: надо прокрутить железный ворот вокруг оси, как поворотный круг, и тогда печать с чмокающим звуком ляжет на бумагу. Пока ждала, я не могла отвести глаз от того, что было на стенке слева. Кто-то приклеил туда журнальную картинку с изображением цветка, раззявившего нежное нутро; и вот к самой его сердцевине железной кнопкой была прибита вырезанная из бумаги бабочка.
С непривычки я долго не могла справиться с понятным местным жителям обиходом, простым порядком, регулировавшим оборот архивных бумаг и сопутствующей им документации. В большой зале со светлыми, от пола до потолка, стеклами тесно сидели люди, стоял тихий шелест поискового движения по страницам. То, что мне было нужно, было рассеяно по различным фондам с инвентарными номерами и мало что говорящими названиями; но вот постепенно, как спина немаленькой рыбы из глубины озера, стал проступать контур возможного запроса. Заурядные фамилии моей родни, все эти Гинзбурги, Степановы и Гуревичи, делали работу еще длинней – и, как нафталиновые шарики с антресолей, на меня сыпались затвердевшие от времени комки информации, никак не относившейся к семейной истории, но обозначавшей дверцы, своего рода peepholes, за которыми продолжала ворочаться чужая, непроницаемая жизнь.
Было там, например, донесение по службе, написанное в 1891 году и касавшееся какого-то другого, не нашего Гуревича, дослужившегося, несмотря на свое еврейство, до известных чинов, ставшего начальником тюрьмы – Одесского тюремного замка. На юге России, особенно в Одессе с ее до поры до времени великолепным презрением к тонким перегородкам национального, такое было возможно. Совсем близко, в губернском Херсоне, строил свой первый завод его однофамилец, мой прапрадед. Но у этого, чужого Гуревича что-то там не заладилось, и вот сто двадцать лет спустя я, со строчки на строчку, следила за историей его падения.
Донесение было адресовано Михаилу Николаевичу Галкину-Враскому, начальнику недавно учрежденного Главного тюремного управления.
В истекшем году Ваше Высокопревосходительство, посетив Одессу, изволили обозреть местный тюремный замок и, оставшись довольны найденным в оном порядком, признали справедливым ходатайствовать о поощрении должностных лиц, под надзором которых состоит тюрьма, – за их усердную службу и особые труды. Ввиду этого в числе других был также удостоен награды начальник тюремного замка надворный советник Гуревич, которому Высочайше пожалован и 28 декабря 1890 года вручен орден Св. Анны 2 степени. К сожалению, несколько недавно происшедших в тюрьме случаев выявили безусловное несоответствие Гуревича занимаемой должности, требующей прежде всего быстрой сообразительности, решительности и неослабной бдительности. Наличность этих качеств особенно необходима для Начальника Одесского тюремного замка, где постоянно сосредотачивается значительное количество преступников каторжного разряда, влияющих при отсутствии должного надзора самым разлагающим образом на прочих арестантов, которые, обращаясь в послушное орудие первых, способствуют противодействию тюремным порядкам. К устранению этого явления Гуревичем не принимается никаких мер и, как ныне обнаружено, он нередко помещал в одной камере важных преступников вместе с неважными, вследствие чего последние оказываются в короткое время деморализованными и трудно подчиняются требованиям тюремной дисциплины. Мало того, наблюдением за деятельностью Гуревича установлено, что он позволяет себе часто делать уступки и послабления самым важным преступникам, как бы в угоду им, с целью задабривания. Крайне слабохарактерный и трусливый по природе, хитрый и пугливый Гуревич не в состоянии не только сам проявить власть, но лишает также смелости и ближайших своих помощников и надзирателей, – в трудном деле обуздания арестантского своеволия – необходимой энергии. Поэтому малейшее замешательство в тюремной жизни возводится в происшествие, а какой-либо случай – в серьезные беспорядки.
Для подтверждения вышеизложенного считаю нелишним привесть следующие случаи из жизни Одесской тюрьмы.
1. Приобретший громкую известность зверскими убийствами, грабежами и разбоями арестант Чубчик, осужденный на бессрочную каторгу, во время содержания в Одесской тюрьме неоднократно похвалялся тем, что учинит побег, и невзирая на это, он оставался почти без надзора. Под предлогом мойки белья Чубчик и двое его товарищей, тоже каторжных, были выпускаемы ежедневно по несколько раз из камеры в отхожие места, где в железной решетке окна они успели выпилить железный прут, имевшимися у них так называемым английскими пилочками, затем из утиральников и простынь связать веревку, причем Чубчик успел даже снять с себя ножные кандалы, и спустившись чрез образовавшееся в окне отверстие во двор тюремного замка, пробрались к ограде, но к счастью были вовремя замечены и задержаны.
2. …При поверке арестантов, производимой ежедневно в известные часы, старшие чины тюрьмы нередко отсутствуют и наблюдение за движением арестантов вверяется тюремным надзирателям; постели вопреки инструкциям выносятся из камеры не дневальным, а отдельно каждым арестантом, чем воспользовался в минувшем году ссыльно-каторжный арестант Кузнецов, который в числе прочих вынес и свою постель в башенный коридорчик и там на собственном ремне повесился, не будучи никем замечен.
3…были у них найдены карты, домино, кости, табак и разные металлические вещи, что и записано в соотв<етствующую> книгу замка… На сделанное по этому поводу Инспектором Эверсманом замечание Гуревич совершенно наивно ответил, что «с этими арестантами ничего нельзя поделать, так как при обыске их надзирателями они хватают последних за грудки».
В круглой дырке смотрового глазка, где играют в домино арестанты во главе с Чубчиком, не разобрать дальнейшую судьбу пугливого Гуревича; к делу подшиты рапорты и донесения более поздних лет, из которых ясно, что порядок дел в Одесском замке не изменился и при новом начальнике, которого тоже пришлось сменить. Картинки, приходящие в движение при чтении этих бумаг, наделены курьезной и жуткой реальностью – куда больше, чем пожелтевшие, в чем только душа держится, кружевные манишки моей прабабки, съежившиеся за годы лежания в наследственном чемодане. Не предназначенные для постороннего глаза, не рассчитывавшие на долгую жизнь, архивные тексты наливаются цветом при первом же прочтении, словно только того и ждали: несчастный, один раз упомянутый Кузнецов в своей предсмертной башенке стоит у меня перед глазами, словно больше некому вспомнить его и назвать по имени. Да в общем-то, так оно и есть.
В 1930 году в Ленинграде была напечатана любопытная книжка с названием «Как мы пишем». Известные литераторы, от Горького и Андрея Белого до Зощенко и Тынянова (плюс некоторое количество представителей партийной литературы, думающих ровно то, что надо), рассказывали о том, как у них устроен процесс письма, как работают машинки замысла и исполнения. Среди прочих авторов там есть Алексей Толстой, человек, вернувшийся из эмиграции, чтобы занять диковинную нишу красного графа. Его рассказ – из самых интересных в этой интересной книге.
То, о чем Толстой говорит с недвусмысленным упоением, то, что стало для него образцом и источником вдохновения, – пыточные записи семнадцатого века, показания, записанные безвестными тогдашними чиновниками, дьяками или приказными в присутствии подследственного, с участием дыбы, клещей, огня. Толстой восхищается их умением передавать суть дела, «сохраняя особенности речи пытаемого», «сжато и точно», так что читателю удается видеть и осязать язык, его мышечную структуру. «…Здесь я видел во всей чистоте русский язык, не испорченный ни мертвой церковно-славянской формой, ни усилиями превратить его в переводную… ложно-литературную речь. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал».
Должна сказать, это очень талантливый текст, выстроенный так, чтобы – ценой множества мелких приемов – придать своему интересу форму респектабельности, что-то вроде этической пружинной сетки, позволяющей автору содрогаться от читательского наслаждения, не проваливаясь в бездонную черную яму, что открывается, едва соотнесешь себя с тем, что на самом деле происходит сейчас (и будет происходить всегда, пока живо записанное подьячим), с тем, чей русский язык ты пробуешь на вкус. У толстовского вкуса есть и невидимая подкладка – политические процессы, высылки и казни, еще не развернувшиеся в полную меру, но творящиеся прямо под боком, у края писательского стола: массовые операции ОГПУ, шпионское шахтинское дело, недавний расстрел литератора Силлова – «с действием этого события я не расстанусь никогда», писал Пастернак в том же 1930-м. Русские «судебные акты», как называет их Толстой, с их чередой признаний, вымученных по ходу столетий, видимо, действительно бесценный источник – вопрос в том, какому делу они могут послужить.
Чего Толстой не говорит – что прелесть (со старинной тенью греха и соблазна, лежащей на этом слове) этой речи, то, что делает синтаксис подвижным, а выбор слов точным, состоит как раз в ее вынужденности. Она складывается не сама собой: она не продукт воли, а результат боли. Русский язык судимых и пытаемых – дитя страшной совместности, ее в прямом смысле извлекают из тебя чужими руками. Он лишен внутренней необходимости, это не рисунок, а отпечаток, след сырой, как мясо, событийности. У этой речи нет ни замысла, ни собеседника, и мы можем не сомневаться, что говорящий хотел бы, чтобы она никогда не звучала. Это предельный случай того, что Рансьер называет монументом, – это сообщение, которое полностью сведено к своему поводу и не ищет себе долгой жизни, слушателя и понимания. Речь застигнута здесь врасплох, у последней черты муки и унижения, на грани распада.
И как все, что не предназначено для постороннего глаза, как фотография женщины, которая нас не видит и занята каким-то своим тихим делом, на склоненный затылок падает тень, – слова арестованного на допросе, слова доносчика и свидетеля имеют особого рода отчетливость. Мы видим недолжное, то, чего не должны бы увидеть ни при каких обстоятельствах, и это событие разверзается в уме чем-то вроде взрывной воронки – тем, что историк Арлетт Фарж именует прорехой в ткани времени. Она образуется, когда – вне плана и программы – взгляд ложится на вещи, которых не ждал.
Язык документооборота и судебного производства становится откровением не потому, что на нем нету глянцевой пленки литературы – желания хорошо сказать. Дело скорее в том, что эта речь и ее предмет не имеют сослагательного наклонения. Для них нет прошлого, их от него уже оторвали; у них нет будущего, отсюда его не увидишь. Архивные бумаги целиком находятся в настоящем – и не видят ничего, кроме себя, своего процесса и своего результата. Это жизнь, застигнутая врасплох; это те, кого уже никогда не будет, – выхваченные из тьмы случайным светом и уходящие назад, во тьму.
В книге, написанной Фарж о поэтике и практике архивной работы, освещение сумеречное, словно речь идет о перемещении по катакомбам. Темноту и затрудненность передвижения она описывает постоянно; о толще архива говорит, словно о горной породе, в которой удается различить вкрапления разнородных металлов. Я часто представляю себе, как за столетия подземной жизни информация смерзается в огромное коллективное тело, очень похожее на тело самой земли – уплотненное миллионами жизней, утративших былые значения, лежащих вповалку, без надежды на то, что кто-то опознает их и различит.
В сравнении с архивом с его «переизбытком жизни» у истории узкое горло: ей достаточно нескольких примеров, двух-трех деталей покрупней. Архив возвращает к штучности, к единичности каждого из неведомых нам событий. При этом происходят странные вещи: обобщение как бы начинает слоиться, становится зернистым – заново распадаясь на круглые зерна отдельных существований; части целого поднимаются, как хлебная опара, правила притворяются исключениями. Темнота прошлого становится родом полупрозрачной пленки, постоянно висящей перед глазами, смещающей пропорции и отношения между предметами. О такой подвижной завесе пишет Целан в «Разговоре в горах»: «Стоит явиться вдруг картине, как она застревает в ткани, и нитка уж тут как тут: сама прядется вокруг картины, прядясь, обвивается эта нить завесы, обвиваясь, прядется и творит с ней дитя – полукартину-полузавесу».
* * *
Июльским днем, жара была страшная, и город был заполнен ею по края, я сидела в маленькой комнате Херсонского областного архива над документами революционного комитета. Один из шести тамошних столов, больше напоминавших школьные парты, был застелен, как скатертью, чертежом (белым по синему) завода сельскохозяйственных орудий, о котором речь впереди. Завод с его службами и флигелями был огромен, ему не хватало места, какие-то еще строения свисали за край стола и оставались недоувиденными. Я только что дочитала отчет местной врачебно-санитарной комиссии, где сообщалось, что в 1905 году «розовое саго из лавки Иоффе оказалось окрашено анилином и уничтожены 1 1/2 фунта», а «во всех пивных лавках для мытья стаканов употребляется чашка с водой – предложено обзавестись резервуаром с краном». Среди прочих гигиенических мер обывателям были выданы повестки по очистке и приведению в порядок дворов, ретирадов, помойных ям и сорников: в числе провинившихся были жители Потемкинской улицы Савускан, Тихонов, Спивак, Котлярский, Фальц-Фейн, Гуревич. Всякий раз, как я натыкалась на фамилию прапрадеда, особенно в такой непредусмотренной и даже двусмысленной ситуации, я испытывала укол нежданной близости, словно в тексте отчета острым предметом проделали дырочку, и вот мой глаз обшаривает помойные дворы в поисках пищи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?