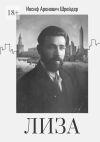Текст книги "Пропущенный вызов"

Автор книги: Мария Воронова
Жанр: Остросюжетные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Лиза оглянуться не успеет, как схлопочет такие неприятности, что останется или уволиться, или, в лучшем случае, перевестись в какой-нибудь отдел с дурной славой.
Сейчас у нее нет особых перспектив, но работа близко от дома, район приличный, коллектив стабильный, вполне нормальное место досидеть до пенсии.
Не хочется по прихоти Зиганшина попасть в такую дыру, куда добираться два часа и каждую секунду кто-то получает в морду.
Лиза почувствовала, как на глазах накипают слезы, так ей стало себя жаль. Всю жизнь она барахтается одна, пытается удержаться на воде, уже не мечтая куда-то выплыть, и не знает, что это такое – уцепиться за протянутую руку.
Никто и никогда ей не помогал, начиная с собственных родителей. Если она бежала к ним со своими бедами и проблемами, единственное, что слышала: «Ты сама виновата» – в разных вариациях. Мама с папой долго и нудно обсуждали ситуацию, указывали, где Лиза допустила ошибку, какие именно негативные свойства характера побудили ее поступить плохо и как хорошая девочка с легкостью могла бы избежать несчастья. Но никогда, ни при каких обстоятельствах они ничего не делали.
Со временем Лиза перестала делиться с родителями, наоборот, если у нее возникали неприятности, первой заботой было сделать так, чтобы мама с папой о них не узнали. Иначе дело усугублялось проповедью, разбором ее морального облика и умствованиями «а вот если бы ты это, то они бы то, и ничего бы не случилось».
Лиза чувствовала себя защищенной только в тот год, который была с Гришей. Она знала, что идет рука об руку с сильным человеком, и вдвоем они смогут пережить любой удар.
Но судьба оказалась еще сильнее, и теперь Лиза болтается одна на самой обочине жизни. Ни должности, ни покровителей, ни заступников. Любой имеет право ткнуть ее носом куда угодно, и она не сможет даже найти утешение в семейном кругу.
Ох, если бы она могла сказать начкриму: «Эй, Зиганшин, я выхожу замуж! Вот вам мои дела, хотите расследуйте, хотите – в задницу засуньте, а у меня теперь другие интересы в жизни!»
Лиза потянулась к телефону. Как бы то ни было, но она имеет право еще на одну попытку!
– Руслан, это я, – сказала она глупо, будто он не видел, кто звонит.
В трубке помолчали, потом сказали:
– Здравствуй, Лиза.
Ей показалось, что Руслан произнес это с большим усилием, и она промолчала в ответ.
– Зачем ты звонишь? – наконец спросил он, и сердце Лизы сжалось в безнадежной тоске.
– Ну просто…
– Лиза, мы же взрослые люди, давай не будем мучить друг друга выяснениями отношений.
– Я просто хотела убедиться, что с тобой все в порядке.
– Со мной все в порядке, и если ты хочешь обязательно услышать от меня, что это все, то хорошо, Лиза. Это все.
Хотелось лечь лицом к стене, свернувшись калачиком, и лежать неподвижно, не расплескивая боль.
И думать, что когда-нибудь все закончится, она сможет уснуть или умереть, словом, исчезнуть, спрятаться сама от себя… Или напиться до смерти с той же целью. Или пойти в церковь и плакать там, понимая, что вместо молитв у тебя выходят только претензии к Богу и упреки, почему он так плохо о тебе заботится. Правда, существует школа мысли, утверждающая, что чем больше Бог тебя любит, тем больше испытаний посылает, чтобы ты окрепла духом и вообще становилась лучше. «Наверное, для Бога это правильный подход, но между людьми такой любви быть не должно, – подумала Лиза, – и, кстати, я лучше не становлюсь, наоборот, только хуже. Сердце мое черствеет, ожесточается. Может быть, в этом весь смысл, когда Бог увидит, как я переполняюсь благодарностью к нему за то, что он отсекает мне все возможности личного счастья, он от меня отвяжется, скажет, на тебе, Лиза, заслужила, и подсунет какого-нибудь затертого неудачника с манией величия типа Гоши в исполнении артиста Баталова».
В общем, существовали разные способы немножко утихомирить душевную боль, но у Лизы были вызваны люди, лежали два обвинительных заключения, и до конца рабочего дня она не могла предаться отчаянию.
Еле-еле удалось взять себя в руки и не запороть допрос, а потом Лиза решила лучше злиться на Зиганшина, чем оплакивать рухнувшие надежды.
Представив в уме сладостную сцену, как Мстислава Юрьевича разжалуют в участковые, и начальник полиции города крутит перед его носом пудовым кулаком, сложенным в фигу, Лиза вдруг подумала, что не так уж начкрим и виноват. Глупость сделала она, что проболталась Пете, подлость – он, что слил ее Зиганшину, а последний как раз отреагировал вполне нормально.
И она еще может отыграть ситуацию. Спросить у Чернышева про его дело, сравнить с информацией, которую ей выболтал Петька, и, может быть, найдется что-то общее.
Она поделится своими идеями с начкримом, а тот дальше пусть как хочет. Отношения с Зиганшиным от этого не улучшатся, но Ильичев обломается.
Чернышев, крепкий парень с вечно сияющей физиономией и глупым, как у коня, смехом, охотно согласился попить с ней кофе и обсудить дело Кривицкого.
Он даже распечатал документы по этому делу, оставшиеся в компьютере, и, с аппетитом отмеряя зубами добрую половину Лизиной булочки, совершенно не беспокоился о такой ерунде, как тайна следствия.
– Я думал, дело в город заберут, все же терпила не последний человек на свете был, но у парня на допросе кукушка слетела, и расследовать стало нечего, – весело сказал Чернышев, – бумаги я все оформил, а дальше пусть психиатры стараются.
– Ты фабулу расскажи, пожалуйста, – Лиза налила в чайник новую порцию воды и приготовилась слушать.
Дело Кривицкого до неприличия напоминало дело Шишкина. Выходя из дома, несчастный проректор вдруг ни с того ни с сего подвергся нападению молодого человека, нанесшего ему несколько ударов в голову топориком для отбивания мяса, какими пользуются многие домашние хозяйки. Дело происходило утром, при большом скоплении народа, но, как это всегда бывает, прошло несколько секунд, прежде чем люди сориентировались, и самые смелые (Лизу не удивило, что это оказались женщины) оттащили убийцу от жертвы. Этих нескольких секунд хватило для нанесения смертельных ударов.
В отличие от Миханоши, который сдался без малейшего сопротивления, этот молодой человек с красивой фамилией Скролибовский вырывался и кричал, будто ему обещали, что он успеет убежать. Но тетки оказались неумолимыми и физически сильными, продержали его до приезда ППС.
Дежурный следователь Чернышев выехал на место, радостно потирая ручки в предвкушении громкого дела, которое, возможно, окажется исходной точкой для головокружительной карьеры, и твердо вознамерился расколоть Скролибовского на заказчика до того, как дело заберут в город.
Сначала парень вроде бы согласился всех сдать, потому что ему обещали безопасный отход с места преступления, а не вышло.
Но только Чернышев потянулся к клавиатуре записывать показания, как Скролибовский заявил, что убить его надоумил посланник, потому что Кривицкий выпустил в мир зло. Зло распространилось очень сильно и скоро поглотит всех, потому что его никто не видит. Но если убить источник зла, то люди прозреют.
Попытавшись получить координаты посланника или хотя бы его приметы, Чернышев услышал только рассуждения на тему: тело небесное – тело земное и прочую заумь, которую прекрасно определяет термин «метафизическая интоксикация».
Больше следователь не узнал ничего существенного, кроме разве того, что люди не видят зла, а он, Скролибовский, видит, поэтому и облечен великой миссией.
В общем, Чернышев с облегчением поставил точку в протоколе и передал убийцу психиатрам.
Поскольку картина преступления нарисовалась сразу, о потерпевшем были собраны только самые общие данные, жизнь Скролибовского изучали немного глубже, но только в рамках предстоящей судебно-психиатрической экспертизы.
Кривицкий сделал честную карьеру. Аспирант – ассистент – профессор – заведующий кафедрой – проректор. Сотрудники отзывались о нем хорошо, никто не мог вспомнить сколько-нибудь значимого конфликта, связанного со служебной деятельностью. В личной жизни тоже все безоблачно: одна жена, две взрослые дочери. Старшая – главный врач родильного дома в Норильске, младшая замужем за подводником и живет в Видяево.
«Похоже, дочки мечтали вырасти и смотаться от родителей, прямо как я, – невесело усмехнулась Лиза, – что ж, им удалось, мне – нет».
Никаких сомнительных сделок Кривицкий не совершал, спорных документов не подписывал и, будучи проректором по науке, не особенно влиял на течение денежного потока.
Может быть, он был ужасным ретроградом и задробил какому-нибудь гению великое открытие? Или присвоил себе? Но даже если так, доказать это нереально. Остается только ждать, что гений объявится сам.
Все в один голос утверждали, что убитого с убийцей ничего не связывало, и действительно, Скролибовский вращался совсем в других кругах.
Мать, повар в школьной столовой, воспитывала его одна, и все странности поведения «сыночки» списывала на безотцовщину.
Сын учился плохо, на занятиях сидел с отсутствующим видом, несколько раз самовольно покидал класс посреди урока. Друзей не завел, интереса к девочкам не проявлял. Иногда месяцами сидел тихо, а вдруг начинал яростно бороться за правду, ссорился с одноклассниками, спорил с преподавателями, причем ни те ни другие не могли понять, о чем весь этот бранный пыл. Словом, картина достаточно типичная, но местным учителям, в отличие от педагогов Миханоши, на парня было глубоко плевать, и в поле зрения школьного психолога Скролибовский не попадал.
Школу он окончил еле-еле, потом как-то отслужил армию, а по возвращении мать устроила его разнорабочим к себе на кухню, но, вероятнее всего, он там не появлялся.
Скорее всего, мама работала за двоих, отстегивая небольшой процент с зарплаты сына директору столовой, но Чернышев решил не муссировать этот скользкий в правовом отношении момент.
Она рано махнула на себя рукой, в сорок пять выглядела на шестьдесят, толстая, с рыжими волосами, испорченными химической завивкой, женщина являла собой такой хрестоматийный образ поварихи, что казалась ненастоящей.
Контакта с ней у Чернышева не получилось, мать была убеждена, что все подстроено «ментами», и обложила следователя таким отборным матом, что он с чистым сердцем переадресовал ее к врачам-психиатрам, которые к тому времени уже занялись Скролибовским.
В этом месте своего рассказа Чернышев поморщился и признался, что чертова мамаша до сих пор не успокоится и бомбардирует все официальные органы жалобами на произвол полиции в отношении ее обожаемого и, главное, совершенно невиновного сына, и какими бы идиотскими ни были эти заявления, на них все равно приходится отписываться. Насколько Чернышеву было известно, с другого фланга она наступает на врачей, которые посмели выставить диагноз нормальному человеку.
– Мания сутяжничества, что ты хочешь, – вздохнула Лиза с сочувствием, – расстройства психики же передаются по наследству, а не с потолка берутся. А у этого Скролибовского была страничка в социальных сетях где-нибудь?
– Слушай, я не проверял. Сама посуди, когда человек тебе говорит, что он призван уничтожить зло, и квалифицированный врач подтверждает, что таки да, призван, какая тебе разница, зарегистрирован он на «Фейсбуке» или нет? И ты, Лиза, тоже не ведись на это психопатство. Единственное, что реально общее у этих дел, то, что у убийц редкие фамилии. Все остальное – лирика.
Чернышев с сожалением посмотрел на пустую тарелку, где еще совсем недавно лежала аппетитная горка булочек, и от души, с хрустом потянулся:
– Вообще дело было мутное, – сказал он весело, радуясь, что все осталось позади, – я со всеми этими экспертизами употел, даже боялся сам свихнуться.
– Что так? – вежливо спросила Лиза. Факты она выяснила, теперь настала очередь Чернышева плакаться, как ему тяжело. «Жаль, что у нас в штате нет психотерапевта, – подумала Лиза, – все равно все держать в себе нельзя, после стресса у человека огромная потребность выговориться. Вот и получается, что мы, не имея штатного специалиста, половину рабочего времени друг другу душу изливаем».
– Вот казалось бы, все просто. У парня кукуху сорвало напрочь, посадите его в дурдом и успокойтесь. Так нет же! Сам по себе факт психического заболевания не налагает на человека никаких ограничений.
– Ты только сейчас об этом узнал? Можно быть десять раз шизофреником, но если суд признает тебя вменяемым и дееспособным, ты ничем не отличаешься от нормальных людей, можешь делать все то же, что и они, и ответственность нести наравне с ними. И вменяемость, к слову, не может быть определена вообще, это понятие применимо только к конкретному деянию, поэтому нет смысла рвать на себе рубаху с криками: «Я сейчас тебя убью, и мне ничего не будет, у меня справка есть!» Таких вожделенных бумажек с лицензией на уничтожение себе подобных психиатры у нас пока еще не выдают.
– Да не в этом суть. Просто сразу началась такая волокита! У парня острый психоз, который, видите ли, драпирует истинную картину заболевания.
– Может быть, зашторивает?
– Ну да! В общем, сначала его понадобилось вывести из острого состояния, и только потом мне удалось пропихнуть парня на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. И ты понимаешь, мне через полчаса понятно, что парень с головой не дружит, хоть я и не специалист, а этой банде психиатров все его меддокументы в подлиннике подавай! Без карты из детской поликлиники они не могли сказать никак, псих он или нет! Ужас вообще…
– А его признали невменяемым или процессуально недееспособным? – спросила Лиза.
Поскольку Скролибовский никогда раньше не обращался к психиатрам с жалобами, а, наоборот, как-то умудрился пройти медкомиссию в военкомате, и его поведение было, конечно, настораживающим, но не указывало напрямую на душевную болезнь, медики могли сделать вывод, что в момент убийства парень понимал, что происходит, и контролировал собственные действия, а душевная болезнь наступила позже, спровоцированная психотравмирующей ситуацией.
Фактически это ничего не меняло, и так и так суд назначал принудительное лечение, но в юридическом плане разница значительная. Человек, признанный невменяемым в момент совершения уголовно-наказуемого деяния, освобождается от уголовной ответственности. Но если судебно-психиатрическая экспертиза признает, что Скролибовский убил Кривицкого будучи здоровым, то и ответить должен как здоровый. Другое дело, что, заболев, он не может быть полноценным участником уголовного процесса, не может адекватно воспринимать происходящее, то есть становится процессуально недееспособным, таким образом, он освобождается от уголовного наказания, а уголовная ответственность сохраняется, и если вдруг бедняге не посчастливится выздороветь до истечения срока давности, то пойдет судиться и досиживать свое с нормальными людьми.
Чернышеву, кажется, все эти тонкости были чужды. Вор должен сидеть в тюрьме, а псих – в психушке! – вот и все его кредо.
Со вздохом он сказал, что Скролибовского признали невменяемым, отправили на принудительное лечение, и слава богу, что он все бумаги оформил как надо, иначе обиженная мать добилась бы пересмотра дела.
Лиза задумчиво нарисовала кошку на прекрасном листе бумаги для принтера. Конечно, это нехорошо с точки зрения служебной дисциплины и экономии лесов, но зато помогает сосредоточиться.
– И все же есть одна странность. Вот смотри, если бы официальной идеологией в нашем обществе был бы клерикализм и мракобесие, и мы в своей работе допускали существование высших сил и их вмешательство в человеческую жизнь, вопросов нет. Ангелы нашептали, что Кривицкий воплощенное зло, и заодно сообщили, кто это такой и где найти. О’кей, им лучше знать, на то они и посланцы небес. Но мы служим, исходя из сугубо материалистических позиций, и считаем, что все эти ангелы и демоны есть продукт деятельности поврежденного мозга. А Скролибовский, даже если полный псих, никак не мог додуматься, что Кривицкий зло, если он его не знал.
Чернышев посмотрел на нее тоскливо.
– Ну смотри. Я могу думать, что банан летает, но для этого мне нужно увидеть банан хоть на картинке.
– Да понял я. Не усложняй. Шел бедняга по своим делам, и тут его перемкнуло.
– Ага, впервые увидел Кривицкого, и озарило: этот человек зло, дай-ка я его грохну, как раз топорик для разделки мяса при себе есть. Еще с утра думал, брать не брать, и взял. Как знал прямо! Согласись, Володя, таскать в сумочке опасную кухонную утварь просто так не станешь. Вспомни, что, если человек позаботился об орудии преступления, это признак заранее обдуманного намерения.
Чернышев кисло улыбнулся и сказал, что все равно это глупости, и нечего вникать в безумную логику. Может быть, Скролибовский этот топорик носил для самообороны или как балласт, чтобы ветром не унесло. А если в городе объявился еще один сумасшедший с похожим почерком, это еще не делает Скролибовского психически здоровым. Невменяемый он, и точка.
Зиганшин позвонил Наташе и в третий раз пригласил ее с детьми к себе.
– Давай, пока лето, пусть воздухом дышат! – воскликнул он с фальшивым воодушевлением и подумал, если она отречется в третий раз, совесть его останется чиста.
– Спасибо, Митя, но нет, – он почувствовал, как сестра улыбнулась в трубку, – я знаю, что мои дети тебя бесят, и, близко зная их, не могу тебя за это винить.
– Потерплю ради их здоровья, – буркнул Мстислав Юрьевич, – помнишь, как папа переживал, чтобы мы свежим воздухом дышали? Твоим тоже полезно. Все-таки целый дядя с домом в деревне, и жалко будет, если эта мощность зря пропадет.
– Они у меня не так чтобы выдрессированы, а если честно, то и совсем невоспитанные. Начнут галдеть, хватать что попало, а я не смогу их приструнить.
– Я смогу.
– Митя, ты не видишь разницы между своими гопниками и озорными детьми.
– А она есть?
– Есть, но я не хочу, чтобы ты постигал ее именно на моих детях.
– Я буду держать себя в руках, – пообещал Зиганшин искренне, – предоставляю только жилье, и все. Никакого права воспитывать твоих детей у меня нет и быть не может.
Наташа засмеялась.
– Ты что?
– Как-то это безнадежно прозвучало, Митя. Быть не может… Жизнь такая, что все может быть. Просто я дорожу нашей дружбой, а если целый месяц проживу у тебя, боюсь, ты потом долго не захочешь меня видеть. Скажешь, на кой черт мне такие родственники, которые разносят мой дом и лишают меня покоя?
– Наташа, клянусь, даже если они раскатят мне дом на бревнышки, в наших отношениях ничего не изменится.
– Это ты сейчас так говоришь.
– Могу подписку дать. Ладно, давай на выходные приезжай, посмотрим, как оно пойдет. Завтра в магазин поедем?
– Ой, нет, завтра не могу! Дежурю сутки.
Зиганшин поморщился. С какой радостью он компенсировал бы Наташе эти несчастные полставки суточных дежурств, но сестра очень ценила свою независимость и говорила, что ей нравится экстренная помощь. Так, мол, она чувствует себя нужной людям. Мстислав Юрьевич этого не понимал. Зачем нужно чувствовать себя нужным? Живи как знаешь, а люди уж пусть сами решают, нужен ты им или нет.
Сегодня я работаю Игнатием. Не врач, не колдун, не шарлатан, просто Игнатий.
Из дома я выхожу в своем обычном облике ханыги. Затертые джинсы, весьма сильно посеченные внизу, кроссовки еще тех благословенных времен, когда советская легкая промышленность неуклюже пыталась перенять передовые достижения западных модельеров, синяя олимпийка и сверху болоньевая курточка. Есть у меня еще шапка-петушок, но если ее надеть, образ получается опереточным, даже карикатурным.
Эпатаж, как говорят в хорошем обществе. А я не хочу никого эпатировать. Наоборот, стремлюсь быть тихим и незаметным алкашом, про которого соседи могут сказать только, что он, слава богу, на лестнице не гадит, соседей снизу не зальет и дом не спалит. Поэтому я надеваю бейсболку как шапку-невидимку.
Захожу в торговый центр. Сегодня я выбрал ближайший к дому, потому что клиент живет недалеко, а вообще превращаюсь в Игнатия в разных местах, чтобы не примелькаться охране.
В центре светло и хорошо пахнет, много стекла с алюминием, на второй этаж ведет эскалатор. Я оглядываю витрины и не могу отделаться от глупого ощущения, что, несмотря на современные интерьеры, броские вывески, красиво оформленные витрины и пафосные названия, ассортимент мало отличается от тех унылых безвкусных вещей, которые висели в магазинах во времена моей юности.
Впрочем, я сюда не шопиться пришел.
Поднимаюсь наверх и сразу поворачиваю в туалет. Там, закрывшись в кабинке, я переодеваюсь в черные джинсы и черную же водолазку. Вера сказала бы, что у меня вид как у приверженца однополой любви, но мне и нужно выглядеть неопределенным. Зыбким, чтобы собеседник гадал, то ли умный перед ним, то ли дурак, то ли гей, то ли натурал, честный человек, а может быть, проходимец? Надо, чтобы никто ничего не мог сказать наверняка.
Под бейсболкой у меня не сальные патлы, как логично представить, а короткая стрижка, сделанная в хорошем салоне. Выйдя из кабинки, я смотрюсь в зеркало: стройный человек в черном, с густыми русыми волосами, в которых только начинает поблескивать седина. Место моего сегодняшнего перевоплощения выдержано в темных тонах, стены, например, облицованы мелкой плиткой цвета маренго, и эта мрачность, а особенно белые щели между плитками придают мне шикарно-демонический вид.
После того как я снял куртку с рукавами, как у Пьеро, стал виден браслет моих часов. Эту дорогую игрушку я купил не потому, что хотел, а было просто интересно, способна ли мне в принципе новая вещь доставить хоть мимолетную радость. Оказалось, не способна. Помню, я надел часы на руку и почти сразу забыл, что они у меня есть. Когда понадобилось узнать время, по привычке полез в мобильник и только через несколько дней привык смотреть на циферблат. Радости не доставляет, но для бизнеса вещь полезная. Когда клиенты видят мои часы, понимают, что не они одни такие лохи, выкладывающие мне кругленькие суммы, успокаиваются, расслабляются, и вообще у них поднимается настроение.
Запихиваю свой alcoholic-style в большую клеенчатую сумку и, последний раз полюбовавшись на себя в зеркале туалета, спускаюсь на первый этаж, где оставляю сумку в камере хранения при гипермаркете, и выхожу на парковку. Такси уже ждет.
После того как я освободился, в принципе, со временем мог бы вернуться в профессию. Нашлось бы место, где такой кадровый голод, что взяли бы человека с подмоченной репутацией. Но пока сидел, пока действовало ограничение на медицинскую практику, истек срок моего сертификата. Я потыкался, попытался записаться на цикл платно, готов был оплатить учебу из своего кармана, но по странному совпадению, как только я хотел зачислиться, в группе не оказывалось совершенно свободных мест. Ни единого! Нигде!
Конечно, это не было злым умыслом начальников кафедр, просто они придерживались мудрого правила: не хочешь себе зла, не делай другим добра.
Если я его не стану обучать, мне точно ничего не будет, а если стану, то еще неизвестно. Так на кой? Эта простая человеческая логика была мне близка и понятна, поэтому я не обижался, да и, в общем, на том месте, куда я устроился сразу после освобождения, мне нравилось, и я не хотел его покидать.
После смерти Веры я тоже перестал числить себя среди живых. Сам я, в принципе, не изменился, но люди совершенно перестали меня интересовать. «Я смотрел в эти лица и не мог им простить, за то, что у них нет тебя и они могут жить», – эту песню я до сих пор не могу спокойно слушать, настолько точно она передает мое душевное состояние.
Только я не смотрел в эти лица. Вообще ни в какие лица.
Нашелся только один человек, который помог мне после освобождения, и ирония состоит в том, что от него я меньше всего мог ожидать чего-то. Мы не были ни друзьями, ни коллегами, всего общего – несколько совместных дежурств.
Однако именно этот доктор с помощью сложной цепочки нашел мне место могильщика. Была в этом своя ирония, тонкая и сложная, как французские духи, но, поскольку кладбище оказалось то самое, где похоронена Вера, я без колебаний согласился.
Наверное, я был не очень хорош к своим коллегам по лопате. При первой же возможности я готов был улизнуть к ее могиле и часами там сидеть, разговаривая с ней или ухаживая за памятником, чтобы все выглядело красиво. Помню, сразу посадил плющ, купленный у бабки возле кладбищенских ворот, не знал тогда, что бабки эти страшные мошенницы. И странное дело, плющ разросся какими-то сказочными темпами, обвил всю Верину оградку пушистыми изумрудными листьями и забросил свои побеги на соседнюю могилку. А когда я уже выяснил про бабок правду, ничего не приживалось, что бы я ни покупал у них. Приходилось ездить в Ботанический сад за рассадой.
Я чистил дорожки вокруг ее могилки, внимательно читал надписи на соседних обелисках, если там были фотографии, разглядывал их, пытаясь представить, какими эти люди были при жизни.
Поодаль располагался необычный памятник: высокая стела из белого мрамора, с укрепленным на ней медным барельефом, изображающим голову человека в летном шлеме, а в подножие монумента будто врезался самолет. Скульптор выполнил самолет из меди, и так хорошо у него получилось, что верилось, будто это действительно настоящий самолет потерял управление и спикировал на могилу летчика.
Каждый день я собирался навести справки об этом человеке и каждый день, придя домой, забывал. Тогда еще не было Интернета, чтобы ввести в строку поиска нужную информацию и, не вставая с дивана, наслаждаться результатами.
В общем, я жил интересами мертвецов, убеждая себя, что Вера просто переселилась в этот кладбищенский мир, что душа ее плутает где-то поблизости, и скоро я к ней присоединюсь.
Впрочем, от работы я не отлынивал и через несколько недель с удивлением обнаружил, что труд могильщика делает из меня просто нереально здорового человека. Перестала болеть спина, исчезла мучившая меня бессонница, коленки больше не хрустели, и я не смог вспомнить, когда у меня последний раз болела голова.
Наверное, могильщики наливаются жизненной силой по тому же принципу, по которому буйно растут цветы в больницах.
На пути от нашей сторожки до Вериной могилы располагался еще один красивый памятник. Тоже из белого мрамора, он представлял собой скульптуру ангела, изваянного в необычной позе. Обычно ангелы изящно, но с известной долей отстраненности склоняются к склепу или могиле, а этот упал лицом вниз, бессильно свесив крылья, как ребенок, уставший делать домашнюю работу, утыкается лицом в книги.
Этот ангел не просто сочувствовал, нет, он был сокрушен утратой.
Я не часто ходил мимо него, предпочитая другую, более короткую дорогу. Но тут наступила весна, снег стал таять, стекая в воды нашей кладбищенской речки, бурые и непрозрачные, как кофе с молоком. В низине земля превратилась в угольно-черную жижу, предательски скрывающую пласты лежалого и очень скользкого снега, поэтому я пошел поверху, думая, что в такое время не встречу ни одного человека.
Действительно, кладбище пустовало. Под голыми мокрыми стволами кладбищенских лип и тополей испарялись последние сугробы, и воздух был пропитан дождем до самого неба.
Она сидела возле ангела, и, еще не заговорив с ней и не увидев глаз, я понял, что здесь нужна моя помощь.
Я подошел, чтобы сказать всего лишь несколько дежурных слов, что она промокнет и простудится, а в результате мы проговорили целый час. Несмотря на то что женщина оказалась молодая и красивая, ухоженная до такой степени, что выглядела собственной очень дорогой копией, я не испытал к ней ни влечения, ни особого сочувствия. Больше всего это походило на состояние, когда после долгого перерыва начинаешь колоть дрова или садишься на велосипед: «А руки помнят!»
Я не спросил, кто лежит под этим ангелом и отчего она так горюет, с самого начала решив не покушаться на ее печаль. Память об ушедших человек должен хранить в своей душе нетронутой.
Думаю, я не смог бы жить, если бы какой-нибудь психотерапевт избавил меня от тоски по Вере.
Мы говорили, пока не продрогли и я не заметил, что губы моей собеседницы дрожат и посинели, а сама она ежится, растеряв половину своего лоска и став от этого гораздо приятнее.
– Мне стало легче, – сказала она удивленно, – будто вы прут какой-то из меня выдернули… Кто вы?
Тут я и назвался Игнатием. Сначала сам удивился, что с языка сорвалось это имя, а потом сообразил, что фамилия погибшего летчика была Игнатьев. Она хотела встретиться еще и попыталась выяснить, где меня можно найти. Я пожал плечами. Мобильного телефона я не завел, потому что не хотел ни с кем общаться, за стационарный не платил по тем же соображениям, и его отключили. Хотел было признаться, что работаю здесь, но в последний момент осекся. Вдруг ей будет неприятно, что целый час изливала душу перед могильщиком?
Сказал, что сам приеду к ней, когда она назначит.
Как я уже говорил, физический труд пошел мне на пользу, я поднабрал мышечной массы, и «доотсидочные» одежды больше не болтались на мне, как флаг на древке.
Собираясь в гости, я надел костюм, приготовленный для защиты (поскольку с защитой вышел облом, теперь я берег его на свои похороны), рубашку приглушенного салатного цвета и галстук с импрессионистским рисунком. Новых ботинок я не покупал сто лет, но щетка и обувной крем сделали чудеса.
Кажется, я первый раз после освобождения открыл шкаф и с удивлением нашел там прекрасную кожаную куртку. Не сразу удалось вспомнить, что я купил ее за три дня до ареста, и странно было держать в руках такое вещественное свидетельство того, что прежняя жизнь мне не приснилась, а все происходило в реальности и именно со мной, а не с кем-то другим.
Куртка села как влитая, но прежняя жизнь все еще была не впору…
Стоит ли говорить, что я постригся и тщательно выбрился, и теперь из зеркала в прихожей на меня смотрел настоящий английский денди. Для полного сходства я взял зонтик и уже потянулся открыть дверь, как сообразил, что соседи знают меня совсем другим. Отчаявшимся, сломленным человеком, и мне не нужно, чтобы они начали судачить о том, как я изменился и почему. Люди у нас не любят, когда человек встает на ноги после удара. Пока он лежит в грязи, безвольный и растоптанный, его жалеют и даже помогают. Но стоит только ему подняться, сразу начинают думать, что вообще-то он мало получил. Сейчас они избегают бывшего зека, а что будет дальше? Жизнь моя станет чередой бесплатных консультаций, а если я попробую отказать, то участковый милиционер станет частым гостем в моем доме, потому что каждая отвергнутая бабка сочтет своим долгом ему на меня настучать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?