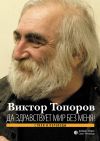Читать книгу "Марк Талов. Воспоминания. Стихи. Переводы"

Автор книги: Марк Талов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Прожил я у Оскара недолго. Приближался конец декабря – последний срок оплаты квартиры, в которой Оскар жил с женой и маленьким сыном, зарабатывая на жизнь семьи вышиванием подушек. В те времена домовладельцы в Париже взимали со съем-
щиков плату за жилье сразу за три месяца, причем платить можно было не вперед, а в конце срока. Как и многие эмигранты, Лещинский этим пользовался и удирал, не дожидаясь конца триместра. Я помогал Оскару по ночам тайком переносить вещи в другую квартиру. Новое жилье Лещинских было совсем маленьким, и скоро я остался без пристанища.
Но пока я жил у Оскара. Стол его был завален гранками книги его стихов «Серебряный пепел», второго номера журнала «Гелиос». Кроме того, готовились к печати книги П. Чичканова «О творчестве Ходлера» и Эренбурга «Поэты Франции», книга стихов В. Немирова «Вечерний сад», дебют Веры Инбер – книга «Печальное вино». Все эти издания финансировал Валентин Немиров, прожигавший одно за другим «наследство всех своих родных». Здесь я впервые услышал имя Ильи Эренбурга, склонявшееся у Лещинских во всех падежах.
Литературно-художественный кружок, куда меня в ближайшую субботу привел Лещинский, собирался раз в неделю в кафе на авеню d’Orleans, 2. В том же кафе по другим дням встречались русские политэмигранты. Часто бывал там Ленин, когда жил в Париже. Его я не видел, это было до моего приезда, знаю об этом только со слов. Бывали здесь Луначарский, Алексинский, Виктор Чернов, Антонов-Овсеенко и др. Собирались они вместе, спорили. Непримиримого расслоения среди политэмигрантов тогда еще не было.
Я выступил со своими стихами и тут же был принят в члены кружка. Помню, в этот вечер были здесь поэты и художники: Елизавета Полонская, Валентин Немиров, Кирилл Волгин, Михаил Герасимов, Николай Ангарский, Оскар и Марк Лещинские, Иннокентий Жуков. Позднее я встречал здесь Семена Астрова, Николая Оцупа, Андрея Соболя, Виктора Чернова, поэтов Таслицкого, Бравского, Марию Шкапскую, Пржездзецкого, критика Вешнева. Участвовал в диспутах и Анатолий Луначарский. Я регулярно бывал здесь на литературных вечерах, читал свои стихи2. Мы собирались издать сборник участников Литературно-художественного кружка, но началась война, кружок распался. Многие были мобилизованы, другие уехали из Парижа.
А в первый мой вечер в кружке, по окончании выступлений, мы всей гурьбой отправились в «Ротонду».
«Ротонда» и ее завсегдатаи. Ностальгия.
Знакомство с Ильей Эренбургом. Константин Бальмонт
Впервые ступив на порог «Ротонды» всего через две недели после приезда в Париж, я был околдован ее феерическим видом, опьянен шумом, спорами, свободно выражаемыми суждениями. За каждым столиком сидели «звезды», окруженные своими почитателями и последователями. К потолку вместе с парами алкоголя и кольцами сигарного дыма восходил гул мужских и женских голосов, певших модную тогда мюнхенскую песенку «О, Сусанна». Я никого еще не знал по имени, кроме Пабло Пикассо, на которого мне указали. Впервые я увидел здесь Эренбурга, о нем я был уже достаточно наслышан. Худой, высокий. Шляпа на нем такая, будто он мыл ею пол. Похож на Рембо. Он курил трубку, что-то весело изрекал…
С тех пор все свободное время, а его было больше, чем достаточно, я проводил в «Ротонде», ходил туда каждый день. Она приковала меня к себе, стала моим домом, как и для многих поэтов и художников. У меня появились здесь друзья, угощавшие меня, голодного, чашечкой кофе, а чаще абсентом, от которого я с ног валился. Сначала это была группа скульпторов – Инденбаум, Чайков, Мещанинов. Меня зазывали за другие столики, расспрашивали о России. Однажды меня поманил к своему столу какой-то буржуазного облика безукоризненно одетый человек. Угощал меня, начал о чем-то расспрашивать. Иностранец, а я кроме русского, никакого языка не знаю. А потом меня осаждали вопросами: «Что вам говорил Томас Манн?» – «Да я и не понял его… Это был Томас Манн?»
Что же собой представляла «Ротонда»? Кафе, расположенное на углу бульваров Монпарнас и Распай, состояло из двух отделений. Одна часть во всю длину занята оцинкованной стойкой, парижане называли ее просто «цинком»: «Выпить у цинка», «Занять столик у цинка». Стоишь у «цинка», и перед тобою играет переблеск на темно-зеленых бутылках самой разной формы. В них апперетивы, крепкие напитки. На левом краю «цинка» на фоне высокого никелевого самовара, в котором почти целые сутки варился кофе, выделялась стройная фигура женщины бальзаковского возраста – жены владельца «Ротонды» – мадам Либион, сидев-
шей за кассой. Перегородка из богемского стекла отделяла «цинк» от основного зала: в стены инкрустированы зеркала, вдоль стен во всю длину – удобные, мягкие, обитые кожей сиденья; мраморные, с розовыми прожилками столешницы на треногах. Три, иногда четыре гарсона, обслуживают клиентов. Высокий, сутулый, густобровый брюнет Антуан. Пышные усы по-гальски свисают тонкими концами почти до подбородка. Добродушный крестьянин, умеющий ладить даже с самыми безденежными клиентами. В противоположность ему, Гастон не лишен элегантности. Тонкие черты лица. Весьма холоден с теми, кто не пользуется кредитом владельца кафе месье Либиона. Мишель – коренастый полный человечек, расторопный и живой. К делу подходит практически. Если у тебя в кармане несколько су и ты можешь заказать себе лишь чашечку кофе, а собираешься просидеть здесь целый вечер, за столик Мишеля лучше не садиться. Если Гастон при этом только скривит недовольно физиономию, то Мишель бесцеремонно несколько раз даст тебе понять, что пора и честь знать. И, наконец, сам владелец кафе – седой рослый человек лет шестидесяти, плотная представительная фигура, слегка прихрамывает, держится бодро. Это форменный ментор, буржуа, душа и меценат своей многочисленной клиентуры, сплошь состоящей из прекрасных натурщиц, поэтов, художников и скульпторов вольных академий Шеврезской улицы, людей разных языков и состояний, которых судьба привела сюда с разных концов земного шара.
«Ротонда» не была похожа ни на какое другое кафе. В ней собиралась художественная богема, которая творила, голодая и пьянствуя, а когда деньги истощались, на помощь приходил сам хозяин кафе Либион, друг художников, который не забывал и своих интересов. Под залог картин он давал художникам деньги, чтобы они могли продолжать кутеж в его же кафе: «На, возьми, но смотри, сукин сын, пропей их у меня в кабаке!» Обыкновенно залог оставался в собственности Либиона. Он оказался вскоре владельцем обширной коллекции картин, которые перепродавал захаживавшим в кафе собирателям, в том числе богатым иностранцам. Богемствующие художники превращались позднее в мэтров, работы которых, к сожалению, часто уже после их смерти, продавались за сотни тысяч долларов.
Тем не менее Либион не был похож на других хозяев. В трудную минуту он поддерживал художников. Они могли в кафе не
только выпить (как бывало обычно), но и поесть. Среди посетителей «Ротонды» было много бездомных, проводивших ночи «под звездочками», как любил говорить А. Куприн, тоже живший в те годы в Париже. Бездомные ночевали под мостами, в Тюильрийском парке или даже в воровских притонах, которых было множество в рядах Центрального рынка, знаменитого «Чрева Парижа». Либион разрешал подававшим надежды бездомным художникам ночевать в креслах своего кафе при условии, что они будут вести себя чинно, не производя никакого шума, не устраивая скандалов. Предоставление ночлега в кафе шло вразрез с существовавшими правилами, грозило штрафами и иными непредвиденными неприятностями. «Бездомники», получавшие возможность совершенно безвозмездно соснуть три-четыре часа, никем нетревожимыми и незамеченными, этот договор не нарушали. Какие бы скандалы не происходили в кафе днем, Либион никогда не звал полицию, чем еще больше привлекал богему – людей часто без прав, без бумаг, каким был и я. Там, в «Ротонде», мы были, как у Христа за пазухой. И. Эренбург рассказывал мне, что на похоронах Либиона было очень много художников. Они любили его, и он любил их.
«Ротонда» была пристанищем не только непризнанных и полупризнанных поэтов, художников, композиторов, но и людей с известными именами, настоящих «звезд» в мире искусства.
Здесь засиживались такие мастера, как Поль Синьяк, Шарль Герен, Анри Матисс, Марке, Вламинк. Художники парижской школы – Модильяни, Сутин, Кислинг, Малевич, Кирилл Зданевич; молодые тогда скульпторы Архипенко, Цадкин, Липшиц, Мещанинов и такие мастера, как Бурдель, Майоль, Шарль Ленуар. Там бывали поэты почти всех направлений, среди них группа новых властителей умов, модных поэтов во главе с Гийомом Аполлинером – Макс Жакоб, Блез Сандрар, Андре Сальмон, принц поэтов Поль Фор. Уже в Москве Анна Андреевна Ахматова рассказывала мне, что бывала в «Ротонде» в 1910 году, а потом в 1911 году. Частыми гостями «Ротонды» были и композиторы – Равель, Венсан д’Энди, Эрик Сати, Пуленк… Математик Виктор Розенблюм, философ Маритен. Захаживал Анатоль Франс. «Ротонда» была местом встреч художников всех континентов: индус Хари, японец Фужи– та, индеец, украшенный перьями, подобно героям Майн Рида; мек-
сиканец Ривера, испанец Пикассо, чилиец Ортис де Сарате, португалец Мальбюнсон…
Среди веселой, нищей и расточительной богемы были и разочарованные миллионеры, художники-дилетанты, художники и меценаты «от нечего делать». Таким был Лев Гукасов, обрусевший армянин, соривший направо и налево деньгами, которые он получал от собственных нефтяных разработок. Безукоризненно одетый, в смокинге, внешне неприятный, маленького роста, с лицом, изрытым какой-то болезнью, он внушал чувство омерзения. Однако художники и поэты, почуяв денежный мешок, облепляли его, как мухи мед3.
Вольность, царившая здесь, непринужденность атмосферы, дух содружества влекли сюда разных представителей русской политической эмиграции. Здесь можно было встретить и Антонова-Овсеенко, и Чернова, и Савинкова, и Троцкого. Бывал там Ленин (до моего приезда). Побывал в «Ротонде» даже брат Николая Второго – Михаил. Этой смесью того, что обычно не сходится, смесью противоположностей, «Ротонда» и была замечательна.
А с чего все начиналось? Об этом мне рассказывал скульптор Павел Вертепов, погибший на Марне в самом начале войны. Вначале у Либиона было только одно небольшое помещение. Входя с улицы, подходили к цинковой стойке, пили и закусывали. Но Либион предпринял ловкий ход. Он зазвал к себе натурщиц, позировавших в соседних вольных академиях, и попросил их приводить с собой в бар художников. За это обещал натурщицам бесплатно их кормить. Так здесь появились художники. Постепенно клиентура увеличивалась, бар превратился в место сборища богемы. Становилось тесно, и Либион пристроил веранду-беседку, обзавелся инвентарем, плетеными креслами, еще полдюжиной столиков, нанял гарсона и повесил яркую вывеску «А la Rotonde». Вскоре и здесь стало тесно, часть клиентов переместилась в «Дом», кафе, расположенное напротив. Тогда Либион дал отступного хозяину мясной лавки, которая примыкала к кафе со стороны бульвара Монпарнас, и переоборудовал ее в основной зал. Эта перестройка произошла за полтора-два года до моего приезда.
Валом повалили в кафе художники и поэты, за ними потянулись клиенты побогаче, привлеченные экстравагантным видом художественной богемы, собиратели, скупщики картин.
Сначала я с любопытством дикаря внимал рассказам старожилов, приглядывался к окружающему, вспоминал недавнее прошлое, когда в каждом встречном жандарме видел своего преследователя, нелегально переходил границу. Все здесь походило на беззаботность нищих принцев. Жизнь казалась сплошным праздником. Но вскоре я сильно запил. Началась безумная ностальгия. День мой в «Ротонде» начинался с неизменного бокала абсента. Я бормотал что-то невразумительное, читал пьяным голосом стихи и обливался слезами. Меня слушали и задавали один и тот же вопрос: «Зачем вы бежали из России? Думали ли вы, что ждет вас в Париже? Эх, дядя Талов!».
Однажды художник Грановский, тоже одессит, подвел меня к столику, за которым сидел И. Эренбург, окруженный группой почитателей. Там были Осип Цадкин, Кислинг, жена Ильи Григорьевича Катя33
* Екатерина Оттовна Шмидт
[Закрыть]* , художники, поэты. Я еще никого из них не знал. Я еле держался на ногах от выпитого. Кто-то усадил меня напротив Эренбурга, а он попросил меня прочесть свои стихи. Я читал первое, написанное мною по приезде:
Здесь я постиг всю горечь одиночества,
Здесь муки начинаются мои.
Нет у меня ни имени, ни отчества,
Ни Родины, ни счастья, ни семьи.
Язык заплетался, я плакал. Не знаю, как дочитал до конца. Эренбург проникся ко мне участием: «Есть ли у вас родные, откуда вы?» Я что-то рассказывал. Так состоялось наше знакомство4.
Позднее мы встречались в «Ротонде» изо дня в день, обменивались замыслами, неоднократно вместе выступали со своими стихами, поклоняясь той Деве, о которой так хорошо сказано в оде Джона Китса:
А третья – та, которую во гневе
Всегда бранят – была любима мной:
Поэзия! То – демон мой жестокий.
Эренбург держал себя тогда очень независимо. О нем много говорили. Интересным поэтом его считал Н. Минский. Его почитателями и последователями были братья Лещинские – Оскар и Марк, хотя многие участники Литературно-художественного кружка его высмеивали. Видимо, потому, что в это время он уже не интересовался этим кружком, не посещал его.
В «Ротонде» я познакомился с Паоло Яшвили. Он только что окончил гимназию, приехал в Париж изучать искусство. Помню сочиненный при мне его экспромт:
Тянется в «Ротонде» время
Медленно, мой дорогой.
Хоть за чашкой кофе-крема
Дай убьем его с тобой!
Яшвили помогал К. Бальмонту переводить «Витязя в тигровой шкуре», а потому часто бывал у него. Он привел меня к Бальмонту в феврале 1914 года. Меня и бывшего уже там Илью Эренбурга усадили за особый «детский» столик вместе с дочкой Бальмонта – Нѝникой, а за длинным, ярко освещенным столом восседали Константин Дмитриевич с Екатериной Алексеевной44
* Екатерина Алексеевна Андреева.
[Закрыть]* и их гости. В тот вечер кроме Яшвили здесь были переводчик Биншток, скульптор Виттих, поэт Балтрушайтис… Константин Дмитриевич попросил меня прочесть стихи. Я вышел из-за стола, отступил на два шага и сел на печку, с которой мгновенно встал, обжегшись5.
В тот вечер я прочитал свою поэму «Весенняя прогулка». Гости ее хвалили, а Бальмонту понравились своей строго классической формой мои сонеты, хотя он восстал против ярко выраженных в них «испанизмов».
Затем своим колдовским голосом, как будто заклиная, читал сам Бальмонт: «Звук зурны звенит, звенит…» и неповторимое, таинственное «Агни».
А уже в 1920 году, во время второй его эмиграции я часто встречался с Бальмонтом. Показывал ему «свой» Париж – закоулки, которыми беспаспортным пробирался в «Ротонду», места ночлега под мостами, в парках. Сидим с ним как-то в кафе, пьем, конечно. Елена Константиновна55
** Елена Константиновна Цветкова.
[Закрыть]** просит: «Не пей! Не надо пить!»
Вышли у него сигареты. Выходим из «Ротонды», чтобы купить. Два часа ночи, все закрывается. Константин Дмитриевич останавливается посреди улицы, кричит: «О, la belle France, que je t’aime!» (О, прекрасная Франция, как я тебя люблю!).
Бальмонт познакомил меня с Мережковским, которого очень любил, часто бывал у него. В одну из встреч Константин Дмитриевич подарил мне свою книгу «Дар Земле» с надписью: «Марку Владимировичу Талову с чувством искренней симпатии. К. Бальмонт, 1921, 9 мрт.» Вручив книжку, Константин Дмитриевич попросил подождать: «Я переоденусь и мы с вами пойдем к Мережковским». Был холодный день, и я пришел в пальто, оставил его в передней. У Мережковских мы пробыли до 12 ночи. Распрощавшись, вышли на улицу. Я машинально сунул руки в карманы – в одном – два апельсина, в другом – 3 пачки английских сигарет и 50 франков. Это Константин Дмитриевич мне положил. Он добрейшей души был человек, об этом просто не все знали.
Владимир Полисадов. Религиозные искания
В литературно-художественном кружке я познакомился, а затем подружился с поэтом и художником Иннокентием Николаевичем Жуковым, автором книги «Замок души моей». Он выдумывал и воплощал в глине «божков» и зверей, в черты которых вносил что-то от того или другого знакомого. Как-то в разговоре с ним я вскользь упомянул о своем интересе к католичеству. Еще в России с ранних лет я был подвержен мистицизму, увлекался религиозными исканиями. Иудаизм отталкивал меня фанатической обособленностью. Во Франции на меня неотразимое впечатление произвели своей театральностью великолепные ритуалы римско-католической церкви. Жуков познакомил меня с русским художником Владимиром Полисадовым, перешедшим в католическую веру.
Владимир Александрович (в монашестве брат Кирилл) – худой, даже изможденный человек с детски лазурным взором, коротко остриженный, с челкой на лбу и тонзурой на макушке, на лице написано благочестие. Третья степень монаха Доминиканского ордена не лишала его права жениться, но в быту он придерживался всех прочих ограничений, существовавших в монастырях. Не пропуская треб, он молился у себя дома, стоя перед воздвигнутым им аналоем, вел строгий образ жизни. В своей
мастерской брат Кирилл живописал лики Мадонны и святых, преимущественно же св. Доминикия, знаменитого Кастильского проповедника. Жена Полисадова, племянница Владимира Соловьева Ксения Михайловна, была во всем противоположностью своему мужу. Насколько он был сердоболен и отзывчив, настолько она была высокомерна, холодна, взбалмошна. Ростом она была выше своего мужа на две головы.
Полисадов чрезвычайно обрадовался случаю привести иудея на путь истины: водил меня по капеллам и монастырям, давал пояснения, наставлял, требовал покинуть «этот излюбленный диаволом вертеп “Ротонду”», бросить пить, внушал, что в меня свыше заложена чисто христианская покорность… В результате он подчинил меня своему исключительному влиянию.
Я был наивен, многого не замечал, многое тогда мне было непонятно. Истинную подоплеку католического рвения Полисадова я понял значительно позже. Он был расчетлив. В то время, как художники-левобережники ютились в тесных каморках, жили впроголодь, он занимал прекрасную квартиру из четырех комнат на правом берегу Сены. Жили они с женой на широкую ногу, а на это нужны были немалые деньги. Полисадов завел обширные связи в католическом мире. Его принимали в аристократических кругах, был он вхож к принцам и баронам. С некоторыми из них он и меня познакомил, например, с бароном Гелионом де Бэрвиком. Думаю, что сделал он это не без расчета. То, что он вел заблудшую душу к купели, должно было зачесться ему в плюс среди людей этого круга. И брата Кирилла не оставляли на задворках состоятельного общества. Если предстояло расписать новую церковь, ему, русскому католику, отдавали предпочтение. На поощрения благого дела аббаты не скупились.
Когда Полисадов убедился в незыблемости моей воли принять католичество, в решении постричься в монахи, он начал строить планы моей будущей деятельности. Прежде всего он повел меня к бенедиктинцу аббату дом-Бессу, настоятелю женского монастыря на улице Monsieur. Об этом аббате брат Кирилл отзывался весьма почтительно: «Он очень благочестив, этот бенедиктинский монах. Уже одно то, что он является духовником претендента на престол Франции – Анри, графа Парижского, говорит о многом!».
Отец дом-Бесс, низенький человек с огромным животом, курносый, с бабьим лицом, сиявшим благодушием и святостью, подав-
лял верующих своим высоким авторитетом в толковании книг отцов церкви. На обеднях и повечериях гимны по его почину исполнялись бенедектинками на старинные, всеми основательно позабытые, грегорианские мотивы. Любители грегорианских песнопений стекались в этот монастырь со всех концов Парижа. Много труда положил дом-Бесс, чтобы отыскать старинные церковные ноты и возобновить службы, так, как было в шестнадцатом веке.
Нахваливая мою благочестивость, брат Кирилл представил меня аббату. Дом-Бесс посмотрел испытующе мне прямо в глаза и, видимо, удовлетворенный впечатлением, обещал снестись с отцом– иезуитом, которого попросит заняться мною, подготовить меня к крещению. Затем в моем присутствии дом-Бесс с братом Кириллом обсудили, куда меня определить после принятия католичества, и решили, что лучше всего мне пойти в семинарию. Наконец, мы простились с дом-Бессом, и брат Кирилл восхищенно уже на улице, строил мое будущее: «Вы представляете себе, что будет, когда вас посвятят в епископы? Вы будете первый русский человек, принявший епископский сан! А там, весьма возможно, станете и кардиналом! Как будет хорошо!».
Не теряя времени, через несколько дней брат Кирилл пошел со мной к отцу-иезуиту, с которым дом-Бесс успел уже переговорить. Под руководством отлично владевшего русским языком отца Руэ де Жуанно я стал вникать в смысл каждого параграфа катехизиса, часто посещал бенедектинский монастырь. Там за решеткой, с накинутыми на лица покрывалами, монашенки пели псалмы и гимны. Мне казалось, будто подхватываемые их молодыми голосами херувимы плескали крыльями под самыми сводами капеллы. Мое сердце переполнял фанатический энтузиазм. Я преисполнен был христианского смирения. Раз в неделю я навещал дом-Бесса в его ризнице, где, после собеседования о спасении моей души, он сжимал на прощание мне руку, оставляя в ней серебряную монету и приговаривал: «Не смущайтесь, сын мой! Примите… Это даяние чистого сердца, во имя господа нашего Иисуса Христа!». И я благодарил его, не чувствуя унижения.
Изучение катехизиса тормозилось, с одной стороны, незнанием мною французского языка, а с другой – тем, что я предпочитал отсиживаться в «Ротонде» за стаканом абсента, наблюдая с жадным любопытством жизнь богемы, которая представлялась мне
безумной вакханалией, фейерверком. При этом я влачил жалкое существование, нуждался в самом необходимом, не имел своего крова, часто ночевал под открытым небом в Тюильрийском саду, на набережной, иногда в «Ротонде».
А из дома в это время шли безрадостные письма. Отец жаловался, что несколько раз приходил надзиратель, все в доме перерыл. Наложенный штраф уплатить невозможно, отец отделывается взятками. Этому не видать ни конца, ни края, он, в конце концов, выбился из сил. Я не знал, что делать. Меня терзали угрызения совести. Чтобы избавиться от них, решил было возвратиться в Россию. В самом деле, не будучи дезертиром – я ведь не давал присяги, просто уклонился от воинской повинности – я мог отделаться лишь легким наказанием. Но как только вспоминал полученную на первом же сборе зуботычину, я отвергал этот, казавшийся самым лучшим и простым исход. Вся натура моя противилась миру хамства и насилия. Нет, я не вернусь в этот мир, особенно после того, как увидел другую страну – свободную демократическую Францию. Правда, эта свобода и демократия не давали хлеба, я нищенствовал. Как это ни иллюзорно, я все-таки ощущал свою независимость, именно то, что ценил больше всего на свете. Конечно, я сознавал, что настоящую независимость я обрету, лишь когда стану самостоятельным в своих действиях.
Полисадов взял на себя попечение о бесприютном и беспаспортном поэте. Он снял мне комнату под крышей Большого отеля за Люксембургским садом. При этом настаивал: «Не ходите больше в «Ротонду»! Забудьте о ней, вычеркните ее из списка ваших интересов, даже слово это забудьте!». Однако изучение катехизиса продвигалось медленно, в то время как в «Ротонде» я уже чувствовал себя, как рыба в воде.
Накануне катастрофы. Вызов в полицию.
Война началась. Вербовщики
«Какой из тебя монах?! – потягивая коньяк, говорил мне русский художник Василий Крестовский. Ему вторил друг, молодой скульптор Павел Вертепов, ученик Бурделя, не устававший рассказывать о своем мэтре. Сострадательная Лидия Александровна Крестовская, жена художника, жалела меня: «Без профессии, без опре-
деленных занятий вы здесь окончите жизнь под забором». Она взялась помочь мне поступить в школу электромонтеров «Рашель», которая находилась в предместье Парижа Montrouge. Учившиеся там русские эмигранты получали стипендию за все время обучения. Я получил рекомендацию, написанную в самых лестных выражениях, и был принят в эту школу. Занятия должны были начаться 1 августа 1914 года. Я был счастлив при одной мысли, что теперь не надо будет ждать ничьей помощи. Я стану независимым, я буду в состоянии оплатить свое жилье! Только бы продержаться до 1 августа! Истекал последний срок оплаты комнаты в отеле, платить было нечем. Предстояло несколько дней прожить без жилья, впроголодь.
Внезапно положение мое еще больше осложнилось. Как-то во второй половине июля я поздно ночью вернулся в отель из «Ротонды». Меня поджидала хозяйка. С таинственным видом, шепотом она сообщила мне, что приходили из комиссариата, справлялись обо всех живущих здесь иностранцах, об их поведении и роде занятий. Все, не имеющие вида на жительство, должны явиться завтра же в комиссариат. Конечно, хозяйка тут же напомнила, что через день истекает последний срок оплаты за жилье.
Уже более полугода я жил в Париже, и никому до меня не было дела. Паспорт, с которым выбирался из России, я, как обещал, отослал владельцу тотчас по приезде. Я жил без всяких документов, и никто меня не беспокоил. На следующее утро я был в комиссариате. С трудом понимая по-французски, слово passeport я уловил. Как мог, объяснил, что я эмигрант, прибыл без документов, прошу выдать мне вид на жительство. Комиссар терпеливо допрашивал меня: «Откуда вы прибыли? Где родились? Ваша национальность? Кто вас знает в Париже?» Наконец он объявил, что вида на жительство он мне не даст, что в собственных интересах я должен немедленно получить из России хотя бы метрическое свидетельство. Дело не терпит отлагательства. Иначе мне грозит высылка из Франции.
Из комиссариата я вышел с легким сердцем. Гром не грянул, никто меня не вышлет, весь этот допрос – простая формальность. Гораздо больше меня волновал вопрос, где достать деньги, чтобы заплатить за жилье в отеле.
В тот же день я рассказал Полисадову о своем посещении комиссариата. Он воспринял это событие совсем иначе, чем я.
«Вы, брат Марк, не понимаете, что под вами почва колеблется. Хорошо осведомленный приятель сообщил мне жуткую новость. Мы накануне великой грозы, готовой разразиться над Европой. Надвигается война! Верьте мне, что списки подлежащих высылке лиц уже составляются. Вот почему полицейские обходят отели!» Это было страшной новостью, чреватой для меня самыми дурными последствиями! Под нажимом Полисадова я написал письмо на родину, и он взялся сам его отправить. Из отеля, так и не расплатившись, я переселился в пристанище художников La Ruche («Улей») в пустовавшее ателье скульптора Шарлье6. Даровое жилье с постелью на антресоли!
1 августа 1914 года Германия объявила войну России, 2 августа вступила в войну Франция. Была объявлена мобилизация. Школа электриков закрылась, перестала выходить газета «Парижский вестник», в которой я держал корректуру. Я лишился заработка.
В эти дни я был свидетелем разгрома кафе, принадлежавшего немцу-эльзасцу. Люди были неузнаваемы. Бешено неистовствуя, толпа сгрудилась у входа в кафе, где еще утром я пытал счастье на грошовой рулетке. Воздух оглашался хриплыми истерическими взвизгиваниями и причитаниями, из которых ясно различались возгласы: «Долой бошей! Бей их!» И словно по команде, трое подозрительных юнцов в темно-сиреневых бархатных шароварах, в кепках, заломленных по-апашески, ринулись вперед. Вдребезги разлетелись огромные зеркальные витрины. Толпа хлынула в помещение, явно настроенная на расправу, на самосуд, на кровь. Хозяин с женой успели бежать через черный ход, а толпа разрядилась, поглощая винные запасы и круша все вокруг. Это было для меня что-то новое. Дотоле наивный и беззаботный, я никак не мог ожидать столь отвратительного зрелища в сердце демократической Франции. В те же дни в «Улье» застрелился австриец-художник.
2 августа была объявлена мобилизация. Среди посетителей «Ротонды» началась усиленная вербовка в иностранный легион: «…встать грудью на защиту демократии, на защиту приютившей нас страны». Помню трех таких агитаторов. Политэмигрант Владимир Дилевский, занимавшийся в Париже художественной фотографией. Из-за Больных ног он не годился в волонтеры, а потому агитировал с легкостью. Другой агитатор, Хавкин, известный в эмигрантских кругах под прозвищем Чукча. В начале войны
никому еще не было известно, что Чукча, будучи секретарем Владимира Бурцева, издателя журнала «Былое», одновременно служил в охранке осведомителем. Он был разоблачен самим же Бурцевым после февральской революции. Ясно, что такими людьми полиция дорожила. В Париже они были нужнее, чем на фронте.
Среди вербовщиков выделялся член Литературно-художественного кружка поэт Браиловский, маленький, юркий, весьма «дельный малый». В Париже он под псевдонимом Бравский выпустил книжку стихов «Полынь». Помню, с каким пафосом он, желая казаться архиреволюционным, читал свои стихи:
…Придет пора и, новый Муций,
Я шею протяну ножу.
В годину буйных революций!
В монпарнасских кварталах он подолгу убеждал вступать в армию волонтеров. Ему удалось сагитировать неразлучных друзей – русских художников Василия Крестовского и Павла Верте– пова, писателя Таслицкого и многих других. На Марне иностранный легион послали на первую линию огня, и в первом же бою шрапнель одним махом снесла головы Крестовского и Вертепова. Они не успели даже отдать себе отчет в ужасе постигшей их судьбы. Несколько позже не стало и Таслицкого. Скульптор Иннокентий Жуков писал мне уже из России 30.01.1915 г.: «…о смерти благородного друга моего Васи Крестовского и Вертепова узнал сначала из газет, а потом из писем Лидии Александровны и Луначарского. Ими предполагается издание книги о нем и его творчестве… Готовлю свои воспоминания. Это был лучший, благороднейший человек из всех, кого я встречал… Таким же, но более женственным был Вертепов… Когда я думаю о них, душа моя наполняется грустью и тихой радостью, что я видел и знал их, встретил их на своем пути…».
Сам вербовщик Бравский тоже записался в волонтеры, но отделался счастливо. Подробности его чудодейственного спасения мне передавала вдова Таслицкого. После того, как в первую же неделю пребывания на фронте он стал свидетелем гибели Таслицкого, улучив удобную минуту, Бравский дезертировал. Военная романтика испарилась. Пробравшись в Париж, он явился в военной форме
в квартиру к вдове своего товарища Таслицкого, сказал, что хочет примерить принесенный с собой штатский костюм. Не дождавшись разрешения, не обращая внимания на возгласы вдовы: «Дезертир, подлец, вы завербовали и предали своих товарищей!», Бравский зашел в спальню, переоделся и бежал, оставив на полу все свое военное снаряжение. Через несколько дней Таслицкая получила от него открытку с видом Барселоны. А из Испании он отправился в Нью-Йорк. Новый Муций подставил шею. Но не свою7.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!