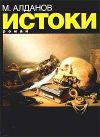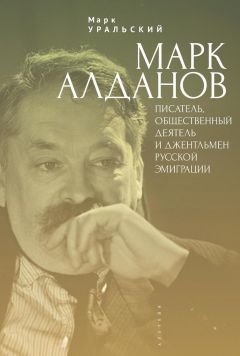
Автор книги: Марк Уральский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
«полагалось», но и все, что хоть в какой-то мере могло быть ему полезно для отыскания еще одной «маленькой правды» о своих будущих героях. Ради них он самоотверженно становился библиотечной или архивной крысой, часами просматривал номер за номером пожелтевшие комплекты старых газет, сверял или сопоставлял воспоминания и записки современников. Но все это было одной стороной медали. Была и другая, указывавшая на то, что весь этот собранный им огромный «багаж», вся его эрудиция, как будто не уравновешивала его извечной, словно преследовавшей его тоски.
<…>
Он знал все исторические здания Парижа, Рима, Вены, знал, где была создана та или иная классическая вещь, где кто был похоронен. <Но при этом> едва ли случайно Алданов где-то процитировал слова Мальбранша, смелые для католического мыслителя: «Мир может опротиветь и Богу». Алданов под этим изречением готов был к концу жизни подписаться, он был уверен, что «чем разумнее идея, тем меньше она имеет шансов на успех в мире» [БАХРАХ (II). С. 147, 167–168].
Недаром другой, тоже очень близкий по жизни Алданову человек, – Георгий Адамович, шутил, что:
В русских мирах – первое лицо Алданов, хотя и кислое [ЭПИЗОД. С. 16].
Впрочем, тот же Адамович писал после кончины своего друга:
Есть люди, которых нельзя забыть, и Марк Александрович был одним из таких, очень редких людей. Я не могу сказать, что был его ближайшим другом: наверное, у него были друзья гораздо ближе меня! Но в памяти у меня остался след навсегда от наших встреч и бесед, от всего его душевного облика, даже как будто от всего, чего он по своей сдержанности не успел и не хотел сказать, о чем промолчал […НЕ-СКРЫВ-МНЕНИЯ. С. 46].
Иван Шмелев, Алданова не любивший, в письме Ивану Ильину от 5 апреля 1948 года, цитируя свой шуточный «Самоновейший сонник», утверждает:
М. Алданова видеть во сне – к умеренности и аккуратности [ПЕРЕПИСКА-2-х-ИВАНОВ (III). С. 308].
Умеренный и аккуратный Алданов, по общему мнению этих «русских миров», был «тихоня и ципа», что расценивалось как недостаток, обедняющий его писательское дарование, поскольку
затрудняло <…> ему выпуклое изображение женских типов. Женскую капризность и переменчивость он внутренне не чувствовал. Его женщины все по одному шаблону – либо матроны, либо их подрастающие дочери. Он относится к ним с интересом и даже порой с нежностью, но едва ли их понимает и они точно описаны с чьих-то чужих слов [БАХРАХ (II). С. 160].
Целомудренное отношение Алданова к женскому полу настолько было из ряда вон в «свободной нравами» эмигрантской писательской среде, что даже щепетильный Андрей Седых, сам оставивший о себе память как преданный семьянин и порядочный человек, считает нужным это отметить в алдановском литературном портрете:
Он был, например, очень застенчивым и, я бы сказал, целомудренным человеком, – любовные эпизоды в его романах редки; автор прибегал к ним только в крайней необходимости и они всегда носили «схематический» характер. Бунин с наслаждением писал «Темные аллеи». Алданов наготу свою тщательно прикрывал, и это не только в писаниях, но и в личной жизни: очень недолюбливал скабрезные разговоры и избегал принимать в них участие [СЕДЫХ. С. 37].
Однако в письмах Алданова к Бунину по поводу публикации его «Темных аллей», где речь шла о недопустимом с точки зрения американских издателей описании эротических сцен в ряде его рассказов, Алданов отнюдь бунинскую чувственную эротику не порицает, не выказывает, даже уклончиво, свое «фу». Напротив, он, скорее, осуждает тогдашний американский пуританизм. Более того, Алданов иногда способен был удивить стороннего человека осведомленностью о теневых сторонах жизни, в игнорировании которых его упрекали. Бахрах по этому поводу пишет:
Я вспоминаю теперь, как в давно ушедшие годы мне как-то случилось в небольшой компании отправиться с Алдановым в одно из злачных мест ночного Парижа. К моему удивлению, он и тут, если не был в буквальном смысле «гидом», то, во всяком случае, был хорошо осведомлен обо всей подноготной этого уже давно не существующего заведения. Он знал, кто из политических деятелей его посещал, какие происшествия имели тут место. «Маленькая» история представляла для него не меньший интерес, чем «большая», и он подлинно знал «немного обо всем»! [БАХРАХ (II). С. 149].
Не вдаваясь в подробный анализ этого пикантного эпизода, напомним только, что Алданов вплоть до 33 лет обретался в сем грешном мире в качестве красивого, очень состоятельного, активного и жизнелюбивого молодого господина. Бахрах же общался с другим Алдановым: зрелым, уже перебесившимся и остепенившимся, перегруженным повседневной работой человеком.
Отметим еще один интересный штрих, касающийся восприятия Алданова, как писателя-документалиста, сторонними людьми. Современники склонны были узнавать во многих его вымышленных персонажах портреты реальных исторических лиц, в том числе и его самого. Алданов такого рода соотнесения категорически отвергал. Бахрах вспоминал как:
Однажды – за одной из «последних» чашек кофе – разговор коснулся алдановского романа «Начало конца», экземпляр которого оказался у Бунина в Грассе и который он перечитывал. Бунин <…> начал не без иронии убеждать Алданова, что один из героев романа – французский писатель Вермандуа – точная копия самого Алданова. Алданов всполошился, но Бунин продолжал: «подумайте только, Марк Александрович, Вермандуа, вы сами пишете, “цитировал сто тысяч человек”, а вы? “вежливость была в его природе”, а у вас? “грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение”, а вас? но главное не в этом, а в том, что вы вложили в уста Вермандуа фразу, которую я вам сейчас здесь прочту – “если бы я хотел писать органически, то вывел бы старого, усталого парижанина, которому надоела вся его работа и которому в жизни остались интересны только молодые женщины, не желающие на него смотреть. Может быть, это и было бы искусство, но от такого искусства надо бежать подальше”. А дальше ваш Вермандуа говорит: “но ведь весь смысл жизни в писательском призвании, вся ее радость”. Ведь все это ваши собственные переживания, – настаивал Бунин» <…>. Алданов, конечно, отрицал автобиографичность своего героя… – здесь и далее [БАХРАХ (II). С. 153 и 160].
Если довериться литературному чутью Бунина, то самохарактеристику Алданова можно найти, например, в образе одного из главных персонажей его романа «Пещера» – «французского политического деятеля» Серизье, который:
в молодости развлекался в Латинском квартале, <но затем, женившись>, прожил с женой счастливо <(в случае Алданова – до самой смерти)>. Любовь вообще занимала не очень много места <в его жизни>. Хорошо знавшие его люди считали его человеком несколько сухим, при чрезвычайной внешней, при благожелательности, при изысканной любезности и при безупречном джентльменстве. Он был перегружен делами. Работоспособность его была необыкновенной…
По существу в тех же выражениях описывает Алданова и Бахрах:
Сдержанный и учтивый, порой даже манерный, он мог ошарашить своего собеседника интимнейшими вопросами. В его устах такого рода вопросы были тем более неожиданны, что задавал он их как-то неспроста, не сопровождая приличествующей в таких случаях усмешкой. Он вдруг принимал облик интервьюера и могло казаться, что свои вопросы он ставит ради какой-то научной анкеты.
На сей счет Роман Гуль, который «хоть и поверхностно, знавал <Алданова>по Берлину», приводит в своих воспоминаниях такой вот эпизод, по времени относящийся где-то к первой половине 1930-х гг.:
Алданов поздоровался и отозвал меня в коридор. Тут он сразу стал расспрашивать о концлагере. Я ведь тогда был единственный человек в Европе, кому удалось побывать в гитлеровском кацете. Алданов расспрашивал подробно, как «историческому романисту» и подобало. Вдруг он спросил: – А вас били? Вопросом я был поражен. Ведь Бунин называл Алданова «последним джентльменом русской эмиграции», а вопрос был «верхом бестактности». Ведь если б меня и били, неужели я стал бы рассказывать об этом Алданову? Но меня не били. И своим «нет» я даже, кажется, разочаровал его. Алданов расспрашивал меня долго обо всем [ГУЛЬ Р.].
В числе многих других свидетелей времени, А. Седых в своих воспоминаниях делает особый акцент на том, что:
У него была своя высокая мораль и своя собственная религия – слово это как-то не подходит к абсолютному агностику, каким был Алданов. Очень трудно объяснить, во что именно он верил. Был он далек от всякой мистики, религию в общепринятом смысле отрицал. Не верил фактически ни во что: ни в человеческий разум, ни в прогресс – и меньше всего склонен был верить в мудрость государственных людей, о которых, за редкими исключениями, был невысокого мнения – здесь и далее [СЕДЫХ. С. 35].
Как у потомка раввинов, хотя и отпавшего от иудаизма «в основе человеческой и писательской морали Алданова лежали некоторые непреложные истины. Он очень хорошо отличал белое от черного, добро от зла; из всех сводов законов уважал, вероятно, только Десять Заповедей» [СЕДЫХ. С. 35], и еще предписание о проявлении сочувствия ближнему в виде материальной и моральной поддержки – то, что в Талмуде обозначается словом цдака (צְדָקָה)193193
См. URL: http://eleven.co.il/judaism/commandments-and-precepts/10646/.
[Закрыть]. Он постоянно выказывал готовность к благодеянию, что отмечают в своих воспоминаниях даже чуждые по своим умонастроениям Алданову его современники из числа крайне правых:
Редкой благожелательности человек!..
Особенно же в писательском мирке Парижа, и не подумавшем сплотиться на чужбине, в одинаково для всех тяжелых эмигрантских условиях…
Алданов рад всегда устроить одного, похлопотать за другого… [СУРАЖСКИЙ. С. 4].
Вместе со всеми этими «блёстками памяти» уместно процитировать алдановскую характеристику Рахманинова:
– которая, судя по цитируемы воспоминаниям современников, вполне может быть отнесена и к самому Алданову:
…я, кажется, не знавал другого человека, который, подобно Алданову, готов был каждому оказать услугу, даже если это было для него связано с некоторыми затруднениями. Можно, пожалуй, подумать, что в нем был налицо элемент той сентиментальности, которая приводит к «маленькой доброте». Однако ничто не было ему так чуждо, как «слащавость», и если иные горькие пилюли ему приходилось подсахаривать, то делал он это потому, что было ему нестерпимо кого-нибудь погладить против шерсти и огорчить. Доброта была в нем больше от ума, чем от сердца, и потому в каком-то смысле не всегда была плодотворной. А его внешнее и внутреннее «джентльменство» делало его своего рода белой вороной в той литературной среде русского зарубежья, которой хотелось казаться еще более «богемной», чем она в сущности была…[БАХРАХ (I)].
<…>
В жизни Марк Александрович был человеком необыкновенно простым, любознательным, приветливым и отзывчивым. Все смешное и уродливое в людях подмечал мгновенно, но никогда этого не показывал. Говорил он тихо, без цитат и заранее подготовленных эффектных фраз. Спорить не любил, всегда готов был замолчать и дать высказаться другому. Для русских писателей, обычно любящих говорить и не умеющих слушать, это качество огромное, а мне всегда казалось, что слушал он других охотнее, чем говорил. И в этом, между прочим, сказывался «европеизм» Алданова. Был вежлив, в меру радовался и в меру огорчался за своих друзей, – но тоже не слишком; некоторых любил по-настоящему. До конца ни с кем не сближался, я не знаю человека, с которым Марк Александрович был на «ты»… По-настоящему из писательской среды любил только Бунина, который сыграл большую роль даже в литературных вкусах и взглядах Алданова [СЕДЫХ. С. 48].
<…>
Он со многими был во внешне приятельских отношениях,<…> но едва ли был человек, которого он мог считать подлинным другом, с которым мог бы делиться своими треволнениями. <…> …в той «мышьей беготне», на которую каждый невольно обречен, он всегда и при всех обстоятельствах сохранял какую-то утонченную и отчасти уже устаревшую вежливость и, может быть, чуть напускную благожелательность. «Над чем изволите работать?» – был его трафаретный вопрос при встрече с каким-нибудь коллегой по писательскому или журналистическому ремеслу. Он точно боялся задеть его неосторожным словом или недостаточно лестным о нем отзывом, хотя по существу до собеседника или его писаний, если таковые имелись, ему в общем было мало дела.
<…>
Меньше всего он был способен на «исповедь» в какой бы то ни было форме. Он был для этого слишком скрытен, даже если в некоторых из действующих лиц его романов – так сказать «по недосмотру автора» – проскальзывают автобиографические черты. <…> Я знал его в продолжении нескольких десятилетий, чуть ли не полвека, периодами встречался довольно часто и все-таки чего-то никогда не мог в нем расшифровать. Дело было не только в его внешней замкнутости, странным образом уживавшейся с ровностью в его отношениях с людьми (из этого его правила надо исключить тех, которые находились по «ту сторону баррикады», так как тогда он был бескомпромиссен и даже упрям и в этом отношении очень следил за своей репутацией, боясь как-то очернить свои «белые ризы») и, вместе с тем, было в нем что-то, что заставляло иной раз задуматься о «загадке Алданова» [БАХРАХ (II). С. 147–148].
Внутреннюю отчужденность Алданова отмечает и Борис Зайцев, поддерживавший с ним дружеские отношения в течение долгих лет:
Вся моя эмигрантская жизнь прошла в добрых отношениях с Алдановым. Море его писем ко мне находится в архиве Колумбийского Университета (Нью-Йорк). Да и я ему много писал писем… [В-Ж-Б. С. 170. Примеч. 1].
Был он чистейший и безукоризненный джентльмен, просто «без страха и упрека», ко всем внимательный и отзывчивый, внутренне скорбно-одинокий. Вообще же был довольно «отдаленный» человек. Думаю, врагов у него не было, но и друзей не видать. Вежливость не есть любовь… [ЗАЙЦЕВ. С. 128].
Андрей Седых, воссоздавая портретный образ Алданова, отмечал также, что:
В разговоре же и в переписке с друзьями Марк Александрович эрудиции избегал, – писал просто, о вещах самых обыкновенных и житейских, любил узнавать новости, сам о них охотно сообщал, расспрашивал о здоровье, – был он очень мнительным и вечно боялся обнаружить у себя какую-нибудь «страшную болезнь». Из-за этого не любил обращаться к врачам, но охотно беседовал с больными, расспрашивал и, видимо, искал у себя «симптомы» [СЕДЫХ. С. 38].
Нельзя не отметить особо, что Бахрах и другие мемуаристы явно преувеличивают степень интимно-личностной изолированности Алданова. Как наглядно свидетельствуют факты, приводимые в нашем биографическом повествовании, Алданов ни в коей мере не может считаться «человеком в футляре». Не только в публичной жизни, где он являл собой пример исключительно общительного и контактного человека, но и в своей приватной сфере он был отнюдь не одинок. Среди его близких друзей числятся А.Н. Толстой, И. Бунин, В. Набоков-Сирин, М. Осоргин, Б. Зайцев и Г. Адамович. Да, он не плакался в жилетку ближнему своему, не выворачивал первому встречному свою душу наизнанку, обливаясь пьяными слезами из жалости к себе, миленькому и хорошенькому. Но чужды были подобного рода проявлениям «русской задушевности» и тот же Набоков, и Осоргин, и Адамович, и Мережковский, и многие другие его собратья по перу. В отношении личности Марка Алданова современники часто склонны использовать банальные штампы, что, впрочем, является общим местом мемуаристики и касается практически всех воспоминаний, где даются характеристики и описываются портреты выдающихся людей.
Завершая характеристику портретного образа Марка Алданова его же словами из статьи-некролога «Н.В. Чайковский», можно сказать, что в нем жил:
инстинкт порядочности, доведенный до исключительной высоты. Этот инстинкт, врожденная красота души, в любой обстановке, во всяких обстоятельствах подсказывали ему образ действий, верный если не в практическом, то в моральном отношении.
С возникновением «Русского Парижа» в нем образовались литературные салоны, игравшие вплоть до 1940 г. важную объединяющую и литературно-просветительскую роль в жизни русской диаспоры. В первую очередь здесь следует назвать салоны Цетлиных и Мережковских, непременным посетителем которых был Алданов. Его ближний круг общения состоял из людей, с которыми он сблизился еще в Одессе – Цетлины, Бунины, Фондаминские, Тэффи и Алексей Толстой. Но ни с кем из соплеменников-литераторов так тесно не общался Алданов в первые три года своей парижской эмигрантской жизни, как с Алексеем Толстым. Он сам говорит об этом в письме к Александру Амфитеатрову:
Мы с Алексеем Толстым были когда-то на ты и года три прожили в Париже, встречаясь каждый день [ПАР-ФИЛ-РУСЕВР. С. 604].
Алексей Толстой, будучи всего лишь на три года старше Алданова, как автор рассказов и повестей «заволжского» цикла (1909–1911 гг.) и примыкающих к нему небольших романов «Чудаки», «Хромой барин» (1912 г.), имел реноме «известный писатель». По воспоминаниям Осипа Дымова, в литературных кругах Ст.-Петербурга Алексей Толстой появился в 1908 г. Тогда это был:
крупный, богатырского вида человек, с круглым, приятным лицом, густыми светлыми волосами, подстриженными под каре на затылке – причёска, которая в те дни была очень распространена среди извозчиков. Самой приятной на его лице была улыбка. Я никогда не видел такую одновременно открыто-добросердечную и хитроватую улыбку. Когда он смеялся – а делал он это довольно часто – обнажались два ряда крупных ровных белоснежных зубов. Игра мускулов на его лице – с широким вырезом славянского рта – всё пробуждало к нему чувство симпатии и свидетельствовало о гармонии между здоровой внешностью и внутренней жизнью. Возможно, впрочем, лицо было чуточку чересчур открытым, возможно, белозубая улыбка, сверх меры наивной. Кто-то из наших даже заметил, что новичок, кажется, слегка глуповат. Но его светлые голубые глаза никогда не смеялись. Они постоянно как бы были настороже. Новичок всё видел и подмечал и, самое интересное – а это было явно – не хотел, точнее, не мог нести ответственность за то, что видел. У него был острый, проницательный взгляд художника. Он знал, что говорили о нём другие, но это не производило на него особенного впечатления, а лишь вызывало смех.
– Он умён.
– Ой, ну что вы?
– Ну, в таком случае, не умён.
И он, весело хохоча, обнажал свои молочные зубы, сверля тебя в тоже время проницательным взглядом своих холодных голубых глаз.
У него были хорошие манеры, вел он себя корректно, независимо, открыто, раскрепощено. Как можно быстрее сбрасывал свою синюю студенческую куртку195195
В те годы А. Толстой учился в Петербургском технологическом институте.
[Закрыть] и превращался в молодого человека неопределённых занятий, но явно с самостоятельным доходом. Словом, приходил писатель, как это воспринималось всеми. Имя его было – граф Алексей Николаевич Толстой <…>Первый вопрос, который ему обычно задавали, был:
– Кем вы приходитесь Льву Толстому?
Я тоже оказался среди тех, кто проявил интерес к теме родства с великим писателем.
– Не имею никакого отношения, – последовал ответ [ДЫМОВ. С. 382–383].
И по прошествии десяти с лишним лет, став литературной знаменитостью, Алексей Толстой оставался все тем же, «славным малым», – как когда-то, по словам Осипа Дымова, охарактеризовал его Леонид Андреев [ДЫМОВ. С. 385], хотя и себе на уме. Он легко сходился с людьми, любил общаться с интеллектуалами и выступать в роли покровителя начинающих литераторов, все также:
Больше всех шумел, толкался, зычно хохотал во всё горло <…>. И привычным жестом откидывал назад свою знаменитую копну волос, полукругом, как у русских кучеров, подстриженных на затылке [Д. АМИНАДО].
Пожалуй, их отношения можно даже назвать «дружбой», хотя оба писателя вряд ли могут служить классическим примером людей, способных на такую форму межличностных отношений: Алданов – в силу врожденной замкнутости, Алексей Толстой – из-за чрезмерного эгоизма и беспринципности. Тем не менее:
Кроме банального – противоположности притягиваются, трудно сказать, что могло сблизить скромного и щепетильного в отношениях с людьми Алданова с «Алешкой Толстым», – разухабистым краснобаем, нахалом и циником, гедонистом, эпикурейцем, литературным баловнем и эгоистическим младенцем, в скором времени ставшим «красным графом» и – по определению Горького – «советским Гаргантюа».
С другой стороны, судя по рассказам современников, Алексей Толстой:
был занятный собеседник, неплохой товарищ и, в общем, славный малый. В советской России такие типы определяются выражением «глубоко свой парень».
Его исключительный, сочный, целиком русский талант заполнял каждое его слово, каждый жест.
<…>
Недостатки его были такие ясно определенные, что не видеть их было невозможно. И «Алешку» принимали таким, каков он был. Многое не совсем ладное ему прощалось. Даже такой редкий джентльмен, как М. Алданов (недаром прозвала я его «Принц, путешествующий инкогнито»), дружил с ним <А. Толстым> и часто встречался [ТЭФФИ].
Михаил Осоргин писал А.С. Буткевичу:
Я считаю большим мастером, конечно, Ал. Толстого, хотя он некультурный человек. Знаю его, мы были друзьями и на «ты»… Разве может Алексей Толстой представлять новую Россию? Он беспринципнейший человек.
Юрий Анненков, позволивший себе, вопреки осуждению эмигрантского сообщества, развлекать друга-«Алешку», когда тот в 1936 г. посетил Париж в ранге «Выдающегося советского писателя, Председателя правления Союза писателей СССР», так представлял его в своих воспоминаниях:
Блестящий и остроумный собеседник, Толстой был очень общителен, любил хорошо выпить (как и хорошо поесть). С ним можно было без устали судачить целые часы о любых пустяках.
<…> – Я циник, – смеялся он, – мне на все наплевать! Я – простой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и все тут. Мое литературное творчество? Мне и на него наплевать! Нужно писать пропагандные пьесы? Черт с ним, я и их напишу! Но только – это не так легко, как можно подумать. Нужно склеивать столько различных нюансов!
<…> Эта гимнастика меня даже забавляет! Приходится, действительно, быть акробатом.
<…> Моя доля очень трудна… [АННЕНКОВ Ю. С. 146 и 149].
Иван Бунин был вторым человеком, с которым особенно сблизился Алданов: с начала 1920-х г. он постепенно начинал играть в его жизни все большую роль. То же самое можно сказать и о Бунине. Как и в случае с А.Н. Толстым, здесь «сошлися лед и пламень», но таким удивительным образом, что самым характерным в этих отношениях была открытость до самого конца, душевное родство, предельная трогательная заботливость. Здесь разница характеров не мешала близости. За почти три с половиной десятилетия ни одной даже самой малой размолвки, не говоря уже о ссоре. Такая писательская дружба – очень большая редкость [ЧЕРНЫШЕВ А. (III)].
Ни у кого из русских писателей «первого ранга» не было столь близких отношений со своими собратьями по перу. Сам Бунин тому пример: на своем долгом жизненном пути разошелся под конец со всеми друзьями молодости, даже с таким, казалось бы, кровно близким, задушевным другом, как Борис Зайцев! Но дружба с Алдановым согревала его до конца дней.
В самом начале их близких отношений Алданов пытался привлечь Бунина к участию в редколлегии первого толстого журнала русской эмиграции «Грядущая Россия», а Бунина же притягивала душевная теплота Алданова, которую тот выказывал по отношению к его сложной эксцентричной особе. Так, например, как записывает в дневнике от 7/20 и 13/26 декабря 1921 года Вера Николаевна Бунина, Иван Алексеевич, когда умер его брат Юлий, был настолько потрясен, что
Сразу же похудел. Дома сидеть не может. Побежал к Ландау. <…> Вечер, я одна. Ян ушел к Ландау. Он бежит от одиночества на люди – здесь и далее [УСТ-БУН. Т. 1. С. 69–70; 134 и 165; 79; 28; 8].
Сама Вера Николаевна относилась к Марку Александровичу не менее любовно, чем ее супруг. Вот, к примеру, несколько записей из ее дневника середины 1920-х гг., характеризующих ее восприятие личности Алданова:
14 / 27 января 1925 года: Днем были Осоргин и Алданов. Я люблю их обоих. Мне с ними легко и весело.
Здесь особо отметим, что писатели Михаил Осоргин и Марк Алданов были по жизни, пусть, и не «задушевными», но, несомненно, близкими друзьями.
13 февраля 1927 года: Сергей Андреевич <Иванов> накануне смерти был у меня.
Пришел вместе с М.А. <Алдановым> и мы втроем просидели около двух часов. Я очень люблю их обоих.
Вместе с Алдановым Бунины встречали Новый 1925 год. А вот запись самого Бунина от 30 января / 12 февраля 1922 года, где он тонко, как бы между прочим, отмечает для себя, что Алданов не воспринимает поэтическую образность. Она свидетельствует также и о том, что к началу 1922 г. семейство Ландау из Варшавы уже перебралось в Париж:
Прогулки с Ландау и его сестрой по Vinense, гнусная, узкая уличка, средневековая, вся из бардаков, где комнаты на ночь сдаются прямо с блядью. Палэ-Рояль (очень хорошо и пустынно), обед в ресторане Véfour, основанном в 1760 г., кафе «Ротонда» (стеклянная), где сиживал Tургенев. Вышли на lʼOpera, большая луна за переулком, быстро бегущая в зеленоватых, лиловатых облаках, как старинная картина. Я говорил: «К черту демократию!», глядя на эту луну. Ландау не понимал – при чем тут демократия?.
Из числа известных писателей, перебравшихся на Запад, Бунин любил только Бориса Зайцева да еще «Алешку». В Париже, судя по бунинским дневникам, их общение было достаточно тесным:
Вчера Куприны, Ландау, Шполянский и мы обедали у Толстых. Обед был тонкий, с шампанским-асти.
Или вот, например, такая весьма многозначительная запись от 22 марта / 4 апреля 1920 года:
Толстые здесь очень поправились. Живут отлично, хотя он все время на краю краха. Но они бодры, не унывают. Он пишет роман. Многое очень талантливо, но в нем «горе от ума». Хочется символа, значительности, а это все дело портит. Это все от лукавого. Все хочется – лучше всех, сильнее всех, первое место занять.
А. Бахрах вспоминал:
Особой нежностью пропитаны его высказывания об «Алешке» Толстом, ему он прощает многое, что не простил бы, пожалуй, никому другому. Охотно вспоминает встречи с ним «на заре» эмиграции:
– Будучи в Париже, он не раз мне с надрывом говорил: «Вот будет царь, я приду к нему, упаду на колени и скажу: “Царь-батюшка, я раб твой, делай со мной, что хочешь”». А ведь «царя» он как будто себе нашел! Но это не мешало ему тогда подолгу сидеть, попивать винцо и все изобретать какие-то китайские пытки для большевиков – ведь он их тогда ненавидел. Я однажды зашел к нему, когда он умывался. – Посмотри на меня, Иван, до чего я красив, мне порой самому от этого жутко становится! Действительно, человек необыкновенной силы, никогда ничего подобного не видел. Он сам мне рассказывал:
– Прихожу я раз домой навеселе, что-то меня рассердило, и я начал буйствовать.
Кричу на весь дом: «Сейчас угол у камина отобью!» (не повторю, каким способом).
Прибежали дети, плачут, кричат «Папочка, не надо!», еле они меня успокоили.
Но какой он работяга. Всю ночь кутит, в пятом часу возвращается домой, а в девять уже за письменным столом, голову помажет «бом-банге», обмотает мокрой тряпкой и до завтрака пишет. Ведь «Петра» он начал готовить еще будучи в Париже, еще тогда начал собирать материалы.
<…>
Бунин постоянно честил <А. Толстого> всевозможными малоизысканными именами и иначе как Алешкой не называл, но <…> все же относился <к нему> со скрытой нежностью. Ценил его не только как писателя, но отчасти и как человека, хоть и насквозь знал его проделки и измышления. «Что с Алешки взять», – неоднократно говорил Бунин, рассказывая о Толстом всякого рода анекдоты, вроде того, как в первые годы эмиграции, когда еще думали, что вот-вот большевизму наступит конец, он продавал свое несуществующее «родовое имение», даже заранее не придумав, где оно находится! Впрочем, многие из рассказов бунинского репертуара, посвященного автору «Сорочьих сказок», первой, еще незрелой книге молодого автора, которую Бунин принял в редактируемый им журнал, передать невозможно. Они не для печати!
Что-то в Толстом импонировало Бунину и, хотя их пути давно разошлись, он всегда в мыслях продолжал его видеть молодым, задорным, в енотовой шубе, с цилиндром на голове.
Бунин не очень-то оценил «Хождение по мукам», чертыхался по поводу последней части этой тетралогии («Хлеб»), но зато «Петром Первым» восторгался неподдельно. «До чего хорошо», – говаривал он с некоторым удивлением, – «ведь сколько документов пришлось изучить, сколько архивов перерыть» [БАХРАХ (III). С.107, 149–150].
Напомним, что в СССР именно Алексей Толстой пытался склонить Сталина к мысли о необходимости возвращения Ивана Бунина на Родину, и Бунин, конечно же, был об этом осведомлен. Уже после кончины А. Толстого Бунин писал о нем в очерке «Третий Толстой» (1949 г.):
В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно Алешкой, то снисходительно и ласково Алешей… Он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал как очень немногие… Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки все прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки!… Одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь – признак натуры упорной, настойчивой… Ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник он был первоклассный [БУНИН-ТТ].
Существует мнение [АНДРЕЕВА И.Г.], что «Третий Толстой» стал якобы своеобразной местью, за пропагандистскую статейку А.Н. Толстого «Зарубежные впечатления» (1936 г.), в которой он говорит:
Случайно в одном из кафе Парижа я встретился с Буниным. Он был взволнован, увидев меня. Я спросил, что он намерен делать. Бунин сказал, что он хочет переехать в Рим, так как ему не хочется еще раз связываться с революцией. Так он и сделал. Но эта поездка окончилась неудачей. Фашисты оказали Бунину такой прием, что ему, полуживому, пришлось вернуться в Париж…
Я прочел три последних книги Бунина – два сборника мелких рассказов и роман «Жизнь Арсеньева». Я был удручен глубоким и безнадежным падением этого мастера. От Бунина осталась только оболочка прежнего мастерства. Судьба Бунина – наглядный и страшный пример того, как писатель-эмигрант, оторванный от своей родины, от политической и социальной жизни своей страны, опустошается настолько, что его творчество становится пустой оболочкой, где ничего нет, кроме сожалений о прошлом и мизантропии [ТОЛСТОЙ А.Н. (VI)].
Вполне возможно, что в свое время Бунина, человека чрезвычайно обидчивого, и задели высказывания «Алешки», однако в своем литературном портрете его персоны он ничего не искажает и не утрирует. Как видно из приведенных выше высказываний других свидетелей времени, о моральных качествах их сиятельства графа Алексея Николаевича Толстого, знавшие его люди предпочитали только шутить. Понятие «мораль» было неприложимо к любому образу действий прожженного циника «Алешки» – этого, любителя «клубнички» и других прелестей сладкой жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?