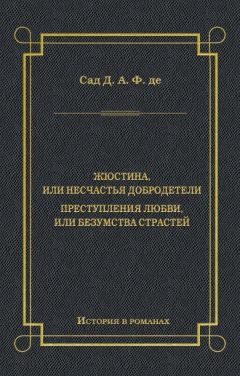
Автор книги: Маркиз Сад
Жанр: Эротика и Секс, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Возненавидьте же эти ужасы, дитя мое! Пусть оскорбления, ими наносимые, их унижения только укрепят наше презрение к ним. Как я стал презирать эти топорно сработанные бредни, едва открылись мои глаза! Берите пример с меня, если хотите быть счастливой и свободной: подобно мне, ненавидьте, высмеивайте, отторгните от себя пресловутый предмет этого культа да и сам культ тоже!
Но, говорят нам глупцы, если уж вы не религиозны, то будьте хотя бы нравственны, придерживайтесь правил морали. Идиоты! Какова же она, мораль, которую вы проповедуете? И что за нужда в ней человеку, желающему благоденствовать на земле? Что касается меня, дитя мое, то я знаю только одну мораль: мне надо быть счастливым, несмотря ни на что, мне не надо отказываться ни от чего, что может послужить для моего благополучия в этом мире, пусть для этого придется смущать покой других, присваивать их добро. Природа, производя нас на свет одинокими, ни в коей мере не принуждает нас заботиться о своих ближних. Если же мы иногда и заботимся о них, то исключительно по соображениям меркантильным. Скажу больше, из чистого эгоизма. Мы не вредим другим из боязни, чтобы не навредили нам. Но тот, кто силен настолько, что не страшится ответного действия, должен смело следовать своим наклонностям, а самая сильная страсть человеческая – страсть причинять зло, быть деспотом для других. Так повелевает природа, и лишь необходимость жить в обществе как-то умеряет эту страсть.
О Жюстина! Моя единственная мораль заключается в том, чтобы делать все, что мне делать угодно, и никогда ни в чем себе не отказывать. Мои добродетели – это пороки, а преступными для меня являются ваши добрые поступки. То, что вам кажется благопристойным и почтенным, во мне вызывает омерзение, ваши благие намерения меня отталкивают, а ваше добролюбие внушает мне ужас. И если я еще не вышел, подобно Кер-де-Феру, грабить и убивать на большую дорогу, то это лишь потому, что я богат и могу наслаждаться возможностью причинять зло, не подвергая себя большим опасностям.
У мягкосердечной Жюстины не было достаточных средств для опровержения столь сильных аргументов. Она отвечала лишь потоками слез. Это средство беззащитных, видящих, как у них похищают утешавшую их химеру. Они не решаются восстановить здание, только что уничтоженное холодным философом, но они его оплакивают. Пустота на его месте приводит их в ужас. Не пользуясь, в отличие от людей могущественных, наслаждениями деспотизма, они страшатся рабства, понимая, что их тиран свободен от всяких сдерживающих пут.
Ежедневно Брессак, используя подобные средства убеждения, старался развратить Жюстину, но цели своей окончательно так и не добился.
Бедняжка цеплялась за добродетель по необходимости: судьба, отказав ей в способности к преступлению, избавила ее в то же время и от стремления стряхнуть с себя ярмо, которое является, по сути, издержкой печального существования и накладывается на подобных ей обществом. Вот и вся тайна добродетельной нищеты.
Рассудительная и сострадательная госпожа де Брессак и не подозревала, какие несокрушимые системы возводил ее сын для оправдания тех пороков, которым он предавался. Она просто проливала горькие слезы на груди преданной Жюстины, полюбившейся ей и своим умом, и мягкосердечием. Именно ей поверяла госпожа де Брессак все свои горести.
Между тем поведение сына по отношению к ней преступало все мыслимые пределы. Юный граф решил больше не стесняться: он не только окружил свою мать всей той сволочью, что служила для его утех, но дошел в своем исступлении и дерзости до того, что объявил этой почтенной даме, что если она и впредь будет препятствовать его забавам и осуждать его вкусы, то он докажет ей все их очарование умиротворением своей плоти прямо у нее на глазах.
И вот здесь та пунктуальность, которую мы приняли за непреложное правило, тяжким грузом ложится на наши добродетели. Но что делать: надо приступать к изображению. Мы обещали быть правдивыми. Всякое умолчание, всякая вуаль, наброшенная на картину, нанесет вред нашим читателям, чье благорасположение нам куда важнее, чем все предрассудки расхожей морали.
Госпожа де Брессак имела обыкновение проводить дни Пасхи в своем имении. Здесь ей было спокойнее, да и местный священник своей мягкостью, даже некоторой робостью пришелся ей по душе. Итак, госпожа де Брессак отправилась в путь, взяв с собой лишь двух-трех слуг да Жюстину. Но сын ее, никак не намереваясь скучать, пока его мать будет общаться с ненавистным ему Богом, захватил с собою целый поезд камердинеров, лакеев, посыльных, секретарей, жокеев – словом, всех тех, кто обслуживал его, доставляя ему известные нашим читателям радости. Это не понравилось госпоже де Брессак она осмелилась заметить сыну, что для недельного пребывания в замке вовсе не требуется тащить за собой такую толпу. Высказала она все это к тому же весьма строгим, повелительным тоном.
– Послушай-ка, – сказал Брессак Жюстине, невольно ставшей выразителем настроений своей госпожи. – Скажи моей матери, что мне не понравился тон ее разговора со мною… Пришло время проучить ее и исправить. Так вот, несмотря на все ваши богомольные церемонии, которыми она занималась сегодня утром с тобою, и на то, что на тебя, как я вижу, нисколько не подействовали мои увещания и ты по-прежнему остаешься добродетельной ханжой… Несмотря, говорю, на все это, я намерен тотчас же при тебе дать ей маленький урок, после которого, надеюсь, она забудет о своих упреках.
– О сударь!
– Выполняйте. Если я приказываю, никаких возражений быть не может!
Ворота замка были заперты. Двум слугам, поставленным у ворот, приказано было отвечать всем, что госпожа уехала в Париж Брессак поднялся в покои своей матери с верным Жасмином и еще с одним своим миньоном по имени Жозеф, красивым, как ангел, безжалостным, как палач, и с мужскими статями, как у Геркулеса.
– Мадам, – сказал Брессак, отворяя двери, – сейчас вы убедитесь, что я сдержу свое слово и смогу показать вам, в какой восторг погружают меня те эксцессы, против которых вы упорно боретесь. Уверен, что после этого всякое противодействие с вашей стороны прекратится.
– Но, сын мой…
– Молчите, мадам. Не воображайте себе, что пресловутое звание матери дает вам какие-то права на меня. В глазах людей, подобных мне, совокупление с мужем для того, чтобы потом родить ребенка, не представляется никакой заслугой, и никого ни с кем ничем не связывает. Сейчас вы поймете, в чем дело, мадам. Когда вы осуждали мои пристрастия, я убеждал вас понять их и примириться с ними. Теперь вы увидите, что эти наслаждения слишком велики, чтобы отказываться от них, и наконец-то предпочтете, надеюсь, это блаженство страсти смешной строгости своих запретов.
С этими словами Брессак, предварительно распорядившись закрыть в спальне все двери и окна, приблизился к ложу, на которое госпожа де Брессак только что прилегла отдохнуть от утренних молебствий. Грубо схватив ее и не давая подняться, Брессак приказал Жозефу держать госпожу, а сам приготовился, расположившись совсем рядом с нею, предоставить свой зад в распоряжение всегда готового к таким услугам Жасмина.
– Наблюдайте, мадам, – произнес злодей, – внимательно наблюдайте, прошу вас, эти телодвижения… Наглядитесь вволю на тот экстаз, в который погрузят меня мощные удары моего любовника, посмотрите, как поднялся мой член… Постойте-ка! Жозеф вполне может удерживать вас одной рукой, а другой он поможет мне извергнуть на ваши мясистые ягодицы сперму. Вас увлажнит мой сок, мадам. Он оросит вас, и это, быть может, напомнит вам счастливые минуты, когда мой весьма почтенный батюшка мял ваше брюшко. Но, Жюстина, что я вижу! Ты отвернулась! А ну-ка живо ляг рядом со своей госпожой и помоги Жозефу держать ее.
Невозможно с первого взгляда разобраться в том, что испытывали разные персонажи этой сцены. Но приглядимся: Жюстина, вся в слезах, покорилась страшному приказу, госпожа де Брессак бранилась, а Жозеф, разгоряченный увиденным, раскачивал свой чудовищный член, который только и ждал, куда бы проникнуть; Жасмин натягивал своего господина, а гнусный Брессак уже готовился брызнуть соком на белоснежную кожу родной матери.
– Одну минуту, – сказал вдруг он, отодвигаясь чуть в сторону, – Тут надо кое-что изменить. Жозеф, возьми-ка розги и доставь мне удовольствие видеть, как ты будешь сечь мою матушку. Только не щади ее, прошу тебя. А вы, Жюстина, возьмите у Жозефа мой член и направьте его к ягодицам вашей патронессы. Только раскачивайте его так, чтобы из него брызнуло как раз в тот момент, когда на ягодицах моей мамочки от усилий Жозефа выступит первая кровь.
Увы! Все было исполнено в точности. Госпожа де Брессак кричала от боли, кровопийца Жозеф буквально раздирал ей кожу своими ударами. Жасмин, излившись в зад своего гнусного хозяина, пришел на смену Жозефу, взяв у него пучок розг. Жозеф заменил Жасмина и принялся за их общего хозяина, а Жюстина неловкой рукой продолжала его мастурбировать.
– Сударь, – простонала госпожа де Брессак, – такого надругательства я не забуду до конца моих дней.
– Очень надеюсь, очень надеюсь на это, мадам, – живо подхватил Брессак. – Мне именно и хотелось, чтобы вы ни на миг не забывали эту сцену. Чтобы вы помнили: она может повториться, стоит вам только приняться за старое.
И тут зрелище окровавленных ягодиц госпожи де Брессак побудило нашего развратника извлечь нечто большее из этой пикантной ситуации.
– Ах, какие полушария, мадам, – воскликнул он. – Я чувствую, что необходимо продвинуться чуть дальше. В вашу честь я совершу неподражаемый подвиг! О, этот белоснежный зад! Я и не думал, что он может быть таким соблазнительным! Он так и зовет меня изменить моим вкусам! Но сначала я должен отстегать его…
И злодей взял в руки розги. Он хлестал свою мать в то время, как его самого продолжали отделывать. Затем, отбросив орудие пытки, он вонзился ей в анус.
– В самом деле, – проговорил он, – в самом деле, клянусь честью, вы с этой стороны девственница! А, черт побери, как это дивно – всаживать в зад собственной матери! Подойдите-ка поближе, Жюстина. Раз уж я решился на такое оскорбление своего культа, будьте моей соучастницей: пожалуйте-ка мне ваш задик, пусть мои руки попользуются им.
Жюстина залилась краской. Но как можно отказать тому, кого любишь? Всем этим разнузданным негодяям был представлен на обозрение ее миниатюрный зад. Им восхищались, его ощупывали. Но обязанность мастурбировать с Жюстины не сняли: ее нежным пальчикам пришлось сжимать и поглаживать основание члена, углубившегося в материнский зад, пока семя сына не хлынуло потоком во внутренности госпожи де Брессак Бедная женщина потеряла сознание.
Юный негодяй покинул наконец поле сражения, ничуть не обеспокоенный положением почтенной дамы, а Жюстина осталась с нею, чтобы привести ее в чувство и утешить, если это окажется возможным.
Наши читатели легко представят себе, как это происшествие потрясло нашу неудачливую героиню. Как она стремилась вытравить из своего сердца постигнувшую ее ужасную страсть. Но любовь – болезнь почти неизлечимая: чем больше предпринимаешь усилий, чтобы погасить ее, тем ярче разгорается ее пламя. Никогда гнусный Брессак не представал в глазах бедной девочки столь привлекательным и любимым, как в те минуты, когда разум настоятельно требовал от нее ненависти и презрения.
Глава V
Замысел отвратительного преступления. Попытки его предотвратить. Рассуждения преступника. Подготовка и осуществление этой мерзости. Побег Жюстины.
Два года прожила Жюстина в этом доме, терзаемая теми же огорчениями и утешаемая все тою же надеждою, когда нечестивый Брессак, полагая, что теперь он может быть в ней уверен, решил поделиться с нею своими гнусными замыслами.
Случилось это в пору их пребывания в деревне, когда Жюстина оставалась одна подле своей госпожи, – старшая камеристка по каким-то неотложным делам задержалась в Париже. Как-то вечером, едва Жюстина вернулась от госпожи к себе, Брессак постучал в ее дверь и попросил уделить ему время для очень нужной беседы. Как можно было отказать ему! Он вошел, тщательно закрыл за собою дверь и, устроившись рядом с Жюстиной в кресле, начал так.
– Послушай-ка, Жюстина. – Он на мгновение замолчал, словно обдумывая дальнейшее. – Я должен тебе сказать чрезвычайно важную вещь. Поклянись, что никогда никому меня не выдашь.
– О сударь! Неужели вы считаете меня способной обмануть ваше доверие?
– Ты не знаешь, чем ты рискуешь, если я увижу, что допустил ошибку, открывшись тебе…
– Самым ужасным для меня была бы утрата вашего доверия. Ничем более страшным мне нельзя угрожать.
– Дорогая моя, – продолжал Брессак, трогая руку Жюсти-ны, – ты знаешь, как я ненавижу свою мать… Так вот… Признаюсь тебе: я приговорил ее к смерти, и ты должна мне помочь…
– Я? – воскликнула, отшатнувшись от него, Жюстина. – О сударь! Как вы могли решиться на такой поступок? Нет, нет, если надо, располагайте жизнью моею, но только не настаивайте на моем соучастии в этом задуманном вами ужасном преступлении!
– Выслушай же меня, Жюстина, – сказал Брессак, ласково привлекая ее к себе. – Я предполагал, что ты встретишь это с отвращением, но ты умна, и я льщу себя надеждой, что смогу доказать тебе, что преступление это, которое кажется тебе чудовищным, в сущности, весьма простая вещь.
Два злодеяния предстали здесь твоему незрелому мировоззрению: уничтожение существа, подобного нам, и то умножение зла, которое, по твоему мнению, в результате этого уничтожения непременно произойдет.
Что касается уничтожения себе подобных, моя милая девочка, да будет тебе известно, что это преступление мнимое: уничтожение вообще не во власти человека. В самом крайнем случае он может лишь изменить форму существования, но заставить жизнь исчезнуть он не в силах. Все формы жизни равны в глазах природы, ничто не пропадает в ее гигантском горниле. Там идет непрекращающаяся плавка. Различные части материи исчезают в ней и появляются вновь, но уже в ином обличье. Что природе наши поступки? Ни один из них не может ее задеть, ни один не оскорбит ее величественности, все они одинаково безразличны ей. Ее рука не дрогнет от того, что эта куча плоти, представляющей собой двуногое существо, завтра переплавится в тысячи насекомых. Осмелимся ли мы утверждать, что создание этого двуногого стоит ей больше, чем изготовление мириадов червей, и что именно двуногое животное интересует ее более всего? Когда меня убедят в превосходстве нашего существования, когда мне докажут, что оно чрезвычайно важно для природы, тогда я, пожалуй, соглашусь, что убийство – преступление. Но пока самые глубокие исследования показывают, что и самые сложные творения живут по тем же законам, что и самые простые, я никогда не соглашусь с тем, что превращение одного из этих творений в тысячи других может как-то помешать целям природы.
Все животные, все растения растут, потребляют пищу, разрушаются и вновь возникают, не зная подлинной смерти, полного исчезновения, а лишь бесконечное число раз видоизменяясь. Всякий организм, говорю я, который сегодня предстоит перед нами в одном виде, а через несколько лет предстанет в другом, может некой прихотливою волей изменяться по тысяче раз на дню, ничуть не оскорбляя этим законов природы. Надо только тем действием, которое очень несправедливо называют преступным, вызвать к жизни энергию созидательного разрушения. Глупец же или равнодушный не решается ни на какие изменения. Более того, он еще гордится своим бездействием, он считает, что акт разрушения может быть только преступным актом. Да, дорогая Жюстина, мы не делаем ничего, что бы не было нам внушено природой. Страсти человеческие всего лишь средства выполнить ее предначертания. Ей нужно, чтобы на свет явилось новое существо, – она внушает нам любовь, и это существо рождается на свет – это созидание. Она нуждается в разрушении – роняет в наши сердца семена мщения, скупости, тщеславия, страсти к наживе, и вот происходит убийство. Но она всегда старается ради самой себя, а мы становимся, сами этого, может быть, не сознавая, лишь проводниками и исполнителями всех без исключения ее капризов.
Законам природы подчинено все в мире. Но если стихия действует, совершенно не принимая во внимание частные интересы людей, люди, также подвергаясь различным воздействиям материи, вправе использовать все дарованные им способности для своей безопасности и благоденствия. Как же можно после этого говорить, что человек разнузданный, подчиняющийся страстям, может своим поведением вызвать гнев природы, коли она сама внушила ему эти страсти? Может ли слепое орудие узурпировать права владельца этого орудия? Так убедимся же наконец, что жизнь человеческая подчинена тем же общим законам, что и жизнь животных, – по этим общим законам рука природы управляет всем миром. Решимся ли мы утверждать, что человек, смело распоряжающийся жизнью животных, не может распорядиться жизнью себе подобного? Это утверждение обличает лишь человеческое себялюбие и людскую гордыню. Все животные предоставлены собственной осторожности, ловкости, силе, всем им предоставлены равные права быть и жертвой, и убийцей. Все они равно получили от природы право корректировать процессы этой природы настолько, насколько им позволяют их способности. Мир перестал бы существовать, если бы не было такого права: каждое движение, каждое действие человека, меняет строй какой-то части материи и отклоняет от обычного течения общие законы движения. Сближая эти понятия, сопоставляя последствия, мы приходим к выводу, что человеческая жизнь зависит от этих общих законов и ничего нет противоестественного, если эти законы чуть-чуть корректировать тем или иным способом, доступным для человека. А из этого становится ясно, что каждому человеку дано право распоряжаться жизнью себе подобного и пользоваться этим правом настолько, насколько позволяют ему это силы, дарованные природой.
Убедил ли я тебя теперь, Жюстина, что жизнь даже самого важного из людей природе совершенно безразлична? Если природа оставила за собой особенное попечение о человеческой жизни, то получается, что способ, к которому прибегают, чтобы узурпировать ее права, будет выглядеть равно дурно независимо от того, направлено ли это действие на сохранение чего-либо или на разрушение. И если я остановлю камень, готовый размозжить голову моему соседу, я совершу такое же преступление, как если бы вонзил кинжал ему в спину. С этого момента я колеблю законы природы, с этого момента я присваиваю себе ее права, продлевая ту жизнь, которой могущественной рукой природы уже был намечен предел. Копыта взбесившейся лошади, жала змеи, укуса ядовитого насекомого достаточно, чтобы покончить с существом, кажущимся нам столь могущественным и жизнь которого имеет в наших глазах огромную ценность. Так не абсурдно ли полагать, что наши страсти совершенно законно распоряжаются явлениями, которые зависят от столь случайных и ничтожных вещей? А не есть ли наши страсти такие же проводники воли природы, как насекомое, смертельно жалящее человека, или растение, отравляющее его? Я не считался бы преступником, останови я, если б у меня достало на это сил, течение Нила и Дуная. И я буду им признан, если отвращу несколько капель крови от течения по предназначенному им пути! Нет ни единого существа в мире, не подчиненного могучей власти природы; нет никого, кто мог бы, каким бы могучим и уверенным ни казалось нам его действие, расстроить планы природы, потрясти порядок, установленный во вселенной.
Я разрушил некий субъект – он мертв. Но элементы, из которых он был образован, разве не существуют по-прежнему в мире и разве теперь они не столь же необходимы великому механизму вселенной, как и тогда, когда они составляли существо, разрушенное мною? Жив ли, мертв ли человек, ничто не изменилось в мире, ничто не исчезло из него. Было истинным богохульством отваживаться утверждать, что столь жалкие существа, как мы, могут каким-либо образом поколебать мировой порядок и подменить собою природу. Допустим на минуту, если вам это угодно, что нас обяжут беспрестанно творить добро. Но обязанность эта должна быть несколько ограничена: добро, получаемое обществом от существования того, кто весьма меня смущает, не равно, разумеется, тем неудобствам, которые я испытываю от срока жизни этого человека. Зачем же мне продлевать его дни, когда они имеют весьма сомнительную ценность для других и ложатся тяжким бременем на меня? Пойду дальше: если убийство зло, то оно остается таковым во всех случаях, при любых условиях. Тогда все властители, все народы, играющие человеческой жизнью в своих интересах, – словом, все смертоубийственные мечи, опускающиеся на голову человека, преступны или равным образом невиновны. Если они преступны, то и я могу быть таким же, так как сумма страстей и интересов народа слагается из страстей и интересов частных лиц, и нельзя позволять народу приносить себя в жертву ради своих страстей или своих интересов, не позволяя в то же время поступать подобным же образом и отдельным особям, этот народ составляющим. Предположим теперь второе: все они невиновны. Чем же рискую я во всех тех случаях, когда моя страсть или мои интересы побуждают меня к таким поступкам? И какими глазами посмотрим мы на того, кто осмелится назвать эти действия преступными?
Нет, нет, Жюстина, природа не дает нам возможности совершать преступления, разрушающие ее хозяйство. Разве не вполне очевидно, что у самого слабого нет возможности хоть как-то задеть самого могущественного. Кто мы по отношению к природе? Могла ли она, создавая нас, вложить в нас способность вредить ей? Не является ли акт убийства одним из тех действий, что служат исполнению ее желаний, позволяющих этим действиям никогда не прекращаться?
Можно ли повредить природе, подражая ей? Может ли она оскорбиться, видя, как человек делает то, что она совершает ежедневно и ежечасно? Раз доказано, что природа может созидать, лишь разрушая, разве не в ее целях множить число разрушений? И потому человек, со страстью и беспрестанно творящий смертоубийства, не самый ли угодный для нее человек? Первейшее и самое прекрасное качество природы – ее постоянная изменчивость, ее постоянное пребывание в движении. Но это движение – всего лишь цепь постоянных преступлений. Только благодаря им она и существует. Она живет, она поддерживает, она упрочивает себя только силами разрушительными. Повторю еще раз: существо бездейственное, бесхарактерное, вялое, иными словами, существо добродетельное, несомненно, ничего не стоит в глазах природы, ибо его апатия, его безразличие, его бездейственность погружают природу в хаос и нарушают установления космоса. Итак, быть – значит совершать преступления. Я совершаю преступления – следовательно, я существую, служу природе, следую ее предначертаниям, исполняю ее желания.
Но существо, которое мне предстоит разрушить, моя мать. Вот второй угол зрения, под которым мы должны рассмотреть понятие убийства.
Не приходится сомневаться, что единственный мотив супружеского соития есть наслаждение, ожидаемое матерью от этого акта. Это установленный факт, и я спрашиваю: откуда же родиться признательности в сердце плода этого чисто эгоистического акта? Для кого же старается мать – для себя или для своего ребенка? Думаю, что это вопросы риторические. Однако дитя появилось на свет, мать его вскармливает. Есть ли в этой второй операции основание для благодарности, которое мы ищем? Уверен, что нет. Если мать оказывает подобную услугу своему ребенку, то ею движет совершенно естественное желание освободить свои железы от молока во избежание угрозы серьезного заболевания. Она уподобляется самкам животных, которых молоко убило бы, если бы они не начинали тотчас же от него освобождаться. Где еще найдут они столь легкий способ избавиться от угрозы своему здоровью и даже самой жизни? Следовательно, не дитя должно быть благодарно матери, а, напротив, мать должна быть благодарна своему ребенку за столь огромную услугу. Итак, ребенок родился, выкормлен, а мы пока так и не нашли ничего, за что он должен бы благодарить свою мать.
Ну а как быть с заботами, говорите вы мне, которыми окружен ребенок в пору, наступающую после раннего детства? Да никак! Поскольку и здесь нет иного мотива, кроме материнского тщеславия и гордыни. Ведь и здесь молчаливая природа не повелевает женщине более того, что она повелевает самкам животных. Ничего сверх необходимых забот о жизни ребенка и собственном здоровье. Это такой же механизм, который порождает сожительство виноградной лозы и молодого вяза. Сверх этого, говорю я, природа не предписывает ничего. Мать может бросить дитя, ребенок вырастет и окрепнет без нее. Так растут детеныши животных, когда их отнимают от сосцов. Для женщины это скорее дело привычки, соблюдение внешних приличий: пользы теперь от материнского попечения нет никакой. Мать только подавляет инстинкты в ребенке, мешает ему стать самостоятельным, постоянно регулируя его поведение.
И я спрашиваю, неужели и за это ребенок должен быть признателен своей матери? Между тем он достиг возраста созревания. Какие же мысли придут ему в голову, если он способен размышлять? Что он должен чувствовать по отношению к той, что, как говорится, подарила ему жизнь? Решусь сказать – отчужденность, если не ненависть: она передала ему свои недуги, свою дурную кровь, свои пороки, да и саму жизнь он получил от нее лишь для того, чтобы быть в этой жизни несчастным, неудовлетворенным. О какой же благодарности можно тут говорить, если куда более оправданным выглядит зарождение самой глубокой неприязни? Вот и выходит, что во всех случаях, когда сын может распорядиться жизнью своей матери, он должен это делать без малейшего угрызения совести. Наоборот, он должен поступать решительно, ибо такую женщину можно только ненавидеть, а ненависть ведет к желанию отомстить, а мстительность насыщается убийством. Пусть же безжалостно уничтожает он это создание, по отношению к которому он воистину не имеет никаких обязательств: пусть смело рвет грудь, вскормившую его. Это не большее преступление, чем убийство другого подобного себе существа, а то, что такое убийство не преступление, уже было доказано. Отбросьте наконец всякие размышления о родственных связях и мнимом долге по отношению к вашей матери, отцу, супругу, детям и т. д. Внемлите доводам разума, и вы увидите, что вы одиноки в этом мире. Все эти химерические связи выдуманы людьми, которые, родившись слабыми, ищут, за что бы им уцепиться в этом суровом мире.
Отбрось же эти предрассудки, Жюстина, слушай меня, и счастье твое обеспечено.
– О сударь, – отвечала бедная девушка, приведенная в ужас услышанными рассуждениями. – Равнодушие природы, о котором вы говорили, есть лишь результат ухищрений вашего ума. Но вы прислушайтесь к вашему сердцу, и его голос произнесет решительный приговор всем фальшивым доводам порока и разврата. Сердце – это орган, к которому природа, оклеветанная вами, зовет вас прислушаться. И когда вы услышите голос своего сердца, вы устыдитесь того преступления, которое вы задумали. Ах, сударь, оберегайте, сохраняйте дни вашей матушки, вашего нежного и любящего друга. Иначе вы и сами погибнете в муках раскаяния и угрызений совести: каждый день, каждую минуту вам будет являться образ той, кого свела в могилу ваша слепая ярость. Вы будете слышать ее жалобный голос, произносящий те ласковые имена, которыми она награждала вас в детстве. Она будет являться вам при ваших пробуждениях, она будет мучить вас в ваших сновидениях, она будет погружать свои персты в кровавые раны, нанесенные вами. Ни одного светлого дня не будете вы знать на земле, все ваши наслаждения окончатся, все ваши мысли смешаются. Рука небесного Провидения, о котором вы так несправедливо судите, неизбежно отплатит вам и отравит ваши дни. Вы не сможете пожинать плоды вашего преступления и умрете от смертельной тоски, от раскаяния, что совершили его.
Жюстина лила горькие слезы, произнося эти последние слова. Она стояла на коленях перед чудовищем, слушавшим ее с миной, где были смешаны гнев и презрение. А она заклинала его всем, что может быть для него свято, отказаться от ужасного замысла, тайну о котором она клялась блюсти до конца своей жизни. Невинное создание, она не представляла, до какой степени доходят страсти в таких преступных душах, какою была душа Брессака. Ей не было ведомо, что целомудренность, сострадание чужды злодейскому сердцу, действуют на него словно бич погонщика и лишь усиливают стремление осуществить свой проект на деле. Истинным ценителям разврата нравится, когда их клеймят позором, упрекают в бесчестии, взывают к совести – это наслаждение для души извращенной. Разве не знаем мы алчущих пыток, уготованных им людским правосудием, тех, кто поднимается на эшафот, как на колесницу славы, и идет навстречу гибели с той же дерзостью, с какой совершал ужасные преступления? Таков человек на последней ступени испорченности. Таков Брессак.
– Вижу, – холодно вымолвил он, вставая с кресла, – что обманулся в своих ожиданиях. Но мне досадно больше за вас, чем за себя. Я отыщу другие пути, а вы в результате потеряете очень много, ничего не выиграв для своей госпожи.
Эта угроза переменила весь ход мыслей Жюстины. Отказываясь от предложенного ей преступления, она слишком рисковала сама, не отвращая, однако, неминуемой гибели своей госпожи. Соглашаясь же на пособничество, она укрывала себя от ярости Брессака и, возможно, спасала маркизу. Эти мысли мгновенно пронеслись в голове Жюстины, и она решилась согласиться на все, но не сразу, чтобы внезапная перемена ее настроения не показалась подозрительной. Поэтому она искусным образом вынудила Брессака повторить часть своих максим, потом задумалась, как бы подыскивая верный ответ. Брессак решил, что она побеждена, и распахнул ей навстречу свои объятия. Какая радость для Жюстины, если бы не повод, вызвавший этот жест! Но пришли другие времена: ужасное поведение этого человека, его замысел матереубийства испарили из сердца Жюстины последние чувства. Холодно взирала она на недавний предмет своего поклонения и видела в нем только отъявленного злодея, недостойного ее сердца ни на одно мгновение!
– Ты первая женщина, которую я обнимаю, – сказал Брессак, пылко прижимая ее к своей груди. – Ты прелестна, дитя мое. Лучи философии наконец-то просветили твой ум. Да и возможно ли, чтобы такая очаровательная головка так долго оставалась во мраке предрассудков? Ах, Жюстина! Светоч разума рассеял тьму, в которой ты пребывала! Теперь ты все видишь ясно, ты поняла, что преступлений нет, и священный долг личного интереса победил наконец жалкие убеждения добродетели. Нет, решительно ты ангел, и я не знаю, что может помешать тому, что так и толкает меня переместить свои вкусы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































