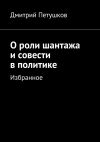Текст книги "Собрание стихотворений. Роман в стихах (сборник)"

Автор книги: Марлена Рахлина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Шумят, шумят московские процессы…»
Шумят, шумят московские процессы,
гремят, гремят могучие грома!
А мы здесь чиним старые протезы,
чтобы остаток жизни дохромать.
На девственной земле периферии,
то после сева, то перед жнивьем,
мы и не то еще переварили,
мы и не то еще пережуем.
А вам, злецы, московские стиляги,
тебе, тебе, свободы соловей,
мы рекрутов все новых поставляем,
послушных, загорелых сыновей.
Все замерло. Все умерло как будто.
Покой нужней. Покой всего милей.
Покойся до поры, зародыш бунта,
под белым снегом ясности моей!
«Поистине чудо, что мы…»
Поистине чудо, что мы
живем, не чураясь успеха,
живем среди плача и смеха,
средь лета, а также зимы.
Поистине чудо, что мир,
где столько всего накопилось,
не кончилось и не забылось,
все так же желанен и мил.
А это не чудо ль, что ты,
земля, увлажненная кровью,
с признательностью и с любовью
даришь нам хлеба и цветы?
И между тюрьмой и войной
все рады, все сыты, все пьяны,
так желто и красно вино,
так звонки и полны стаканы.
А главное чудо: шутя
и с жизнью чудак расстается.
Не смысля, смеется дитя –
все ведая, старец смеется.
Не я
Ю. Д.
Нет, то была не я, не я!
Не я глазами колдовала,
не я губами целовала,
не голубок и не змея,
и не своя и не твоя…
И вновь – не я,
опять – не я,
под стук колес, на жестком ложе,
за молодой немудрой ложью
боль и погибель затая,
не я, клянусь тебе, не я!
Не я открыла дверь – беде
с нечеловеческою мордой,
не я была в те годы мертвой
и ожила невемо где,
не я, не я, из года в год, –
с другим лицом, с другой судьбою –
женою, матерью, сестрою
перебывала в свой черед,
не я в веселые моря
бросала радость и усталость…
Чудная жизнь вдали осталась,
чужая чья-то, не моя.
Гляжу, на локоть опершись,
дивлюсь, волнуюсь, протестую…
В свою не верю, прожитую,
еще не конченную жизнь.
1971
Мне жить не нужно…
Мне жить не нужно потому,
что не хочу быть клячей,
что горько сердцу и уму
свою добычу – клянчить,
что, зло высасывая дни,
любой я дури рада
(ну, напои, хоть обмани!),
а вижу только правду.
Мне жить не нужно. Но живу.
Беру и жажду, и жару,
и недолет, и недобор…
Несется жизнь во весь опор:
и юность – погреб винный,
и зрелость – поле минное,
и старость – порох пыльный…
А лопнет – шарик мыльный.
«Бывало и сладко и больно…»
Бывало и сладко и больно
четыре десятка подряд.
Довольно смиренья. Довольно
бессильных словесных затрат.
Покуда я душу спасаю,
ты вновь запасаешь ножи,
и топчешь, и косишь, босая,
нагая, двужильная жизнь.
Добычей горят твои сети,
гремят барабаны отбой,
и глупые, жалкие дети
не знают, что делать с тобой.
Воюет река с берегами,
нет мира у ночи и дня,
за что ж ты меня сберегала?
За что сберегала меня?
Давай, открывай мои жилы,
на рдеющих руслах замри,
чтоб кровью моей послужила
за грубые соки земли.
Скорей подставляйте стаканы,
глотайте, спеша и давясь,
и будьте вы сыты и пьяны
за то, что жила среди вас.
На этой кровавой, на красной,
на глупой земле – торжество.
А кто-то вздыхает: «Напрасно!»
Чья правда? Моя ли? Его?..
Почему я не могу верить
Лине Волковой
Ну, что ты все споришь и споришь со мной,
твердишь свои доводы, догмы?
Послушай, играют у нас за стеной
настырно, фальшиво и долго.
Крепка твоя вера, упорен твой труд,
и прост результат, но реален…
Послушай, играют, играют – и врут,
хоть ноты стоят на рояле!
Послушай, послушай, «послушай сюда»!
Все зыбко на этой арене:
зрит «да» в твоих «нет», видит «нет» в твоих «да»
мое беспощадное зренье.
С сомненьем глядишь на меня до поры
своими глазами большими,
а я ведь не выйду из этой игры,
хотя в ней играют фальшиво.
Под топот сапог и под шепот параш,
от подлого страха немея,
скажу дирижеру, что стал он палач.
А большего – я не умею!
Прощание
Лине и Алику
«Пробил час. Божий глас раздается…»
«Вот уедете – и все…»
Пробил час. Божий глас раздается
над расколотой нашей судьбой…
Половина души остается,
половину возьмите с собой,
чтоб в полосочке памяти узкой
вечно пел дух берез и полей
о печали еврейской и русской,
о немолчной печали моей.
«Что же делать, раз выпало так…»
Вот уедете – и все:
память птицей голубою –
гильотиной – колесо
над моею головою.
Что же делать, раз выпало так,
раз так хочет неистовый Бог?
Он и вечно был грозный чудак,
но грозней начудить бы не смог.
Зов судьбы, голос труб, гром литавр,
за плечами две тысячи лет.
И деревья, с корнями, летят,
а другие рыдают им вслед,
потому что – смирись и замри –
тот же Бог за тобою, за мной,
потому что росли – из земли,
потому что срослись – под землей,
потому что, кого ни моли –
рок – стоять – на посмертный почет!
Ах, как ранены корни мои!
Как им больно, как сок их течет!
«Люблю я спать! Блаженный, томный…»
Люблю я спать! Блаженный, томный
полет. Блаженный томный спад.
Ненастным утром, ночью темной
люблю я спать! Люблю я спать!
Дыша и руки простирая,
покончив с будничной возней,
так нежно между простынями,
как на поляночке лесной.
(Убили день и промотали,
затмили свет, согнули стать…)
Усну – и бред, и бормотанье…
Люблю я спать, люблю я спать.
Всю быль, все боли убивая,
вражду, любовь неся на слом,
жизнь вытекает, убывает,
как горлом кровь, выходит сном.
А спросит сон: «Взбивать матрацы,
чтоб я тебя от жизни спас?»
И я скажу ему: «Старайся,
давай! Взбивай! Люблю я спать!»
Килограмм сна
Где бы купить килограмм сна?
Килограмм круглого крепкого сна?
Теплого, как тесто,
мягкого, как снег, сна?
Чтоб его одеяло
после жизни земной,
шевелясь надо мной,
меня одевало…
Где бы купить килограмм идеала?
Килограмм
сладкой белой булки добра?
Речку – без дна?
Утро – без дня?
Кто там смеется?
Где продается,
где бы купить килограмм сна?
«Нет больше времени на злость…»
Нет больше времени на злость,
на скорый суд, на суету,
а мудрость – запоздалый гость,
а старость видно за версту.
Нет больше времени на страсть,
на счастье ни минуты нет,
зато есть вечер, чтобы всласть
глядеть несбывшемуся вслед,
и ветреность – кончать шутя,
не утомляя никого,
и вечность есть: мое дитя,
дитя дитяти моего.
Потом
Потом, когда-нибудь потом
пойду я праведным путем,
потом я сделаю дела,
потом, когда сгорит дотла
вся жизнь, вся радость, два крыла,
плоть уколовшая игла,
когда сыграется игра,
и грянет вечер надо мной
и грузный сумрак, сон ночной…
Когда сверкающий экран
погаснет, высохнет поток…
Я сделаю дела потом!
Вечер
«Вечер, вечер, ввечеру…»
Этих слов напев вечерний
полон грустного значенья
неизвестно почему.
«Вечер, вечер, вечерком…»
Пахнет сыростью и тайной,
юной шалостью случайной,
шелестящим ветерком.
Вечера да вечера…
За вечерним крепким чаем
ожидаем, не скучаем:
«Завтра лучше, чем вчера».
Вечер… Вечер… Вечерок
скоротали, посидели…
Не пора ли, в самом деле?
Кончен вечер, вышел срок,
сдан заученный урок,
ждут раскрытые постели,
вот вам бог, а вот порог!
Все будет завтра…
Все будет завтра, верь мне! Завтра.
Все будет завтра, продержись!
Погожий день, и полный закром,
и замечательная жизнь.
Все будет завтра по порядку,
чему-нибудь да помолюсь.
Я завтра сделаю зарядку,
водой холодной обольюсь.
Я завтра одолею леность
и что в кармане ни гроша,
я понаряднее оденусь,
и люди скажут: «Хороша!»
И завтра труд мой многопудный
окончен будет сам собой,
и завтра друг мой многотрудный
придет, здоровый и живой…
И неужели хватит духу
у злой судьбы, у бытия
убить счастливую старуху,
которой завтра стану я?
Друзьям
Любите меня. Не давайте, чтоб голод замучил,
чтоб жажда и зной иссушили средь белого дня.
Любите меня: озабоченной, грустной, замужней,
усталой, притихшей, – а все же любите меня.
Любите меня. Я плыву по реке моих буден,
и серые воды не гасят скупого огня.
Любите меня. Ведь без вас меня просто не будет,
и стыдно вам будет,
что вы не любили меня.
«Всю ночь душа моя…»
Леониду Григорьяну
Всю ночь душа моя
по воздуху летала,
ей лунная струя
о чем-то лепетала,
там тучи-дерева,
там облачки-поляны,
и были все слова
невнятные – понятны.
А утром – чей-то зев,
рассветный блеск повсюду,
в двери гремит засов,
в шкафу звенит посуда,
скрипит вороний карк…
Опять потянем лямку!
Не втиснуться никак
в свои земные рамки.
Что за ночь ни припас,
грабитель белый грабит,
и заводной скрипач
на скрипочке играет…
Но есть привычка – жить:
брить или пудрить щеки,
горячий кофе пить
и чистить платье щеткой,
в трамвай набитый лезть,
на службу торопиться,
на стул разбитый сесть
и над столом склониться,
и оглянувшись вдруг
в миг выдоха иль вдоха,
понять, что все вокруг
совсем не так уж плохо!
Календарь
Календарь! Расписание дней,
Календарь! Толкованье погоды,
поколений, рождений, смертей
ты расчислил на дни и на годы.
Рассчитал, где добро и где зло,
вывел будничный день и воскресный…
Ну, а если вот это число
станет черным, а это вот – красным?
Не таись! Не молчи! На, ударь!
Прекрати ледяное старанье!
Календарь, календарь, календарь!
Ничего ты не скажешь заране!
Ты молчишь, неразгаданный год,
Дремлешь, копия. Спишь, комментарий.
День идет. День идет. День идет.
Увядает листок календарный.
Тополь времени! Дерево дней!
Себялюбец кичливый, невинный!
За листвой мимолетной твоей
леса жизни и смерти – не видно.
Мгновенье
Мгновение, не стой! Иди своей дорогой,
лети своим сверкающим путем,
и только сердце обожги потом,
и только память издали потрогай.
Мгновенье, ты прекрасно: уходи!
Как бьющуюся рыбу у воды,
держу тебя в руках, дрожу и медлю.
Бросок! Сверкай с отливом заодно…
Уходят волны. Обнажилось дно.
И жажда жжет над опустевшей мелью.
«Двадцать минут до звонка…»
Двадцать минут до звонка.
Ты сочиненье допишешь?
Песенка перьев звонка,
ну не мешайте ж, потише ж…
Режут ремни рюкзака,
в поле уходит ваш поиск,
двадцать минут до звонка.
Не опоздаешь на поезд?
Ну, как освищет раек?
Крикнут: «Зачем вы? И кто вы?»
Близок последний звонок.
Роли листают актеры.
Двадцать минут до звонка!
Жаркое столпотворенье!
Не поддается пока
жизни стихотворенье!
Не удается строка.
День улетает и тает,
Двадцать минут до звонка!
Рифмы одной не хватает!
Сколько еще до звонка?
Видишь, любимые плачут,
белый цветочек с венка
мальчик для девочки прячет.
Сентиментальные стихи
Фаине Шмеркиной
Сияет пол, натертый заново,
еще светлей, еще рыжей,
смешались елочные запахи
и дух ванили и дрожжей;
здесь бормотанье патефонное,
и рюмок звон, и пробок щелк,
там, за стеной, дыханье сонное,
головок детских теплый шелк.
Легко, как петелька за петельку,
словцо берется за словцо.
Звенит твой детский голос, песенка,
сияет доброе лицо,
и старый мир с печальной радостью
любуется из-под очков
тобой, из прелести и слабости,
и лепета, и пустячков.
А завтра – неуклюжим ящером
он доброту с себя стряхнет,
газетой влезет в щели ящиков,
из репродукторов дохнет,
и застилая Запад матовый,
он выползет на склоне дня,
пустынной тенью гриба атомного
людей от жизни заслоня.
Но ты, что сыплешь смерть, как манну,
что целишь метко, бьешь вповал,
ты тоже звал кого-то мамою,
ты тоже песни напевал,
и у тебя сидят знакомые,
и влагой рюмочки дрожат,
и у тебя головки темные
на белых наволоках лежат.
Как это с песенкою вяжется?
С веселой нитью мирных дней?
Как это взвесится и скажется
на жизни проклятой твоей!
Мир над тобою, полка книжная,
огонь труда и дым костра,
мир над тобой, погода лыжная,
и мир над вами, вечера,
над вами, дворики и лесенки,
и детских комнат теплота.
Мир над тобою, свет мой, песенка!
Мир над тобою, Доброта!
Первая четверть[2]2
С 1957 года при исправительно-трудовых колониях открыты школы рабочей молодежи.
[Закрыть]
Я работаю в школе: тетрадки и книжки,
кверху тянутся руки, привычно и просто…
А выходишь – маячат дозорные вышки,
и на них часовые высокого роста.
Листья держаться насмерть. Торопится осень.
Выбиваясь из сил, зеленеют травинки.
«Джентльмены удачи» журналы мне носят,
мы читаем о Гоголе и о Стравинском…
Плеск дождя за окном: он сырой, равномерный.
Он знакомых с ненастьем братает на вечер.
Злы и терпки слова. И не меркнет, не меркнет,
раз затеплившись в мутных глазах, человечность.
Почему они верят мне? Верят и дарят
пониманьем. Прошедшим и будущим платят.
Или, старым сияньем наполнясь, ударил
электрический свет в донкихотские латы?
До утра! Может быть, разорит и унизит
новый день мою трудную, шаткую радость?
Что ж, упал – подымись, что ж, согнут –
разогнися,
да простит тебе тот, кто не падал ни разу!
Музыка
Лине Волковой
Срываясь звонко из-под стрех,
стучатся льдинки об трубу,
ложится скромный, белый снег
на пожелтевшую траву.
И запах Родины, как дым,
как плач ребенка, как ночлег;
по рекам сонным и седым
сугробы наметает снег…
Сплелись въедино сердца мгла,
надежды ветер голубой,
печали тонкая игла,
себя убившая любовь.
К теплу и счастью не спеша,
дыша морозом молодым,
тихонько движется душа
сквозь легкий, светлый, снежный дым.
Когда жестокой мысли бег
прервать захочет твой восторг,
когда сквозь тихий этот снег
пробьется разума росток,
ты растопчи его ногой,
не дай ему ни пить, ни есть,
он здесь чужой, он здесь другой,
он лишний! Он не нужен здесь!
Поэты не любят поэтов
Там жили поэты – и каждый встречал
другого надменной улыбкой.
А. Блок
У поэтов есть такой обычай:
в круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Д. Кедрин
А мне чужих стихов не надо:
мне со своими тяжело.
А. Гитович
Железкой из камешка люди
свои добывали огни.
Поэты поэтов не любят.
Читателей любят они.
Поэты не любят поэтов.
Поэты читателей чтут.
Как будто бы камень – по эту,
как будто железо – по ту
черту,
где угрюмо, ревниво
сшибаются, лбами звеня,
во мраке – огниво с огнивом,
и нет между ними огня.
Поэты не любят поэтов.
К читателю тропку торю:
сто раз говорилось про это,
и в тысячный раз повторю,
о том, как коробилась почва,
и лес, занимаясь, гремел,
когда беспощадно и точно
кресало всекалось в кремень.
Что-то новое случится
Все дорога, все дорога.
Огонек звезды лучится.
«Ну, пошел же, ради бога!»
Может, новое случится?
Ах, наш синенький автобус,
с грунтовой дорогой ссорясь,
неожиданно озлобясь,
набирает третью скорость!
Полетели тучи, ели,
месяц рожками стучится
прямо в крышу…
Неужели
что-то новое случится?
В окна рвется ветер, ветви,
воздух лета, дух движенья!
Ни в одной тяжелой битве
я не знала пораженья,
ни одна беда земная
надо мной не приключится
до тех пор, пока я знаю:
что-то новое случится!
«Вранье! Мы, все же, победим!..»
Л. Пугачеву
Вранье! Мы, все же, победим!
Не говорю, что одолеем!
Всего скорее околеем,
наивно доказуя им,
что деньги – сор, а слава – дым…
И все же, все же, победим.
Ведь это мы, а не они,
даем народу хлеб и воду
любви, искусства и свободы,
ведь это мы, а не они,
решаем, ведро или слякоть,
смеяться людям или плакать.
Ведь это мы, из наших комнат!
Ведь это нас с любовью вспомнит
народ в предбудущие дни!
Мы победим, а не они!
«Зной поспеет, брызнет сок…»
Зной поспеет, брызнет сок:
это лето созревает.
Солнце землю согревает.
Спит до завтра колосок.
Под покровом расписным,
под листами золотыми,
под снегами молодыми
засыпаю вместе с ним…
Кто тут старец, кто юнец?
Надо ль рваться вон из круга,
где начало и конец
так похожи друг на друга?
Все мешает суета
неисполненному долгу:
знать, что смерть – не навсегда,
не навечно, не надолго.
И пока густеет кровь,
все грознее и все чаще
в малом мускуле стучащем
не вмещается любовь,
и течет, течет из уст,
из очей потоком льется,
в новой песенке поется
без ошибок, наизусть.
Прозрачный октябрь
(1973–1980 гг.)
Цветок
Над широким листом изогнул лебединую шею
нераскрытый цветок: и своей красотой величается,
и не знает своей красоты, и еще хорошеет,
и стоит на ветру, и росою блестит, и качается.
Ни начала ему, ни конца: впился в черное лоно,
влагу пьет, слезы льет, испаряется, дышит,
как дышится.
Совершенство не знает творца: вьет свой листик
зеленый,
все стоит на ветру, все росою блестит,
все колышется…
«Я холодом дышу. Не говорю ни слова…»
Я холодом дышу. Не говорю ни слова.
Ногам тепло, покой, иду и не спешу…
Дышала ль пламенем? Поутру холод снова:
я холодом дышу, я холодом дышу!
Вкус воздуха так свеж, так сладок он и плотен,
под каблуками хруст, иду я, как пишу.
Душа невысока: воробышек в полете.
Я здесь. Я на земле. Я холодом дышу.
Бывало ль что когда? Жила ль я в мире прежде?
Я помню все, молчи, не говори, прошу!
Назло беде и злу, и чуду, и надежде
иду по снегу я и холодом дышу.
«Где ты прячешься, Судьба?..»
Где ты прячешься, Судьба?
Отчего тебя не видно?
Знаю я: тебе постыдно
моего не метить лба.
Знаю я, что ты в кустах,
и в трамвае, и в постели,
и в моем нехитром теле:
сразу в многих ты местах.
Хоть последний луч погас,
хоть едва забрезжил первый,
со внимательностью скверной
смотришь тысячами глаз.
Слышу в щелочке любой
шелест, шорох и шептанье:
«Здравствуй!» или «До свиданья!»,
«Скоро свидимся с тобой!»
Век
Не позабыть и не простить,
что сделал век мой, враг и враль:
горячей крови дал простыть,
апрель перевернул в февраль,
не только сосны – и дубы
ты переделал на гробы,
звон колокольный – на «звонок»,
а ворона – на «воронок»,
а от звонка и до звонка,
от воронка до воронка
легла дорога, как река
под наименованьем Лета,
и ни ответа, ни привета,
одна тоска…
Ничем не отблагодарить
тебя, мой век, великий врач:
пошел свои дары дарить –
кто глуп и слеп, стал мудр и зряч.
Не только старых – и младых
ты – под печенку и под дых,
чтоб прозревали и могли
узнать, «в чем счастье на земли»…
А счастье вот в чем: та река
для нас становится мелка,
езда становится легка
хоть через зной, хоть через вьюгу
и узнаем на ней Друг – Друга
издалека!
«Ведь что вытворяли! И кровь отворяли…»
Ведь что вытворяли! И кровь отворяли,
и смачно втыкали под ногти иглу…
Кого выдворяли, кого водворяли…
А мы все сидим, как сидели, в углу.
Любезная жизнь! Ненаглядные чада!
Бесценные клетки! Родные гроши!
И нету искусства – и ладно, не надо!
И нету души – проживем без души!
И много нас, много, о Боже, как много,
как долго, как сладостно наше житье!
И нет у нас бога – не надо и Бога!
И нету любви – проживем без нее!
Пейзаж моей Родины неувядаем:
багровое знамя, да пламя, да дым,
а мы все сидим, все сидим, все гадаем,
что завтра отнимут? А мы – отдадим!
1975 г.
Борису Чичибабину
О милый брат мой, каторжник и неуч!
О лучшее сокровище мое!
Ни кесари, ни бедствия, ни немощь
твое не перемелют бытие!
Твои смешные, странные замашки
я не отдам на справедливый суд:
ведь у тебя бумажки есть в кармашке…
Бумажки есть в кармашке – в этом суть.
Дворцы и тюрьмы, города и веси,
все ихнее величье и почет, –
одна твоя бумажка перевесит,
дух освежит, от духоты спасет.
Твоя казна – особенного рода:
за непорядок твой, за неуют,
за твой глоток шального кислорода –
в стране моей свободу отдают.
Ах, все на свете знаем и опишем:
что плоть у нас слаба, а дух раним,
и чудо, что еще покуда дышим
на родине мы воздухом родным,
что в Божьей воле – Божие творенье,
слова – и те не вечны, и т. п.
Пусть выживет мое стихотворенье,
мое стихотворенье о тебе.
«Голоса улетающих птиц умолкают средь чуждой природы…»
Голоса улетающих птиц умолкают средь чуждой природы.
Вслед за ними все новые, новые, новые стаи летят.
Птицы певчей породы, родной, драгоценной, нездешней
породы
тут, на стуже, меня покидают, со мной зимовать не хотят.
Но прекрасно и здесь, но отлично и здесь, на родимом
болоте:
крылья в тине увязли, привычно, устойчиво наше былье…
Вспоминают ли птицы в своем сумасшедшем и буйном
полете,
вспоминают ли дом и любовь, и друзей, и родное болото
свое?
Ну, а мы-то живем – не чирикаем: кормимся кислым и
терпким,
обнимаемся, греемся, терпим, находим, что можно терпеть.
Ненавидим – и терпим, надеемся, веруем, любим – и
терпим,
выбираем – любить и терпеть, навсегда разучаемся петь.
Побег из содома
Когда со всех ступеней мы сойдем,
чтоб никогда обратно не вернуться,
оглянемся на свой родной Содом.
О, праведники, как не оглянуться!
Виновных нет меж нас ни одного,
навеки отрекаемся от дома.
Бог повелел идти: ведь перст Его
коснется завтра нашего Содома.
О, праведники! Справедливей всех –
а каждый оглянулся, как насильно:
здесь наше все, и даже стыд и грех,
и запах крови – матери и сына.
Оглянемся – останемся на нем,
останемся, и сомневаться не в чем,
на кладбище на том на соляном,
от всей вины своей осолоневшем.
Одна любовь
Одна любовь – и больше ничего.
Одна любовь – и ничего не надо.
Что в мире лучше любящего взгляда?
Какая власть! Какое торжество!
Вы скажете: «Но существует Зло,
и с ним Добро обязано бороться!»
А я вам дам напиться из колодца,
любовь и нежность – тоже ремесло.
Любовь и нежность – тоже ремесло,
и лучшее из всех земных ремесел.
У ваших лодок нет подобных весел,
и поглядите, как их занесло!
«Увы, мой друг, – вы скажете, – как быть:
любовь и слабость или злость и сила?»
Кому что надо и кому что мило:
вам – драться, им – ломать, а мне – любить.
А мне – во имя Сына и Отца,
во имя красоты, во имя лада…
Что в мире лучше любящего взгляда?
И только так, до самого конца!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?