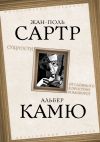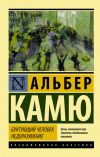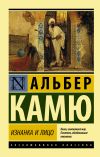Текст книги "Запад. Совесть или пустота?"

Автор книги: Мартин Хайдеггер
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Можно было бы, огрубляя, думать, что слова эти означают следующее: господство над сущим переходит теперь от Бога к человеку, – а еще более огрубляя: Ницше на место Бога ставит человека. Кто думает так, не слишком божественно думает о сущности Бога. Человек никогда не сможет встать на место Бога, потому что бытийствование человека никогда не достигнет бытийной сферы Бога. Между тем может, напротив, совершиться нечто такое, что, в сопоставлении с этой невозможностью, будет куда более жутким, – сущность этой жути мы еще даже не начали толком обдумывать. Место, которое, если мыслить метафизически, свойственно Богу, – это место, откуда истекает причиняющее созидание сущего и сохранение сущего как сотворенного. Такое местоположение Бога может оставаться пустым. Зато может распахнуться иное – в метафизическом смысле соответствующее место, не тождественное ни области Бога, ни области человека, – с этим местом человек, однако, вновь вступает в особо отмеченное сопряжение. Сверхчеловек не заступает и никогда не сможет заступить место Бога; место, на какое направлено воление сверхчеловека, – это иная область, область иного обоснования сущего, сущего в его ином бытии. Это иное бытие сущего стало меж тем – этим и отмечено начало метафизики нового времени – субъектностью.
* * *
Все сущее отныне – это либо действительное как предмет, либо действующее как опредмечивание, в каком складывается предметность предмета. Опредмечивание, представляя, наставляет предмет на ego cogito. Так наставляя, ego оказывается тем самым, что лежит в основе его собственного действия (то есть представляющего наставливания), – субъектом, subiectum. Субъект – субъект для себя самого. Сущность сознания – самосознание. Поэтому все сущее – это либо объект субъекта, либо субъект субъекта. Бытие сущего повсюду покоится в поставлении себя перед ним же самим и, стало быть, в поставлении себя на себя же, в восстановлении себя. В пределах субъектности сущего человек восставляется вовнутрь субъективности своего бытийствования. Человек входит в свое восставление. Мир становится предметом, предстоянием. В таком восставляющем опредмечивании всего сущего то, что, прежде всего, должно быть приведено в распоряжение представления и составления, – земля, – вдвигается в самое средоточие человеческого полагания и располагания. Сама земля может являть себя лишь как предмет нападения, атаки, которая устрояется в волении человека как безусловность опредмечивания. Природа повсюду выступает – ибо повсюду волится изнутри сущности бытия – как предмет техники.
К 1881–1882 годам, когда возникла пьеса «Безумный человек», относится следующая запись Ницше: «Грядет время, когда будут вести борьбу за господство над землей, – ее будут вести во имя Фундаментальных философских учений» (XII, 441).
Этим отнюдь не сказано, что в борьбе за неограниченное использование земных недр, месторождений сырья, за чуждое любым иллюзиям использование «людского материала» – на службе безусловного уполномочивания воли к власти вступать в свою сущность – будут прибегать к прямым ссылкам на такую-то философию. Напротив, можно предполагать, что философия как учение, как культурное образование исчезнет, да она и может исчезать в своем нынешнем облике, потому что она – в той мере, в какой была она подлинной, – уже заявила на своем языке о действительности действительного, а тем самым уже ввела сущее как таковое в историческое совершение его бытия. «Фундаментальные философские учения» подразумевают не доктрины ученых, а язык истины сущего как такового, – эта истина и есть сама же метафизика в ее облике метафизики безусловной субъектности воли к власти.
* * *
Борьба за господство над Землею – она в своей исторически совершающейся сущности есть уже следствие того, что сущее как таковое является по способу воли к власти, – притом что она и не распознана и тем более не постигнута как такая воля. И без того сопутствующие доктрины действия, как и идеологии представления, никогда не высказывают то, что́ есть, а потому и совершается. С началом борьбы за господство над Землею эпоха субъектности спешит к своему завершению. От такого ее завершения неотделимо то, что сущее – сущее, которое есть в смысле воли к власти, – во всех аспектах удостоверяется в своей собственной истине относительно себя самого, а потому и осознает ее. Осознавание – необходимый инструмент воления – воления, которое волит изнутри воли к власти. В направлении опредмечивания такое осознавание совершается в форме планирования. В сфере восставания человека вовнутрь своего самоволения оно совершается через посредство непрерывного расчленения, разлагания исторической ситуации. Если мыслить метафизически, то ситуация – это всегда остановленность (statio) акции, действования субъекта. Всякий анализ ситуации – независимо от того, знает он о том или нет, – основывается внутри метафизики субъектности.
«Великий полдень» – время самой ясной ясности, а именно ясности сознания, которое безусловно и в каждом из аспектов осознало само себя как знание, состоящее в том, чтобы сознательно волить волю к власти как бытие сущего и чтобы, восставая до самого себя, стойко выдерживать, как такое воление, любую необходимую фазу опредмечивания мира и тем самым обеспечивать, заручаясь им, постоянный состав сущего для наивозможно более равномерного и единообразного воления. Пока же волится такое воление, на человека находит необходимость волить и условия такого воления. Это значит: полагать ценности и всему давать цену согласно ценностям. Таким образом, ценность определяет все сущее в его бытии.
* * *
Это ставит нас перед вопросом: что́ же есть теперь – в эпоху, когда явственно зачинается безусловное господство воли к власти, а сама явленность и всеоткрытость его тоже становится функцией того же воления? Что́ есть? Не о событиях и не о фактах спрашиваем мы, для каждого из которых в области воли к власти найдутся по потребности и свидетельства и документы – их же по потребности можно и устранять. Что́ есть? Не о том или ином сущем мы спрашиваем, но о бытии сущего. И даже скорее спрашиваем: каково теперь самому бытию? И об этом мы тоже спрашиваем не наобум, а имея в виду истину сущего как такового, истину, что заявляет о себе в облике метафизики воли к власти. Каково бытию в эпоху начинающегося господства безусловной воли к власти?
Бытие стало ценностью. Установление стойкого постоянства состава – это необходимое, полагаемое самой волей к власти условие обеспечения самой себя. Однако можно ли давать бытию бо́льшую цену, нежели возвышая его в ранг ценности? Но только бытие, пока возводится оно в достоинство ценности, уже снижено до уровня всего лишь условия, полагаемого самой же волей к власти. Еще прежде того лишено достоинства своей сущности само же бытие – постольку, поскольку ему вообще дают цену и так возводят в достоинство. Если на бытии сущего ставят печать ценности и если тем самым предрешают его сущность, то тогда в рамках такой метафизики, а это значит – в рамках истины сущего как такового, постоянно и всегда, пока только длится эта эпоха, всякий путь к постижению бытия совершенно стерт. При этом, говоря так, мы наперед предполагаем то, чего, может быть, и не имеем права предполагать, а именно, что такой путь к самому бытию когда-то уже наличествовал и что мышление бытия уже мыслило бытие как бытие.
Не помня о бытии и его собственной истине, западное мышление с самого начала мыслит сущее как таковое. Между тем бытие оно всегда мыслило лишь в такой истине сущего, так что и наименование это, «бытие», оно изъявляет весьма косноязычно, в многозначности не распутанной – ибо не постигнутой в опыте. Это мышление, так никогда и не вспомнившее о самом бытии, есть простое и все несущее на себе, оттого-то загадочное и непостигнутое событие, разверзшееся в историческом совершении Запада вот-вот готовом расшириться до совершения мирового, до мировой истории. Напоследок бытие в метафизике упало до уровня ценности. В том свидетельство: бытие не допущено как бытие. О чем это говорит?
Каково бытию? Бытию ничего. А что, если в этом-то и возвещает о себе, впервые возвещает, затуманивавшаяся доныне сущность нигилизма? Так тогда мышление ценностями – это чистый нигилизм? Но ведь Ницше постигает метафизику воли к власти как раз как преодоление нигилизма. На деле, до тех пор, пока нигилизм понимается лишь как обесценение высших ценностей, а воля к власти мыслится как принцип переоценки всех ценностей на основе новополагания высших ценностей, до тех пор метафизика воли к власти – это преодоление нигилизма. Однако в таком преодолении нигилизма ценностное мышление возводится в принцип.
Но ведь если ценность не дает бытию быть бытием, тем, что оно есть как само бытие, мнимое преодоление нигилизма и есть самое настоящее завершение его. Потому что теперь метафизика не только не мыслит само бытие, но и само это немышление бытия прикрывается видимостью, будто оно все же мыслит бытие, коль скоро дает ему цену как ценности – самым достойнейшим образом, так что излишним становится даже и спрашивать о бытии. Однако, если в сопоставлении с мыслью о бытии мышление, мыслящее все по мере ценностей, – это нигилизм, то тогда даже и ницшевское постижение нигилизма как обесценения высших ценностей – это нигилизм. Истолкование сверхчувственного мира, истолкование Бога как высших ценностей мыслится не на основе самого бытия. Последний же удар по Богу и по сверхчувственному миру наносится тем, что Бог, сущее из сущего, унижается до высшей ценности. Не в том самый жестокий удар по Богу, что его считают непознаваемым, не в том, что существование Бога оказывается недоказуемым, а в том, что Бог, принимаемый за действительно существующего, возвышается в ранг высшей ценности. Ибо удар этот наносят не праздные зеваки, не верующие в Бога, а верующие и их богословы, которым, хотя и твердят они о сущем из сущего, никогда не приходит на ум подумать о самом бытии – ради того, чтобы при этом заметить, что такое их мышление и такое говорение их о Боге – это, если посмотреть со стороны веры, не что иное, как настоящее богохульствование, коль скоро они вторгаются в богословие веры.
* * *
Теперь лишь слабенький свет начинает проникать во мрак вопроса, который мы собирались задать Ницше с тех самых пор, как выслушали его рассказ о безумце: как же это вообще может произойти, чтобы люди были в состоянии убить Бога? Очевидно, Ницше мыслит именно такое. Ибо во всей пьесе выделены всего две фразы. Одна такая: «Мы его убили». Другая такая: «…и все-таки они содеяли его!» – то есть люди совершили это деяние, убили Бога, хотя они до сей поры и слыхом не слыхивали о том.
Выделенные фразы дают нам истолкование слов «Бог мертв». Слова эти не значат того же, как если бы кто-либо, отрекаясь от Бога и подло ненавидя его, говорил: Бога нет. Слова эти означают нечто куда худшее: Бога убили. И только тогда наружу выходит решающая мысль. Между тем это лишь затрудняет понимание. Потому что раньше эти слова – «Бог мертв» – можно было понимать и в смысле объявления – объявления о том, что Бог сам по себе удалился из своего живого наличного присутствия. Но вот что Бог был убит другими, притом людьми, – вот что немыслимо. Ницше сам же и удивляется такой мысли. Только потому безумец у него и спрашивает непосредственно после того, как произнес решающие слова: «Мы его убили – вы и я! Все мы его убийцы!» – только потому он и спрашивает: «Но как мы его убили?» Ницше поясняет этот вопрос, повторяя его в виде перифразы, в трех образах: «Как сумели исчерпать глуби морские? Кто дал нам в руки губку, чтобы стереть весь небосвод? Что творили мы, отцепляя Землю от Солнца?»
На последний из вопросов мы можем ответить так: что творили люди, отцепляя Землю от Солнца, о том говорит нам история Европы трех с половиной последних веков. Однако что же совершилось в основании всей этой истории с сущим? Говоря о сопряженности Солнца и Земли, Ницше думает не только о произведенном Коперником перевороте в постижении природы в новое время. «Солнце» одновременно напоминает нам и притчу Платонову. Солнце и вся сфера солнечного света в этой притче – это тот круг, в котором сущее является таким, каким оно выгладит, таким, каков его вид (идея). Итак, Солнце образует и ограничивает горизонт, в котором сущее являет себя как таковое. «Небосвод» – он подразумевает сверхчувственный мир как мир истинно сущий. Это же одновременно и целое, которое окружает собою все и все погружает в себя словно море. Земля как местопребывание человека теперь отцеплена от Солнца. Сфера сверхчувственного – сущего самого по себе – уже не стоит над головами людей как задающий меру свет. Весь небосвод стерт. Целое сущего как такового, море, до дна испито людьми. Ибо человек восстал вовнутрь яйности, свойственной ego cogito. По мере восставания все сущее становится представанием – предметом. До конца испитое, сущее опрокинуто теперь как объективное вовнутрь присущей субъективности имманентности. Теперь горизонт уже не светится сам собою. Теперь он лишь точка зрения, полагаемая ценностными полаганиями воли к власти.
* * *
Пользуясь нитью трех образов, – Солнце, небосвод, море, – они для мышления, как можно предположить, далеко не только образы, – три вопроса разъясняют нам, что же подразумевается этим совершением, убиением Бога. Убивать – этим подразумевается здесь устранение людьми сущего как самого по себе сверхчувственного мира. Убивать – этим словом наименовано здесь событие, в котором сущее как таковое не уничтожается, вообще и без остатка, но становится иным в своем бытии. В этом событии иным становится и человек, и прежде всего человек. Он становится тем, кто устраняет сущее в смысле сущего самого по себе. Восставание человека вовнутрь субъективности превращает сущее в предстояние – в предмет. Предстоящее же – это то, что остановлено представлением. Устранение сущего самого по себе, убиение Бога – все это совершается в обеспечении постоянного состава, заручаясь которым человек обеспечивает себе вещественный, телесный, душевный и духовный наличные составы, и все это ради своей собственной удостоверяющейся уверенности – она волит господство над сущим как возможной предметностью, чтобы соответствовать бытию сущего – воле к власти.
Обеспечивать, то есть доставлять удостоверяющую уверенность, – это основывается внутри ценностного полагания. Полагание ценностей подобрало под себя все сущее как сущее для себя – тем самым оно убрало его, покончило с ним, убило его. Этот последний, убивающий Бога, удар наносит метафизика, которая, будучи метафизикой воли к власти, осуществляет мышление в смысле мышления ценностями. Однако в этом последнем ударе, вследствие которого бытие прибито и превращено просто в ценность, Ницше уже не распознает то, что́ есть этот удар, если мыслить его, имея в виду само бытие. Однако разве не говорит Ницше: «Все мы его убийцы!» – «вы и я»? Да, говорит; соответственно, Ницше и постигает метафизику воли к власти как нигилизм. Это так; и все же – такое постижение означает для Ницше только то, что метафизика как контрдвижение в смысле переоценки всех прежних ценностей энергичнее всего – окончательно! – осуществляет начавшееся ранее «обесценение прежних высших ценностей».
Однако как раз новополагание ценностей на основе принципа всякого ценностного полагания Ницше уже не может мыслить как убиение, как нигилизм. Это новополагание – уже и не обесценение в горизонте волящей себя воли к власти, то есть в перспективе ценности и ценностного полагания.
* * *
Как же обстоит дело с самим ценностным полаганием, если оно мыслится в аспекте сущего как такового, а это значит – одновременно исходя из взгляда на бытие? Тогда мышление ценностями – это радикальное смертоубийство. Тут сущее как таковое не только забивают в его бытии в себе, тут совершенно отбрасывают само бытие. Бытие – если только есть еще в нем надобность – может признаваться лишь как ценность. Ценностное мышление метафизики воли к власти до крайности убийственно, потому что оно совершенно не допускает, чтобы бытие входило в свой восход и, стало быть, в свою живую сущность. Мышление по мере ценностей заведомо не позволяет бытию бытийствовать в своей истине.
Это убивает на корню – но разве так поступает только метафизика воли к власти? Только ли истолкование бытия как ценности не позволяет бытию быть бытием, тем, что оно есть? Будь это так, метафизика в эпохи, предшествовавшие Ницше, должна была бы постигать бытие в его истине, должна была бы мыслить его или уж по меньшей мере вопрошать о нем. Однако мы нигде не находим такого постижения бытия. Нигде не встречаем мы мышления, которое мыслило бы истину самого бытия, а тем самым мыслило бы и истину как само бытие. Даже и тогда ничего подобного не мыслят, когда в доплатоновском мышлении, начале всего мышления Запада, приуготовляют разворачивание метафизики Платона и Аристотеля. Правда, έστιν (έόν) γάρ είναι (есть бытие) именует само бытие. Однако налично присутствующее не мыслится как бытийствующее на основе его истины. История бытия начинается, притом необходимо начинается с забвения бытия. Так что дело не в метафизике как метафизике воли к власти, если само бытие в его истине остается в ней непродуманным. Странное это упущение дело лишь метафизики как таковой. Однако что такое метафизика? Ведаем ли мы ее сущность? Может ли сама она ведать свою сущность? Если она и постигает ее, то понимая метафизически. А метафизическое понимание метафизики всегда отстает от ее сущности. Это же верно и относительно всякой логики – если только предположить, что она вообще еще способна мыслить, что́ есть λόγος. Всякая метафизика метафизики, как и всякая логика философии, если только они пытаются каким-то способом перелезть через метафизику, неминуемо падают ниже всякого ее уровня, так и не узнав, куда же это они сорвались.
Между тем, для нашего мышления – думающего вослед нигилизму – яснее стала, по меньшей мере, одна черта его сущности. Сущность нигилизма покоится внутри исторического совершения, такого, в соответствии с которым в явлении сущего как такового в целом ничто же несть с самим бытием и его истиной, притом так, что истина сущего как такового признается за бытием – ибо ведь отсутствует и в нетях пребывает истина бытия. В эпоху начавшегося завершения нигилизма Ницше хотя и постиг, правда, некоторые черты его, однако истолковал их в духе нигилизма, а потому окончательно похоронил их сущность. Сущность же нигилизма Ницше так и не смог распознать – не более, чем метафизика до него.
* * *
Однако если сущность нигилизма покоится в таком историческом совершении, что в явлении сущего как такового в целом в нетях пребывает истина бытия и в соответствии с этим ничто же несть с самим бытием и его истиной, то метафизика как историческое совершение истины сущего как такового – это, в сущности своей, нигилизм. А если метафизика есть и нечто большее – основание совершения всей западной и всей мировой, в какой мере определяется она Европой, истории, то тогда эта последняя нигилистична еще и совсем в ином смысле.
Если мыслить изнутри судьбы бытия, то нигилистическое nihil означает, что ничто же несть с бытием – с бытием ничто. Бытие не выступает в свет его же собственной сущности. В явлении сущего как такового бытие остается вовне – в нетях. Отпадает истина бытия. Она по-прежнему забыта.
Так и получается, что нигилизм в своей сущности – это история, которая приключается с самим же бытием. Тогда выходит, что в сущности самого же бытия заключается то, что оно остается непродумываемым – потому что само же не дается и ускользает. Само бытие ускользает в свою истину. Оно скрывается вовнутрь таковой и, прячась, скрывает само себя.
* * *
Имея в виду такое его прячущее сокрытие его же собственной сущности, мы, быть может, чуть касаемся сущности тайны, в качестве каковой бытийствует истина бытия.
Тогда, в соответствии с этим, и метафизика была бы не просто каким-то упущением, а вопрос о бытии оставался бы для своего продумывания на будущее. И тем более метафизика не была бы простым заблуждением. Получалось бы, что метафизика, будучи совершением истины сущего как такового, разверзалась бы изнутри судьбы бытия. А тогда метафизика была бы тайной самого бытия – тайна не продумывается, потому что само бытие отказывает в ней. Будь все иначе, мышление, коль скоро оно изо всех сил трудится над тем, чтобы держаться бытия, которое надо ему мыслить, не могло бы неустанно вопрошать: что такое метафизика?
Метафизика – это эпоха в историческом совершении самого бытия. Но в своей сущности метафизика – это нигилизм. Сущность нигилизма относится вовнутрь того исторического совершения, в качестве какого бытийствует само бытие. Если – каким бы то ни было образом – Ничто отсылает к бытию, нигилизм, определяемый историческим совершением бытия, мог бы по меньшей мере указать нам ту область, в пределах которой возможно постигнуть сущность нигилизма – где он становится мыслимым и так затрагивает наше мышление и нашу памятливость. Мы привыкли расслышать в слове «нигилизм» прежде всего некий диссонанс. Но если начать обдумывать сущность нигилизма, сущность в совершении самого бытия, то тогда в это слышание одного лишь диссонанса вкрадывается нечто неладное. Слово «нигилизм» говорит о том, что в том, что именует оно, существенно nihil, Ничто. Нигилизм означает: Ничто же несть со всем во всех аспектах. А «все» – это сущее в целом. Но в каждом из своих аспектов сущее стоит, если постигается как сущее. Тогда нигилизм означает, что ничто же несть с сущим как с целым. Однако сущее в том, что́ оно и как оно, – из бытия. Если положить, что всякое «есть» – из бытия, тогда сущность нигилизма состоит в том, что ничто же несть с самим бытием. Само бытие есть бытие в его истине, истина же принадлежит бытию.
* * *
Если расслышать в «нигилизме» иной тон, в котором доносилась бы сущность названного нами, можно по-новому вслушаться в язык того метафизического мышления, которое постигло что-то в нигилизме, не умея, однако, мыслить его сущность. Слыша в ушах своих этот иной тон, мы в один прекрасный день, возможно, совсем иначе, чем прежде, осмыслим эпоху начинающегося завершения нигилизма. Быть может, мы поймем тогда, что недостаточно ни политических, ни экономических, ни социологических, ни технических и научных перспектив, недостаточно даже и метафизических и религиозных перспектив, чтобы мыслить то, что совершается в эту мировую эпоху. То же, что задает эта эпоха мысли, что задает она ей мыслить, – это не какая-то глубоко скрытая задняя мысль, а нечто расположенное совсем близко к нам – нечто расположенное ближе всего к нам, мимо чего мы постоянно проходили лишь потому, что оно именно таково. А проходя, и проходя мимо, мы постоянно и совершаем, сами того не замечая, то самое убиение бытия сущего, о каком мы столько говорили.
А чтобы замечать, чтобы научиться замечать, нам достаточно будет задуматься хотя бы над тем, что́ говорит о смерти Бога безумец, над тем, как он это говорит. Быть может, теперь мы уже не пропустим столь поспешно мимо ушей сказанное в самом начале пьесы, которую мы разъяснили; безумный человек «без передышки кричал: «Ищу Бога! Ищу Бога!»»
* * *
Так этот человек безумен? Насколько? Он тронулся. Ибо сдвинулся с плоскости прежнего человека, на которой утратившие действительность идеалы – сверхчувственный мир – выдаются за действительное, между тем как обретает действительность противоположное им. И все же он вследствие этого лишь полностью вдвинулся и вошел в заведомо определенную сущность прежнего человека, в заведомо определенное такому человеку бытие – ему определено было быть animal rationale (мыслящее животное). Этот таким путем сдвинувшийся и стронувшийся с места человек именно поэтому не имеет уже ничего общего с повадками торчащих на площади праздных зевак, «не верующих» в Бога. Ибо эти люди не потому не веруют в Бога, что Бог как таковой утратил для них достоверность, а потому, что они сами отказались от возможности веровать и уже не могут искать Бога. Они больше не могут искать, потому что перестали думать. Торчащие на площади бездельники упразднили мышление, заменив его пересудами, – болтовня чует нигилизм всюду, где предчувствует опасность для своих мнений. Подобная самоослепленность, сверх всякой меры ширящаяся перед лицом настоящего нигилизма, пытается заглушить в себе страх перед мышлением. Однако страх этот – страх перед страхом.
Напротив того, безумный человек, – и это однозначно так после первых же произнесенных им слов, и это еще куда однозначнее так для того, кто хочет слышать, после последних произнесенных им слов, – это тот человек, что ищет Бога: крича, взывает к Богу. Быть может, тут на деле некто мыслящий вопиет de profundis (из глубины)?
А что уши наших мыслей – неужели все еще не расслышат они его вопль? Уши до той поры не услышат, пока не начнут мыслить. Мышление же начнется лишь тогда, когда мы постигнем уже, что возвеличивавшийся веками разум – это наиупрямейший супостат мышления.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.