Текст книги "Синева"
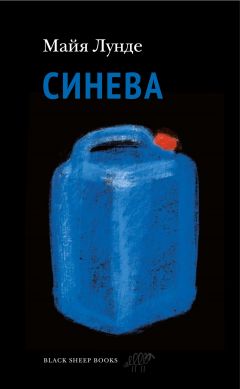
Автор книги: Майя Лунде
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Давид
Когда мы шли из Красного Креста в ангар номер четыре, Лу крепко вцепилась в мою руку и не выпускала ее. Вообще ощущение было такое, словно она всю дорогу от самого дома меня за руку держала. Ни разу не возразила, делала все, что я скажу, и не отцеплялась от меня. Когда остаешься наедине с ребенком, ты будто полтора человека. Совсем не то что остаться наедине с женой или любимой девушкой. Жена такая же большая, как и ты сам. Ну, или почти. С голодом она умеет справляться сама. И питье себе сама добудет. И нижнее белье сменит. Она способна выручать тебя, удерживая на плаву. Она понесет половину ноши. А когда с тобой ребенок, то, кроме тебя, выручальщиков нету.
Ангар номер четыре располагался за помывочными. Огромный ветхий фабричный цех, разделенный на длинные коридоры и небольшие отсеки. Перегородками тут служила старая ткань для занавесок – ткань эта, веселеньких расцветок, полосатая, желтая, синяя, красная, была закреплена на потолке. Во всех отсеках стояли кровати, большинство из которых пустовало. Пол был чистым, двери стояли открытыми, отчего по помещению полз прохладный сквозняк.
– Смотри, – сказал я, – номер тридцать два. Это наш.
Наш собственный закуток с двумя защитного цвета койками, металлическим шкафчиком и пластиковым сейфом. На койках лежали простыни и два флакона антисептика. Похоже, воды для мытья рук здесь не хватало.
– Тут стены из ткани. – Лу пощупала полосатую ткань.
– Отлично же? Как в театре, – сказал я.
– Нет, не в театре. Как будто мы пошли в поход и живем в палатке.
Она наконец выпустила мою руку.
– А это будет наш походный столик. – Лу выдвинула сейф и поставила его между кроватями. – А это – скатерть. – Она вытащила из кармана грязный носовой платок и накрыла им сейф.
Я забросил сумку в шкаф, но она заняла лишь половину свободного места. Все наше имущество уместилось в полшкафа. Прежде у меня была квартира, телевизор с плоским экраном, мобильник, штук пятнадцать футболок, не меньше семи пар брюк, восемь пар обуви, куча носков, к которым замучаешься пару подбирать, стол, четыре стула, диван, шторы, столовые приборы, два хороших ножа, разделочная доска, одна кровать, две детские кроватки, целый стеллаж книг, бумажник телячьей кожи, два комнатных растения, за которыми ухаживала Анна, три цветочные вазы, постельное белье на четверых, внушительная стопка полотенец, правда, в большинстве полинявших от стирки, две теплые куртки, три шарфа, четыре шапки, пять бейсболок, два наполовину использованных тюбика солнцезащитного крема, шампунь, средство для мытья пола, веник, держатель для туалетной бумаги, ведро, швабра, семь тряпочек, пеленальный столик, подгузники, влажные салфетки, два коврика, плакат с видом Манхэттена, каким тот был до последних наводнений, жена, двое детей…
Я захлопнул шкафчик.
В отсеке напротив я разглядел пожилого мужчину, которого уже видел в очереди. Повернувшись лицом к стене, он лежал на кровати.
Я принялся застилать кровати. Тонкие матрасы, обтянутые липкой клеенкой и пахнущие дезинфицирующим раствором. Одна простыня снизу, другая сверху. Никаких подушек. Лу по-прежнему сможет подкладывать под голову свитер. Все эти дни, пока мы сюда добирались, она так и делала. Ей нравится, когда под головой что-нибудь лежит.
В этот момент старик напротив застонал. Я услышал, как он завозился, а койка издала металлический скрип. Старик жалобно запричитал. Тихо, охая, как плачут от боли.
Я вышел в коридор между отсеками. Старик меня не заметил. Он снова завозился. Сдвинул забинтованную руку.
Я с опаской подошел к нему. Когда я приблизился, он не обратил на меня внимания. Повязка у него на руке потемнела от грязи, с одной стороны на ней проступили желтые пятна. Так просачивалась наружу его боль.
От старика пахло. Терпко, чуть гнилостно. От всего тела, а может, только от руки.
Он снова застонал и, открыв глаза, посмотрел на меня.
– Простите, – сказал я, – не хотел вас тревожить.
Старик сел. Двигался он как-то скованно, а на глаза от боли навернулись слезы.
– У вас не найдется… – проговорил он по-французски, чуть приподняв руку, – да хоть что-нибудь? Чтобы уснуть?
Я покачал головой и показал на повязку:
– Вы ее в последний раз когда меняли?
Ответил он не сразу, сперва посмотрел на заляпанный бинт.
– Это мне дочка перевязала.
– И?
– Она медсестра.
– Но ведь это давно было?
– Не помню.
– Вам надо поменять повязку.
К счастью, старик не стал возражать и послушно поднялся. Взяв за руку Лу, другой рукой я подхватил под локоть старика и осторожно повел рядом.
Я спросил, откуда он. И как его зовут.
– Франсис, – пробормотал он. А приехал он сюда из Перпиньяна. Услышав это, я почти обрадовался.
– Мы, можно сказать, соседи, – сказал я, – мы с дочкой из Аржелеса.
Он не ответил – наверное, решил, что для соседства это далековато, и, собственно говоря, был прав.
Мы подошли к санитарному пункту.
Очереди тут не было, мы вошли, и нас сразу же приняла медсестра в белоснежной униформе. От медсестры пахло мылом.
Здесь царила прохлада. И воздух был сухой. На стене тихо гудел кондиционер.
Франсис опустился на пододвинутый медсестрой стул, положил руку на колени. Мы остановились у него за спиной.
Медсестра бережно размотала бинт, и старик всхлипнул. По щекам потекли слезы, лицо сморщилось от боли.
По мере того как медсестра разматывала бинт, запах усиливался. Нет, не запах – зловоние.
– Сядь вон туда, – велел я Лу.
Сам я не мог отвести глаз от его руки.
Рана была большая и воспаленная. Скорее не красная, а желтая. Длинный порез. Плоть вокруг приобрела нездоровый сероватый оттенок.
– Подождите минутку, – попросила медсестра и вышла.
Шло время. Я старался занимать Франсиса разговорами – рассказывал про нас с Лу и про то, что мы должны встретиться здесь с моей женой.
Он кивал, но о себе не говорил. Наконец медсестра вернулась, да не одна, а с врачом. Похоже, они уже всё обсудили, потому что врач тотчас же присела рядом с Франсисом и внимательно осмотрела рану.
– Как вы поранились? – тихо спросила она.
Старик отвел глаза.
– Я… пилой руку задел.
– Пилой?
– Дрова пилил. А топора не было.
– Таких ран от пилы не бывает, – сказала врач, – мне будет проще вам помочь, если вы расскажете правду.
Старик поднял голову и упрямо посмотрел на врача, но почти сразу пошел на попятную.
– Это ножом. Три недели назад, – громко сказал он, – три недели и один день.
– Вам повезло, – кивнула врач, – еще несколько сантиметров – и артерию перебило бы.
– Повезло? – переспросил Франсис. Я услышал, как он сглотнул. – Даже не знаю.
– Я дам вам антибиотики, – решила врач, немного помолчав, – а потом вам надо будет приходить через день промывать рану.
– Какой смысл?
– Антибиотики уничтожат инфекцию.
– А зачем?
– Что – зачем?
– Зачем уничтожать инфекцию?
– Вы хотите руку потерять?
Он промолчал.
Врач уступила место медсестре, и та, умело промыв рану, смазала ее мазью.
Франсис больше не старался скрыть боль и смачно выругался.
– Тс-с! Тут ребенок! – одернул его я.
– Простите, – опомнился он.
– Ничего страшного, – подала из угла голос Лу, – папа тоже такое говорит.
Франсис рассмеялся.
Но потом медсестра принесла новые бинты и принялась накладывать повязку.
– Очень туго, – пожаловался Франсис.
– А вот так? – спросила медсестра.
– Все равно туго.
– Я уже ослабила.
– Вы так перетянули, что теперь и кровь в руку поступать не будет. Гангрена начнется.
– Но иначе повязка съедет.
– И мазь проклятущая – жжется, зараза.
– Когда промывают рану, она всегда болит, – успокоила его Лу.
Старик поднял голову, и в его облике мелькнуло вдруг что-то мальчишеское.
– Ты права, – согласился он, – а я и забыл.
Он уставился на руку. По сравнению с его покрытой темными пятнами кожей бинт казался особенно белым.
– Сейчас вам как? – спросила медсестра.
– Хорошо, – ответил он, – хорошо.
И тут он заметил старый бинт. Тот валялся в металлическом контейнере на столе рядом с медсестрой.
– Куда вы его денете?
Медсестра недоуменно посмотрела на него.
– Бинт.
– Вы про ваши старые бинты?
– Вы их выбросите?
– Ну да, разумеется.
Франсис промолчал.
– Вот, держите. – Врач протянула ему прозрачный пакет, в котором лежало что-то синее. – Когда будете мыться, накрывайте повязку вот этим.
Франсис не шелохнулся, поэтому я протянул руку и взял пакет.
– Вы родственники? – спросила врач.
– Нет, нас просто разместили рядом.
– Родственники у него есть, не знаете?
Я покачал головой.
– Присмотрите за ним, если не трудно.
Выходил Франсис неохотно, еле переставляя ноги, потом вообще остановился.
– Мне надо… – Он развернулся и быстро направился обратно в медпункт.
– Куда это он? – удивилась Лу.
– Подожди тут, – сказал я.
Она выпустила мою руку и встала возле здания.
Я подошел к двери, приоткрыл ее.
Сперва до меня донеслось какое-то шуршание. В медпункте никого не было, медсестра ушла, а Франсис стоял в самом углу – склонившись над мусорным ведром, копался в мусоре. Меня он не замечал. Наконец он нашел то, что искал. Старые бинты. Воровато оглянувшись, торопливо спрятал их в карман. Я отскочил от двери и поспешил к Лу.
– Что он там делает? – шепнула она.
Из медпункта вышел Франсис. Теперь он шагал бодрее.
– Мне уже лучше, – заявил он.
Старик повернулся к Лу и внезапно улыбнулся.
– Славная она у вас, – сказал он мне.
Я обнял Лу и кивнул.
– Да, она славная.
За двадцать четыре дня это была первая ночь в постели. Закрыв глаза, я на миг увидел лица Анны и Огюста, но тут же заснул, не успев ни о чем подумать.
А потом навалились сны. Хуже, чем прежде, – наверное, потому что спал я крепко.
Я падал – нет, опускался в воду, уходил на дно, безвольно, не сопротивляясь.
Воздух стремительно покидал легкие, грудь сдавило, но я ничего не делал, чтобы выплыть.
Вдохнуть я не мог. Главное – не вдыхать, не заполнить легкие водой, не утонуть.
Там, наверху, синело небо, а за мной тянулся след из пузырьков.
Мне надо туда. Надо выбираться.
Но получалось лишь тонуть.
Я вздрогнул и проснулся.
Вздохнул. Легкие наполнились воздухом.
Вокруг было светло. Наступило утро.
Я повернулся. Лежал и, постепенно успокаиваясь, смотрел на Лу.
Она спала на спине, раскинув руки и ноги, прямо как морская звездочка. Лу все время двигалась. Требовала пространства. Отвоевывала его. И во сне Лу забывала, что она маленькая.
Когда она родилась, мы были совсем молоды, мы вообще зря завели ребенка так рано. Мне было всего девятнадцать, а Анне едва исполнилось двадцать. Мы во всем винили водный коллапс и дефицит товаров. Потому что всего не хватало. И презервативов тоже. Анна валила на кризис, а я и рад был, что не на меня, – вообще-то это я вовремя не остановился.
Анна спросила, не избавиться ли нам от ребенка. И точно ли я все решил. Она думала, что вполне на такое способна, если я этого ребенка не хочу.
А я его не хотел. Но и избавляться от него тоже не хотел. Избавиться – надо же, словно он вещь какая. Услышав от нее это словечко, я разозлился. Мы ссорились. А живот у нее тем временем рос. Мы снова ссорились. А потом стало уже поздно.
И вот появилась она, кроха, сморщенная, как изюминка, и розовая, и моя предыдущая жизнь выглядела теперь чужой.
Помещение наполнилось утренними звуками. Тихими голосами, шарканьем, гулом бойлера, скрипом коек.
Лу я решил не будить: она слишком поздно легла.
А ведь прежде у нас все было по расписанию – тогда, когда требовалось, чтобы мы приходили вовремя на работу и в школу.
Но школу закрыли, и Лу стала ложиться позже. И запрещать ей я не видел смысла.
Ничего, я с этим разберусь. К возвращению Анны налажу распорядок дня. Прием пищи и отбой будут строго по расписанию. Возможно, мы с Лу и читать опять будем. Может, тут и книги где-нибудь есть. А то Лу уже много месяцев не занимается.
Лу завозилась и перевернулась на спину. Даже ее крошечное личико казалось беспокойным. Рот открылся, дышала она быстро и испуганно, глазные яблоки под веками двигались. Какие сны видят маленькие девочки, не знающие, куда повернет жизнь?
Лу громко всхлипнула:
– Нет…
Она опять завозилась и заплакала громче. Сколько же боли было в ее плаче, сколько страданий. Из-под сомкнутых век потекли слезы.
– Нет… Не надо…
Я наклонился над ней и погладил ее по голове.
– Лу? Лу!
Она отвернулась, но так и не проснулась.
– Лу, просыпайся.
Подхватив теплое от сна детское тельце, я взял Лу на руки. Она попыталась высвободиться, словно не желая покидать сон.
– Лу, ну пожалуйста.
Я погладил ее по голове и утер слезы. Наконец она заморгала. Посмотрела на меня. Еще секунду она находилась где-то далеко, а потом выпрямилась, готовая броситься прочь.
– Папа, пожар, все горит, папа!
– Лу, нет, – я обнял ее, – нет, доченька, тебе приснилось.
– Но пахнет дымом. Я чувствую. Бежим отсюда!
Она потянулась за одеждой, схватила шорты и принялась их натягивать.
Я встал, повернулся и сел на корточки, чтобы смотреть ей в лицо. И осторожно взял ее за плечи.
– Солнышко, это не дым. Не пожар.
– Но я же чувствую!
Я опять сел на койку, а Лу усадил к себе на колени. Мышцы ее были напряжены до предела.
Я прижал ее к себе и тихо заговорил:
– Принюхайся. Чем пахнет?
Она быстро втянула носом воздух.
– Дымом.
– Попробуй-ка еще раз.
Замерев, она снова шмыгнула носом.
– Дымом.
– А еще?
Она перестала шмыгать и теперь дышала спокойнее.
– Ничем, – сказала она наконец.
– Ничем, – повторил я.
Тело ее обмякло.
Я уткнулся ей в волосы. И потянул носом.
Да, и правда дымом пахнет. Но только от ее волос и одежды. От меня самого смердит совершенно так же.
– Ты знаешь, что сегодня разрешается сделать? – спросил я.
– Нет. Что?
– Сегодня разрешается принять душ!
– Принять душ?
– Да. Нам разрешено мыться каждый вторник.
– А сегодня что, вторник?
– Да. Поэтому сегодня – душ.
– Ой, давно пора.
– Да, давно пора.
Лу обеими руками взяла выданное ей полотенце и торжественно, словно подарок, развернула его. Жесткие линии сгиба не расправились.
Лу поднесла полотенце к лицу.
– Мылом пахнет.
Я пощупал мое собственное полотенце. Жесткое, плотное. Пахнущее чистотой.
– Тебе туда. – Я показал на табличку на двери женского душа.
– А тебе?
– А я в мужской душ пойду.
Лу кивнула. Я видел, что ей не хочется оставаться одной, но упрямиться она не стала.
– Не забудь голову помыть, – напомнил я, – первый раз откроешь душ и быстро намочишь, потом потри, чтобы побольше пены появилось. Три обеими руками.
Я показал на собственных волосах.
– Остальные два раза душ включишь, чтобы смыть пену. Да смотри, чтобы пены не осталось.
– Ладно.
– Не забывай – душ можно пускать три раза. Сначала один. Потом еще два.
– И чтобы не осталось пены.
Терморегулятора на душе не было, но, когда я пустил воду в первый раз, она все равно пошла тепловатая. В такую жару вода до конца не охлаждалась.
Струи ударили меня по затылку, застучали по голове. Я старался прочувствовать каждую каплю, попадающую мне на кожу. Наслаждался каждой из них.
Потом вода резко закончилась. Я запрокинул голову и посмотрел на душ. Капнуло еще несколько капель, а потом и их не стало.
Последняя ленивая капля оторвалась от блестящей головки душа и упала на пол. И все.
На стене висел тюбик с жидким мылом. Такая забота меня почти растрогала – надо же, кто-то вспомнил, что нам и мыло нужно.
Я надавил на него. На ладонь вытекло немного мыла. Взбивая пену, я потер ладони друг о дружку.
Потом я долго и тщательно намыливал себя. Голову, шею, руки, ступни, внутреннюю поверхность бедер, ягодицы.
Скользкая пена легко расщепляла жир. Удаляла пепел. Таким грязным я еще не бывал. Еще никогда от меня так не воняло потом. И дымом.
Несколько секунд я ни о чем больше не думал, ни об Анне, ни об Огюсте, лишь о мыле, и о воде, и о том, каково это – вновь обрести собственное тело и лишиться целого слоя кожи.
Я и сам сделал так, как велел Лу, – две последние порции воды потратил на то, чтобы ополоснуться, и теперь пена мягкими холмиками лежала у моих ног.
Я быстро вытерся. Полотенце жестко терло кожу, ощущение было приятное, а когда я потер руки, избавляясь от омертвевших клеток, ткань потемнела.
Потом я вытащил из сумки одежду. По-прежнему грязную и зловонную. Надо будет узнать, можно ли где-то здесь ее постирать.
Под одеждой лежали паспорта Анны и Огюста. Я взял паспорт Анны и, как много раз за последние недели, провел пальцами по гладкой обложке. Открыл паспорт.
На фотографии Анна не улыбалась, да и сам снимок был черно-белым, так что Анна была на себя не похожа. Там было не видно, что волосы у нее золотистые. И что в глазах – зеленые прожилки. И что походка у нее быстрая, словно Анна вечно куда-то радостно спешит, даже когда на самом деле все наоборот.
Но других ее фотографий у меня не осталось.
Я поднес паспорт к носу и принюхался. От него все еще пало гарью.
Зато сам я сейчас чистый. Пожар я с себя смыл.
А смыв с себя запах дыма, я стер и воспоминания о ней.
Я вцепился в футболку. От нее по-прежнему пахло дымом. Анна все еще была здесь. Она и Огюст. Они здесь.
Сигне
Душ я приняла в закутке между салоном и форпиком, прислушиваясь, как работает насос, и стараясь не слишком брызгать на стены, чтобы вода попадала в емкость подо мной, потому что стока в закутке нет. Я намыливала тело, и оно наливалось силой и упругостью, словно мне снова было двадцать. Потом я налила полный бак воды из крана на причале: воды надо много, мне придется держаться подальше от берега, пока они не бросят поиски. На всякий случай я наполнила еще две двадцатилитровые канистры и втиснула их в ахтерпик. Этого достаточно, чтобы пробыть в море много недель, пока они будут искать, если, конечно, вообще затеют поиски, если поймут, что это моих рук дело, а они, возможно, поймут: деревенские меня видели, они узнали «Синеву» и знают мою историю, уж два и два сложить у них мозгов хватит.
Последний час, дожидаясь, когда солнце сядет и причал опустеет, я просто ждала. Села с чашкой кофе на палубе, заставила себя спокойно поесть – сжевала пару бутербродов со скумбрией. Давно еда не казалась мне такой вкусной. Медленно пережевывая, я смотрела на старый папин дом. Когда-то папа жил тут, возле порта, но теперь дом опустел. После папиной смерти я по дешевке продала его кому-то под дачу. Они, похоже, нечасто сюда наведываются: окна смотрели на меня черными пустыми квадратами.
Дом такой же безмолвный, как и сам порт, потому что все разошлись и я осталась одна.
Я спрыгнула на причал и направилась к грузовому судну, тяжелому железному лесовозу с потеками ржавчины вдоль сварных швов. На палубу я перепрыгнула легко, а приземлилась почти бесшумно.
Рубка была заперта, но остальные двери открыты, никому и в голову не пришло запереть их, видно, не предполагали, что нечто подобное может произойти тут, в рукаве фьорда, в кишечнике фьорда, в его темном нутре, где всем плевать, где все, что когда-то имело для нас значение, медленно застраивалось, истощалось, где исчезли река, водопады, пастбища, и всем плевать, даже если ледник Блофонна уничтожат, никто не услышит и не увидит, они – как он, все они, все его поколение, мое поколение, им надо вино подороже, дачу попросторнее и интернет побыстрее.
Я спустилась в трюм. Здесь холодно, холодильная установка тихо гудела. Я отыскала выключатель и заморгала, глядя на яркую лампочку, на вырывающийся у меня изо рта пар, на контейнеры со льдом, пока еще стоящие на слани. Я подошла к ближайшему и погладила твердый пластик. Дорогостоящая упаковка – темно-синий пластик, блестящий, бесшовный. Такой и за четыреста пятьдесят лет не разложится, и за пятьсот тоже. Может, и дольше продержится, дольше, чем пластиковая бутылка, дольше, чем одноразовый подгузник, солнечные очки, кукла Барби, флисовая толстовка. Намного дольше, чем человек.
Я открыла верхний пакет, за клапан пришлось тянуть, он уже успел примерзнуть. И увидела лед, в дополнительной вакуумной упаковке, тоже из пластика, защищенный толстым слоем белого изоляционного материала. Я на миг положила руку на лед, ощутила под пальцами его холод и закрыла клапан.
Первая партия далась мне на удивление легко: я отнесла контейнер наверх и швырнула на железную палубу, откликнувшуюся дрожью в ногах. Впрочем, шуметь я не боялась. Откинув клапан, я вытащила из пластика куски льда. Пальцы тотчас заледенели, я надела перчатки, которые не забыла захватить, и выбросила лед за борт, во фьорд.
Со вторым контейнером я тоже легко справилась, и с третьим, и с четвертым, но потом сделалось тяжело, сил не хватало, льда чересчур много.
Я осмотрела подъемный кран на причале, надеясь, что смогу им воспользоваться, но ключа не нашла и, вернувшись в трюм, встала возле ящиков и уставилась на них. Нет, все мне не вытащить. Я подошла еще ближе и тут заметила по левому борту какую-то дверцу, люк. Еще чуть дальше я разглядела кнопку. Когда я нажала на нее, люк тотчас же с громким скрежетом отъехал вверх.
Теперь можно выбрасывать лед напрямую в море. Пятый, шестой, седьмой ящики. Вскоре я сбилась со счета. Сами контейнеры я бросала на слань – их я кидать в воду не стану, хотя, возможно, когда-нибудь они все равно окажутся в воде, присоединятся к мусорным островам и архипелагам в океане и медленно разрушатся, превратятся в микропластик, исчезнут в пищеварительной системе какой-нибудь рыбы, попадут на тарелку, а оттуда – в желудок человека, питающегося собственным мусором, как и все мы, ведь каждый день мы едим свои же отходы.
Пластик жесткий и плотный, я открываю очередной клапан, поднимаю контейнер, тащу его к люку, переворачиваю и высыпаю большие белые куски вниз, где они с тихим плеском плюхаются в воду. Куски льда подрагивают на поверхности воды, белые, гладкие льдины на угольно-черной воде, на которой свет от фонарей вырисовывает желтые, размытые отражения. По спине у меня течет пот, но руки в перчатках заледенели, да так, что я утратила осязание. Это больно, но приятно. Кубы льда маленькими айсбергами лежат на воде, видно лишь самый верх, с айсбергами всегда так, под водой больше, чем над ней, но эти айсберги неопасны, они никому не навредят и ничего не испортят – наоборот, это я их испорчу, потому что вода теплая и лед в ней скоро растает. Когда спустя несколько часов капитан придет и запустит двигатель, куски уже существенно уменьшатся, к тому же в них проникнет соленая вода. Они не осядут ледяной крошкой на столе у шейхов, в хрустальных бокалах с выпивкой, в Саудовской Аравии или Катаре.
Лед тает, лед тает в соленой воде, и я приложила к этому руку, приложила руку к тому, что происходит все время, я тоже стала причиной изменений. Я смеюсь, вздрагивая от звуков собственного смеха, от этого незнакомого кваканья, лягушачьего, инстинктивного, я лягушка, амфибия. Они умирают, лягушки, вымирают тихо, никому в мире нет до них никакого дела, треть биологических видов находится под угрозой, а о ней, о лягушке, никто не думает, и она бежит по болотам всего мира, вечно в связке с водой, скользкая, пугливая, недостаточно мерзкая, чтобы считаться безобразной, недостаточно странная, чтобы выглядеть забавной, – просто занятная в своей попытке, квакая, убежать от людей.
Наконец я осилила большую часть, спину ломило, двадцать килограммов в каждом контейнере, тяжело, слишком тяжело. Я быстро пересчитала – осталось всего двенадцать, всего двести сорок килограммов – и потянулась было к следующему контейнеру, руки дрожали, пальцы не слушались. И тут я остановилась. Я устала, как же я устала, чересчур старая для такой тяжести, мышцы и кости молили о пощаде, я слишком стара.
Я села на контейнеры. Ох, Магнус, на последние упаковки сил у меня не хватит, а ведь, пока ты не явился, наш лед никто не трогал. Но это не значит, что лед преспокойно и молча лежал там, лед никогда не молчит, у него есть собственные звуки, он потрескивает. Потрескивание льда – один из древнейших в мире звуков, и он пугает меня, всегда пугал, это звук разрушения. А стук падающего на лед камня, камня, который бросают на скованную льдом воду, – этот звук не похож ни на какой больше, стук камня, который не в силах пробиться сквозь лед, зато заставляет воду подо льдом откликнуться коротким всхлипом, напомнить о своем пленении там, внизу, откуда не выбраться.
Вот только я давно уже не кидала камней на заледеневшую воду. Лед больше не ложится на озера, не намерзает зимой на дорогах, а пыльца появляется на деревьях уже в январе. Лед исчезает, мир покрывается водой. I wish I had a river so long[2]2
Хотела бы я, чтобы у меня была река (англ.) – строчка из песни Джони Митчелл «River».
[Закрыть], а ведь я помню, как каталась на коньках по фьорду, я была быстрее всех, а Магнус стоял на берегу и смотрел на меня, нам было десять или одиннадцать, мы по-прежнему друг дружку не знали, но, помню, мне нравилось, что он на меня смотрит и видит, как я всех обгоняю. У меня были раздвижные коньки с острым лезвием, таких больше не делают, сейчас каждую осень покупают новые коньки, каждый год ребенку покупают новые коньки, черные для хоккея или белые для фигурного катания, считается, что без коньков не обойтись, но на самом деле их никто не надевает, потому что вода больше не замерзает, I wish I had a river I could skate away on[3]3
Хотела бы я, чтобы у меня была река, по которой я могла бы умчаться на коньках (англ.).
[Закрыть], и что бы я ни делала – ничто не помогает, хотя я и впрямь пыталась, всю жизнь боролась, но я почти одна, нас было слишком мало, нас слишком мало, поэтому и толку от нас нет, все, о чем мы предупреждали, случилось, пришла жара, а нас никто не слушал.
Твои внуки, Магнус, не будут кататься на коньках по льду, и тем не менее все это делается с твоего разрешения. Наш ледник, наш лед, ты так далеко отстранился от всего, что когда-то принадлежало нам, а может, ты всегда был таким, просто допустил это, только и всего. Я слышу тебя, слышу твои мысли, слышу мысли тебе подобных: «Мы лишь следуем за общей тенденцией, я не препятствую тому, что уже происходит повсюду». Вот она, банальность зла, ты уподобился Эйхману. Но я сделаю так, что ты предстанешь перед судом. Иерусалим никогда не будет твоим.
У меня осталось двенадцать контейнеров, двенадцать контейнеров с тысячелетним льдом, и выбрасывать их я не стану – я хочу, чтобы ты, Магнус, их увидел. Нельзя, чтобы ты сидел там у себя и попустительствовал всему этому, нет, ты увидишь этот лед, притронешься к нему, ты сам будешь стоять рядом и смотреть, как он тает, ты будешь ходить по нему, наступать на него, и он начнет таять у тебя под ногами, как когда-то таял под нашими с тобой ногами.
Я встала и снова принялась таскать контейнеры, один за другим я перетащила двенадцать упаковок с лесовоза на мою яхту, на «Синеву».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































