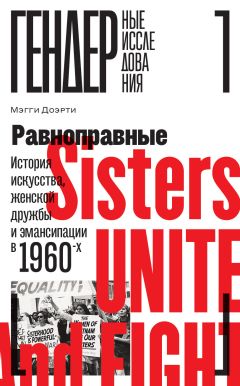
Автор книги: Мэгги Доэрти
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Чернокожие представительницы среднего класса и их белые соратницы столкнулись со множеством сходных трудностей и ожиданий, но их проблемы проявлялись по-разному и требовали непохожих решений. В общем, для многих чернокожих женщин, которые и так всю жизнь стремились улучшить свое экономическое положение, призывы распрощаться с инертностью и проявить инициативу прозвучали бы странно и неубедительно.
Ориентированные на нужды белого населения американские СМИ приветствовали основание Института. Событие получило широкое освещение от Торонто до Галсы. «Рэдклифф планирует вывести умных женщин из кухни», гласил заголовок Newsday из Гарден-Сити (штат Нью-Йорк). The World-Herald в Омахе опубликовал репортаж «Создано пространство для одаренных женщин». Бантинг свободно владела риторикой холодной войны. Она написала объемную статью для The New York Times Magazine об «утечке высококвалифицированной, образованной женской рабочей силы», связав свой эксперимент с американскими внешнеполитическими целями. В статье «Грандиозная утечка: образованные женщины» Мэри утверждала, что «образовательные учреждения должны поощрять способных студенток вечерних отделений – замужних женщин, – оказывая им материальную поддержку и предоставляя более гибкий учебный график». Бантинг заверила читателей, что «учеба в надлежащем количестве прекрасно сочетается с домашним хозяйством», и признала, что между мужчинами и женщинами могут быть «врожденные различия», но достоверно установить это невозможно без стандартизации условий их роста (Бантинг всегда оставалась ученым).
Затем Мэри описала Институт как решение поставленной проблемы. В нем будет «место для работы без необходимости отвлекаться на внезапно возникающие бытовые вопросы, без вынужденного погружения в рутину за счет отложенной в долгий ящик идеи или мечты, без чувства вины перед детьми и вопросов, оставшихся без ответа». Бантинг заканчивала статью обращенным к женщинам призывом вносить вклад в жизнь общества. Мэри взывала к типично женскому альтруизму: «Это нужно не столько для женщин, – писала она, – сколько для нашего наследия, наших устремлений: Америка должна вновь, вдумчиво и осмысленно, определить их место в нашем обществе». Поступайте в институт не для себя, – как бы говорила она, – но сделайте это для своей страны. По счастливой случайности личные интересы и патриотический долг вели к одной цели.
После объявления об открытии Рэдклифф наводнили письма со всей страны: из Статен-Айленда, из Сан-Франциско, с Пьерпонт-стрит в Бруклине и с фермы «Серый гусь» в Джаффри (штат Нью-Гэмпшир). Корреспонденция приходила и с соседних улиц Кембриджа, и из-за границы. Авторами большинства писем были замужние женщины – те, что подписывали письма и документы именем и фамилией мужа. В некоторые конверты были вложены чеки – на 5, 10 и даже 300 долларов (почти 2,5 тысячи долларов по текущему курсу). Джейн М. Чемберлен (миссис Дэвид Б.), выпускница Рэдклиффа 1950 года, прислала чек на 5 долларов и короткую записку, на которой чернилами ярко-красного цвета было написано: «Дорогой Рэдклифф, я люблю тебя!»[185]185
Чемберлен Д. М. Письмо М. Бантинг от 21 января 1961 года. Рабочие документы Бантинг. Архив Рэдклиффского института.
[Закрыть]
Остальные письма были гораздо длиннее. В офис президента Рэдклиффа писали женщины разного возраста, но практически у всех уже были дети. В своих письмах они рассказывали о типичных бытовых трудностях («дети болеют, техника ломается»[186]186
Хэйнер Л. Письмо М. Бантинг от 22 ноября 1960 года. Архив Рэдклиффского института.
[Закрыть]), в том же абзаце делясь планами прошлых и будущих исследований. Должно быть, эти письма пробудили воспоминания Бантинг: читая истории о насыщенной семейными делами и событиями жизни в домах, где под ногами все время сновали дети, она, наверное, думала о своем доме в Бетани. Там, под теплым солнцем, Мэри занималась садом, пока дети играли во дворе. На самом деле, в те годы она была по-настоящему счастлива; ее вторая жизнь – жизнь вдовы и ректора университета, – так никогда и не затмила радостей первой. Однако сельский Коннектикут был единственной частью той жизни Бантинг; ведь у нее всегда была лаборатория, и был Хенри – вдумчивый собеседник и друг. Годы в Бетани запомнились Бантинг именно потому, что пролетели так быстро. Но для женщин, которые писали Мэри, семейная жизнь была не потерянным раем, а бесконечным кошмаром. А институт, как думали они, мог оказаться выходом из этого болота.
Бантинг полагала, что ее маленькое научное общество станет ступенькой на пути к реформированию системы женского высшего образования. Какое бы влияние Институт ни оказал на стипендиаток, оно, несомненно, будет временным. Но Секстон, которая узнала об этом проекте, сидя за обеденным столом в Ньютоне, смогла разглядеть то, что Бантинг не увидела из президентского дома на Браттл-стрит. В своей заявке – письме, которое она так и не отправила, – Энн проявила удивительную проницательность. Секстон предположила, что влияние Института будет долгосрочным: он изменит некоторые вещи – некоторых людей – на всю жизнь. Взволнованная и вдохновленная, Секстон сделала то же, что и всегда: взяла трубку и позвонила своей лучшей подруге.
Глава 5
Я прошла!
1960 год подходил к концу, а Конни Смит и ассистентка Бантинг Рене Брайант, которые разбирали растущую гору корреспонденции – все эти бумажные конверты и разноцветные бланки, – нашли достойных претенденток на стипендию. Прошел всего месяц после объявления об открытии Института, а 120 женщин уже отобрали как «возможных кандидаток». Эти женщины обладали необходимой квалификацией для подачи заявки; как только подготовят документы, они их получат. Некоторых Бантинг пригласила лично; она написала выдающимся ученым-женщинам письмо с призывом подавать заявки. По словам Брайант, «квалификация соискательниц была ошеломительно высокой». В списке потенциальных сотрудниц 41 женщина имела степень доктора философии, 3 – степень доктора наук и 19 – степень магистра в той или иной сфере (в те годы женщины получали 33 % всех магистерских степеней и только 10,4 % докторских)[187]187
Eisenmann L. Op. cit. P. 44.
[Закрыть]. Самой молодой из потенциальных претенденток было двадцать восемь, а самой старшей – пятьдесят шесть; среднестатистический возраст кандидатки составил тридцать с небольшим лет, как и ожидала Бантинг, указавшая эту информацию в пресс-релизе. Чуть более половины женщин были замужем и имели от одного до пяти детей (9 кандидаток были вдовами или разведены; 16 никогда не были замужем). Именно таким амбициозным женщинам с высшим образованием, матерям, готовым обрести вторую жизнь, и хотела помогать Бантинг. Иными словами, это были женщины, очень похожие на нее в молодости.
Среди этих воодушевленных женщин была и Секстон. В феврале она получила бланки заявок, а в начале марта подала свою. Заявка балансировала на грани между обворожительным самоуничижением и возмутительным высокомерием. Энн предоставила необходимые личные сведения: помимо возраста и адреса, заявителей попросили указать имена и фамилии мужей, род занятий, а также имена и возраст детей и других иждивенцев. Стипендия не была социальной, поэтому наличие мужа с высокой зарплатой не отсеивало кандидаток; как и выросшие дети, которые больше не нуждались в материнской заботе. Вероятно, институт запросил эту информацию, чтобы собрать данные, которые могли бы послужить контрольными примерами теории Бантинг о жизненном пути американской женщины. Секстон была одной из немногих соискательниц без высшего образования, так что в анкете она не заполнила разделы «образование» и «языки». Единственным талантом, который указала Энн, было умение проводить поэтические чтения. Она назвала свои академические достижения «невыразительными»[188]188
Секстон Э. Заявка на поступление в Рэдклиффский институт независимых исследований. 7 марта 1961 года. Архив Рэдклиффского института.
[Закрыть], но подчеркнула, что сделала успешную карьеру, будучи писательницей-самоучкой. Чтобы проиллюстрировать свой успех, Энн привела в пример десять хвалебных рецензий на свои произведения, которые она готова отправить в приемную комиссию (Секстон также довольно робко упомянула «две отрицательные рецензии, которые я бы предпочла вам не показывать»). Но Энн хотела писать для грядущих поколений. Она утверждала, что ее не интересуют ни продажи, ни мимолетное одобрение современников. Секстон стремилась быть больше, чем просто женщиной-поэтом, и хотела превзойти то, что называла своей «женской ролью» (но при этом Энн не забыла выразить институту признательность за поддержку женской карьеры). Секстон подчеркивала свое желание занять место среди великих литераторов страны, словно гостья, которая, впервые попав на литературную вечеринку и, пытаясь справиться с неловкостью, слишком громко смеется и слишком много говорит о работе. «Я чувствую, что я уже состоявшийся поэт, – писала Энн. – И сейчас я прошу о возможности оставить след в истории». В своем стремлении к исключительности эта женщина не терпела полумер.
По совету Секстон Кумин также подала заявку в институт. В заявке она сделала упор на свои академические успехи: степень бакалавра и магистра Рэдклиффского колледжа, полученные в студенчестве награды, владение четырьмя языками. В заявке нужно было указать название докторской диссертации, но Кумин вместо этого вписала название своей дипломной работы с отличием: «Аморальность главных героев в романах Стендаля и Достоевского»[189]189
Кумин М. Заявка на поступление в Рэдклиффский институт независимых исследований. 29 февраля 1961 года. Архив Рэдклиффского института.
[Закрыть]. Несмотря на то, что Максин уже состоялась как поэт – она опубликовала около сорока стихотворений в Harper’s, The Atlantic и The New Yorker, – Кумин преуменьшила свои творческие достижения, словно боясь показаться выскочкой. Вместо этого Максин акцентировала внимание на своей педагогической деятельности: она работала в Тафтсе на полставки, была предана своему делу и верила, что год чтения и исследований в Институте поможет ей повысить педагогическое мастерство. «Мне интересно сравнить путешествия Джозефа Конрада и Сола Беллоу в бессознательное, – писала Кумин в исследовательском предложении. – Я бы хотела прочитать все произведения Сартра и Камю и изучить влияние экзистенциалистской философии на существующие фрейдистские концепции в американской литературной критике». Максин собиралась переводить французских и русских поэтов, читать эссе о творческом процессе и, возможно, разработать собственные теории о творческом мышлении. Одностраничное исследовательское предложение Кумин с трудом вмещало все интересовавшие ее направления интеллектуальной деятельности. Она с нетерпением ждала начала занятий.
По изначальному замыслу Бантинг, двери Института были открыты только для женщин-ученых. В первых беседах со специалистами по привлечению средств и попечителями Мэри предлагала принимать на программу только женщин, имеющих докторскую степень. Другим обязательным условием было географическое положение: в качестве стипендиаток должны были рассматривать только тех, кому несложно добираться до Рэдклифф-Ярд, или тех, кто готов на год переехать в Кембридж. Таким образом были созданы жесткие, но необходимые условия поступления: иначе Институт просто утонул бы в заявках. Но в 1960-м, к моменту выхода ноябрьского пресс-релиза, руководство института пришло к выводу, что художники, имеющие «эквивалент» докторской степени, также должны получить право на стипендию института. В результате комиссия приняла заявки писателей, композиторов и художников. Местная художница Барбара Свон Финк оказалась в их числе.
Новости об открытии Института дошли до Барбары Свон, когда она жила в людном пригороде к западу от Бостона по адресу Вебстер-плейс, 32, Бруклин (городок в Массачусетсе). Как и Секстон, Свон была уроженкой Новой Англии: она родилась в 1922 году в Ньютоне – том же городе, который стал домом для Секстон. Барбара начала рисовать еще ребенком, а затем стала посещать занятия в Массачусетском колледже искусств. Она могла передать образ человека несколькими карандашными штрихами: матери-янки, отца-шведа, а потом – коллег-художников и друзей. Много лет спустя, когда Свон попросили описать ее знакомство с искусством, она не упомянула имен наставников или названий книг. Барбара считала умение рисовать своим врожденным даром и утверждала, что ей было суждено стать художницей, и никем другим. Но в середине века молодой женщине было нелегко стать художником и работать по специальности (впрочем, этот путь всегда был и остается нелегким). И хотя Свон мечтала поступить в художественную школу сразу после окончания средней, строгий отец настоял, чтобы вместо этого она получила высшее гуманитарное образование. Он донимал дочь своим неизбывным беспокойством о том, как она планирует зарабатывать на жизнь и делать карьеру, а также комментариями вроде «еще ты, наверное, собираешься влиться в богемную компанию и вести неприглядный образ жизни»[190]190
Интервью с Барбарой Свон. 13 июня 1973 года – 12 июня 1974 года. Архив американского искусства. Смитсоновский институт.
[Закрыть].
Чтобы успокоить отца, Свон стала посещать колледж Уэллсли, куда, в целях экономии, ездила из дома. Мастерские в Уэллсли разочаровали Барбару – она сочла их достойными «дилетантов» и поэтому сменила специализацию на историю искусств. Свон испробовала все занятия, предложенные колледжем ассоциации «Семь сестер», но ей было этого недостаточно. Она с легкостью запоминала тексты слайдов, а в перерывах между занятиями рисовала портреты своих одногруппниц. «У меня было что-то вроде бизнеса: в назначенное время люди приходили позировать в мою комнату в общежитии, – вспоминала Барбара позже, – и я рисовала пастели одну за одной, а багетный мастер из Ньютон Корнер… за 3,98 доллара подбирал им рамы… а потом их рассылали по адресатам, и… некоторые из моих работ даже отправились в Калифорнию»[191]191
Там же.
[Закрыть]. Свон брала 15 долларов за портрет и впоследствии говорила, что «возможно, это было дороговато», тем не менее у нее был постоянный поток клиентов. К тому времени у Барбары хватило накоплений и смелости, чтобы съехать из отцовского дома.
Свон хотела быть настоящим художником, а в то время это означало, что ей нужно будет учиться вместе с мужчинами. В 1943 году Барбара закончила Уэллсли и поступила в лучшую художественную школу в городе – школу при Музее изобразительных искусств, известную как Музейная школа. Свон училась у Карла Цербе – портретиста и немецкого эмигранта[192]192
Для описания Цербе, Музейной школы и фигуративного модернизма как движения я обратилась к: Bookbinder J. Boston Modern: Figurative Expressionism as Alternative Modernism. Durham, 2005.
[Закрыть]. В 1934-м Цербе бежал из Берлина в Бостон после того, как национал-социалисты причислили его к «дегенеративным» художникам. С 1937 по 1955 год он был заведующим отделом живописи школы при Музее изобразительных искусств. Цербе требовал от своих студентов усердной работы, побуждая их выйти за рамки классицизма, учиться запечатлевать чувства и относиться к краске как к фундаментальному средству выразительности. Его ученики были фигуративными экспрессионистами, стремившимися порвать с традицией – и, следуя модернистскому диктату, «воссоздать ее» – но предпочитали работать с человеческими формами. Это делало их парадоксальными ренегатами. 1940-е и 1950-е годы были эпохой абстракции, временем, когда нью-йоркские авангардисты – такие, как Джексон Поллок, Виллем де Кунинг и Джаспер Джонс, экспериментировали с цветом, текстурой и формой. Их искусство не было предметным или фигуративным. Говоря словами арт-критика и теоретика авангарда Клемента Гринберга, под кистью этих художников содержание «должно быть растворено в форме настолько полно, чтобы их работу… нельзя было свести, в целом или по частям, к чему-то, что не было бы самой сущностью произведения искусства»[193]193
Greenberg C. Avant-Garde and Kitsch // The New York Intellectuals Readers / Ed. N. Jumonville. New York: Routledge, 2007. P. 146.
[Закрыть]. И пока все это происходило всего в четырех часах езды на юг, бостонские художники продолжали рисовать легко узнаваемых людей и места.
Свон, которую в 1947 году The Christian Science Monitor назвал одной из самых одаренных студенток Музейной школы[194]194
Adlow D. Barbara Swan Shows Group Show of Portraits // Christian Science Monitor. 1947, November 6. P. 4.
[Закрыть], вошла в ближайшее окружение Цербе, а это было непросто, поскольку в Школе было очень мало женщин. В коридорах толпились получившие льготы на обучение резервисты, усталые и очень серьезные на вид (в год окончания войны в Музейную школу поступило 96 бывших фронтовиков). Женщины редко получали должность ассистента преподавателя и еще реже выигрывали трэвел-гранты, которые для перспективных художников были главной возможностью поучиться за границей. Как потом объяснила Свон, «они не сомневались, что в Париже женщина обязательно заведет интрижку с каким-нибудь французом»[195]195
Bookbinder J. Boston Modern: Figurative Expressionism as Alternative Modernism. Durham, 2005. P. 221.
[Закрыть]. А однокурсница Барбары Луис Тарлов полагала, что Цербе «считал, что все женщины без исключения не заслуживают серьезного внимания… у Цербе были любимчики, но женщин среди них не наблюдалось»[196]196
Ibid. P. 219–220.
[Закрыть]. Но у Свон, как и у Секстон, которой удалось расположить к себе Лоуэлла, получилось заручиться одобрением мастера. Возможно, дело было в том, что Барбара превосходно владела чертежным искусством, которое, по собственному признанию, высоко ценил Цербе; возможно, его покорила тихая настойчивость Свон, ее твердое решение посвятить себя искусству во что бы то ни стало. «Я была очень решительно настроена стать художником, – пояснила она впоследствии. – Пусть и против воли родителей»[197]197
Ibid. P. 221.
[Закрыть]. Так или иначе, учась в Школе на старших курсах, Барбара помогала Цербе вести занятия. А когда он собирал своих приближенных в подвальном кафетерии школы, Свон была единственной женщиной, сидящей со всеми за большим круглым столом.
Хоть это и было практически невозможно, Свон выиграла стипендию на поездку в Париж. Они с подругой сняли дешевый гостиничный номер на двоих, и Свон зимой рисовала в холодном, плохо обогреваемом помещении, пока руки не синели. В ресторане на Левом берегу Барбара познакомилась со своим будущим мужем Аланом Финком, бывшим бухгалтером, который тратил свои сбережения, путешествуя по Европе. Свон, как и опасался ее отец, влилась в богемную тусовку и отправилась с Финком и его друзьями в Прованс, где избавилась от того, что сама называла «мрачной тональностью» Бостона и начала писать яркими синими и красными цветами в духе Сезанна.
Свон и Финк вернулись в Бостон в 1952 году и поженились (против воли родителей Барбары, их не устраивали «экономические перспективы» Финка). Через год состоялась первая персональная выставка Свон – событие, которое ввело ее в круг бостонских художников. Выставка прошла в Галерее Бориса Мирски на Ньюбери-стрит (позже Алан станет директором этой галереи). Мирски был душой бостонской художественной тусовки, – он представлял интересы выпускников Музейной школы и других восходящих звезд, – и экспозиция Свон имела успех у критиков. Одна из самых уважаемых бостонских критиков Дороти Адлоу написала хвалебный отзыв о ее творчестве в The Christian Science Monitor: «В этих рисунках трепещет сама жизнь, в них есть внутренняя сила, неповторимая самобытность. Портреты Свон примечательны тем, что воссоздают цельный образ лишь несколькими линиями. Она обладает незаурядным даром запечатлевать характер»[198]198
Adlow D. Artist’s First Solo Display at the Boris Mirski Gallery // Christian Science Monitor. 1953, March 23. P. 7.
[Закрыть].
Но вскоре в карьере Свон наметился перерыв. Барбара родила двоих детей – Аарона в 1955-м и Джоанну в 1958-м, – и хотя она была счастливой, не склонной к тревогам матерью, писать картины в присутствии детей оказалось для нее практически невыполнимой задачей. И поэтому Свон рисовала, и в основном – своих детей. Следующая выставка Барбары состоялась только через четыре года.
К осени 1960 года, когда было объявлено о создании Института, Свон удалось найти редкий и счастливый баланс между домашними хлопотами и занятиями искусством. Она обустроила домашнюю студию на втором этаже своего бруклинского дома и в основном стала писать своих детей. Это изменение было скорее вопросом удобства: дети, как правило, находились всего в нескольких шагах от мольберта Барбары. «Отношения матери и ребенка интересовали меня просто потому, что были автобиографическими», – размышляла она позже. Свон зарисовывала своих копошащихся на полу детей: Джоанна перевернулась на живот и смотрит с любопытством, маленький Аарон спокойно лежит на спине. Барбаре даже удалось написать несколько портретов своих детей (пока они еще не научились ползать и сидели спокойно). Она сочными красками изобразила Аарона, висящего на вытянутой вверх руке отца и зачарованно глядящего на простирающийся под ним мир. Этот портрет, как и вся живопись и рисунки Свон, демонстрирует ее блестящую технику, типичные для более ранних работ погрешности – безвольно висящие конечности, непропорционально большие глаза – исчезли. От семейных портретов веяло теплом и бережной заботой, а насыщенные цвета и необычная композиция спасали от сентиментальности. Когда в 1957 году Свон экспонировала некоторые из этих произведений, The Boston Globe назвала их «инъекцией гуманизма»[199]199
Driscoll E. J. This Week in the Art World: Barbara Swan’s Exhibit Humanistic Shot in the Arm // Boston Globe. 1957, November 10.
[Закрыть] – столь желанной вакциной от тревог холодной войны.
Эту работу Барбара поместила в портфолио и отправила в Рэдклифф. Она подала заявление по наводке подруги, которая знала, что Свон чувствует себя «погрязшей» в домашних делах[200]200
Swan B. The Premier Cru // Radcliffe Quarterly. 1986, June. P. 17.
[Закрыть]. Детям было пять и два; и хотя Свон изыскивала пути «быть всеми»[201]201
Свон Б. Письмо Мэри Бантинг от 22 ноября 1960 года. Архив Рэдклиффского института.
[Закрыть] – матерью, художником, а иногда и учителем рисования, – она все-таки не отказалась бы «от небольшой помощи на этом пути». Барбара подала заявку на поступление в Институт в конце февраля 1961 года. Через несколько месяцев, в апреле, она прислала дополнительное портфолио: две картины в рамах, один рисунок под названием «Мать и дитя» в раме и под стеклом, папку с рисунками, а также конверт с фотографиями и информацией о других произведениях.
«Гнездо» – одна из двух картин в раме – демонстрирует, как Свон совмещала материнство и искусство. Картина изображает полулежащую в розоватом кресле женщину; ее голова размещена в нижнем левом углу полотна, а ноги вытянуты вверх, в темноту. Розовый халат, обволакивающий ее тело, как будто сливается с креслом, размывая границу между телом и мебелью. Широко раскрыв невидящие глаза, завернутый в голубую ткань младенец сосет обнаженную грудь женщины. Сцену можно счесть сентиментальной, но перед нами отнюдь не Мадонна с младенцем. Это смелая, производящая немного отталкивающее впечатление картина: яркий контраст розового и голубого, интенсивная игра света и тени, оголенная грудь и сияющий младенец, неестественно выделяющийся на темном фоне. Полотно представляет материнство чем-то неестественным, почти что неземным.
С помощью этой картины Свон показала (а в своей заявке на стипендию – прокомментировала) занимающую ее тему инаковости, сюрреалистичности материнства. В представлении Барбары материнство не было чем-то обыденным, банальным и заурядным; напротив, она считала его новаторским, духовным, пробуждающим опытом. «Я чувствую, что художница может черпать огромное вдохновение в роли жены и матери, – писала Свон в своей заявке. – Это глубокий, мистический опыт. Это прилив жизни во всех смыслах»[202]202
Свон Б. Заявка на поступление в Рэдклиффский институт независимых исследований. 24 февраля 1961 года. Архив Рэдклиффского института.
[Закрыть]. Такой образ мышления идеально сочетался с воодушевляющим посылом Института о том, что материнство и творчество могут быть взаимостимулирующими.
Вскоре после подачи заявления Свон узнала, что прошла отбор и что ей предстоит собеседование на место в пилотном классе. Чтобы выиграть его, она должна отличаться от множества других кандидаток – бывших медиевисток, начинающих философов и временно не практикующих химиков, жаждущих служить своей стране, – и все они надеялись лишь на «небольшую помощь на этом пути».
Тем временем 29 апреля 1961 года в 10 утра Секстон прибыла на интервью в Фэй-Хаус в университетском городке Рэдклиффа. Она была одной из приблизительно сотни приглашенных на интервью женщин; количество официальных заявок превышало эту цифру почти в два раза. Еще сотни женщин прислали письма с вопросами, записки с поздравлениями, а также сдержанную критику программы, ведь она была ориентирована только для «незаурядных женщин» и обходила вниманием остальных: в институт пришло письмо от неработающей матери с высшим образованием, но без убедительных доказательств интеллектуального потенциала; от работающей матери, которой была необходима финансовая помощь или помощь в уходе за ребенком; от женщины, которую отговорили получать образование. И хотя институт Бантинг привлек внимание многих американок, работающих вне дома, на среднестатистическую представительницу среднего класса программа рассчитана не была. Она предназначалась для «особенной» женщины, которая получила высшее образование и многого добилась, несмотря на стоящие перед ней препятствия. Как правило, на таких женщин уже многое работало: деньги, расовые привилегии и в какой-то мере социальное обеспечение. Секстон была в восторге от того, что ее считают особенной. И хотя она и не могла поверить, что прошла предварительный отбор, но все-таки считала, что заслужила это место по праву.
Энн подошла к зданию, где должно было проходить интервью. Фэй-Хаус на Гарден-стрит, 10 больше похож на особняк, чем на административное здание. Все потому, что когда-то это был фамильный дом, а в 1885 году его выкупили, чтобы предоставить служебные помещения в бессрочное пользование Рэдклиффскому колледжу. На старых фотографиях начала XX века у парадного входа здания стоит группа женщин в широкополых каркасных шляпках и платьях со шлейфом и сборчатым корсажем. Над ними возвышается небольшая площадка с перильцами; легко представить себе, как по этой узкой платформе, поглядывая на реку Чарльз, прогуливалась какая-нибудь бостонская матрона. С тех пор, как были сделаны эти снимки, прошли годы. Дом отремонтировали и приспособили под административное помещение. И все это время женщины Рэдклиффа продолжали проходить сквозь дверной проем Фэй-Хаус. Для некоторых из них это был путь к новой жизни.
Куда бы Секстон ни направлялась, ее появление всегда было эффектным. И это интервью не стало исключением. Энн всегда тщательно подбирала одежду и наносила помаду в тон украшениям. Наверное, она блистала в свете утреннего солнца. Смит – директор, которая инициировала послабление в правилах института, решив рассмотреть заявку от кандидатки без высшего образования, начала интервью. И Энн, как вышколенная актриса по сигналу режиссера, начала выступление.
Секстон знала, как себя держать, будучи в центре внимания, хотя такое положение порой ее пугало. Энн была полна энергии, активна и разговорчива. Одинаково откровенная и в жизни, и в творчестве, Секстон охотно рассказала о том, как открыла для себя поэзию (из-за попыток покончить с собой) и о том, как сложно ей было научиться писать. Она не умолчала ни о своих суицидальных мыслях, ни о днях, проведенных в Гленсайде. По заявке на стипендию могло показаться, что Секстон смущает ее отсутствие высшего образования, но на интервью она с энтузиазмом отозвалась о предоставляемых Институтом образовательных возможностях[203]203
Там же.
[Закрыть]. Энн собиралась посещать разные занятия и много читать. Понимая, что вложения в человека с таким темпераментом и прошлым представляются сомнительной инвестицией, Секстон заверила Смит, что сейчас ей удалось достичь баланса в жизни и что она собирается быть хорошей матерью вне зависимости от своих профессиональных обязанностей. Кстати говоря, она недавно отменила встречу с очень важным издателем, потому что обещала дочерям пойти посмотреть на цветущие вербы. «ВАУ! Да уж, ее нельзя не заметить, – написала Смит после интервью. – Вот так энергия, вот так пыл!» Она рекомендовала утвердить кандидатуру Секстон.
Кумин прибыла в Фэй-Хаус через несколько часов, к 14:00. Здесь ей было все знакомо. Впервые Максин увидела Рэдклифф осенью 1941-го, и тогда красота кампуса не оставила ее равнодушной. Университетский городок протянулся от Рэдклифф-Ярд, где стояли административные здания и Фэй-Хаус, и до Рэдклифф-Квадрангл, где находились общежития. Рэдклифф-Ярд располагался всего в нескольких минутах пешком от центра Гарвардской площади, вокруг которой раскинулся кампус Гарварда, а Квад – в семи минутах от Гарден-стрит, в отдалении от шумной суматохи площади. Примыкающие к нему обсаженные деревьями улицы считались одними самых красивых в городе.
Впоследствии Кумин описала трансформацию, которую ощутила, когда приехала в Рэдклифф: «Ярлыки, которые на меня навешивали, – заучка, зубрила, ботаник – превратились в почетные знаки… В Рэдклиффе у меня началась новая жизнь. Я избавилась от своего провинциального еврейства»[204]204
Kumin M. The Pawnbroker’s Daughter: A Memoir. New York, 2015. P. 39.
[Закрыть]. В Рэдклиффе Максин была по-настоящему счастлива: она стала своей среди «клиффи» – находчивых, умных, интересующихся политикой и совсем не похожих на девочек из школьного сестринства. Кумин и не знала, что в мире есть женщины, похожие на нее, женщины со схожими «интересами, мнениями и ценностями»[205]205
Кумин М. Интервью Э. Райерсон и М. Уайт. 30 января 1962 года. Архив Рэдклиффского института.
[Закрыть]. И Максин погрузилась в студенческую жизнь. Вместе с разделяющими ее взгляды одногруппниками Кумин вступила в Лигу труда (и шокировала отца своими ультралевыми политическими взглядами). В выпускном классе она стала капитаном команды пловцов, нарисовала сатирический комикс и активно посещала футбольные матчи и танцы. Кумин давно увлекалась плаванием, и сначала ее разочаровал подвальный бассейн в Рэдклиффе (когда Максин выбирала колледж для поступления, ей больше приглянулся бассейн в Уэллсли), но тем не менее в студенчестве она плавала с большим удовольствием и даже учила плавать других «клиффи», которым для получения диплома был нужен зачет по этому предмету. «Пожалуй, тогда неудовлетворение, которое я испытывала с восьмого по двенадцатый класс, сошло на нет, – говорила Кумин позднее. – Я начинала с чистого листа в другой стране». Впервые в жизни Максин ощущала себя «действительно невероятно счастливой»[206]206
Там же.
[Закрыть].
Кумин, дети которой уже сами были подростками, подала заявление в Институт по многим причинам: она хотела отдохнуть от преподавания в Тафтсе, хотела обеспечить себе репутацию стипендиатки программы для «младших научных сотрудников», хотела двигаться в том же направлении, что и лучшая подруга, и, что немаловажно, хотела вновь пережить свои счастливые студенческие годы.
В каком-то смысле, тот факт, что Кумин не отсеяли до интервью, удивляет больше, чем то, что до этого этапа добралась Секстон. Не будучи ни настоящим ученым, ни блистательным литератором (ее первая книга была только-только опубликована в марте), Кумин мало чем отличалась от множества выпускниц Рэдклиффа, чьи заявки отправились в мусорную корзину. Максин была женщиной, которая, по ее собственным словам, «играла тройную роль: писательницы, учительницы и домохозяйки»[207]207
Кумин М. Заявка на поступление в Рэдклиффский институт независимых исследований. Февраль 1961 года. Архив Рэдклиффского института.
[Закрыть]. Научный руководитель Кумин в Тафтсе назвал ее «прекрасным учителем» и «первоклассным» ученым и отметил, что редкий человек может освоить обе задачи и при этом «достичь таких успехов в творческой деятельности»[208]208
Рединник Ф. А. Рекомендательное письмо, приложенное к заявке Кумин. Архив Рэдклиффского института.
[Закрыть]. Несомненно, Максин была надежной и здравомыслящей женщиной, и пусть и не гением, но, по крайней мере, убедительным примером основополагающей теории Института о том, что материнство и интеллектуальный труд могут органично сосуществовать.
Начав говорить, Кумин сразу показала, что совершенно не похожа на свою ньютонскую соратницу по перу. Секстон была жизнерадостной и пылкой, она горела своим творчеством и откровенно рассказывала о личном, а Кумин с первых минут казалась более непринужденной, но при этом серьезной. Она с энтузиазмом говорила о своей преподавательской деятельности в Тафтсе и о том, как после года учебы в Институте вернется туда с новыми знаниями. Максин бегло упомянула все свои многочисленные интересы – поэзия, творческий процесс, фрейдистская психология, экзистенциализм – Смит сочла такое обилие потрясающим и даже удивительным.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































