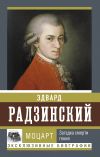Текст книги "Имя кровью. Тайна смерти Караваджо"

Автор книги: Мэтт Риз
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Онорио притопывал и хлопал в ладоши.
– Играй громче, Микеле!
Караваджо постарался заглушить возню и хихиканье, доносящиеся из алькова.
Вскоре, покончив со своим занятием, любовники отдернули занавеску. Довольный Рануччо задремал. Филлида поправила декольте. Меника разложила в миски мясо для Гаспаре и Караваджо. Рагу благоухало мускатным орехом, гвоздикой и корицей.
– Что-то мне поэзии захотелось, – томно протянула Филлида.
Гаспаре поклонился.
– Ваше сердце валяется в постели, госпожа Филлида, но душа обращается за любовью и поэзией ко мне.
– Мне нужны твои стихи, а не околесица в духе Петрарки. Терпеть не могу этого старого плаксу!
– Слушайте, слушайте! – Рануччо хлопнул ладонью по стене.
Обескураженный тем, что даже куртизанка заметила плагиат, Гаспаре прокашлялся.
– Помните картину, которую наш друг Микеле написал несколько лет назад? «Амур-победитель»?
– Тот купидончик с лукавой улыбочкой? – Онорио раскупорил новую бутылку и поднес ее к губам.
Встав в эффектную театральную позу, Гаспаре прочел мадригал. В нем говорилось, что Караваджо изобразил на картине любовь точно как в реальной жизни, с самыми сильными ее страстями.
– «О, не гляди, любви опасен вид, Амур тебя стрелою поразит», – заключил он.
– Неплохо, – Онорио рыгнул. – Хоть сейчас в печать.
– Эти стихи вышли в Венеции два года назад, – Гаспаре оскорбленно подбоченился. – И книгу я тебе, между прочим, подарил.
– Что-то не помню.
Просперо толкнул его в бок:
– Это та, которой ты свой ночной горшок прикрываешь.
Гаспаре замахнулся было, но Меника его удержала.
Онорио ядовито усмехнулся:
– Что скажешь, Микеле, – поразила ли любовь твое сердце, как говорит наш друг, великий поэт Генуэзской республики?
Караваджо поставил гитару на пол. Глаза его расширились, словно он увидел в полутьме привидение.
– Любовь? – он потянулся к бутылке и надолго приложился к ней. – Вы и впрямь думаете, что меня воспламеняет любовь?
* * *
Утренние лучи вонзились ему в мозг, точно стилет незаметно подкравшегося наемного убийцы. Караваджо застонал.
– Нам пора, Микеле.
Он открыл глаза. В луче оранжевой зари плясала пыль. Он поднялся, растирая лицо ладонью, схватился за голову и охнул.
Онорио похлопал его по щеке:
– Ничего себе ночка, правда, cazzo?
Полог постели был задернут лишь наполовину. На бледной груди Филлиды виднелась яркая царапина – должно быть, знак внимания, оказанный ночью милым другом. Рануччо храпел рядом с ней. Просперо поднялся с дивана, почесал голову и вытер руку о штаны.
– Ну же, скорее, – махнул рукой Онорио. – Идем отсюда.
В прозрачном воздухе раннего утра еще не ощущалось смрада, который вскоре под жаркими лучами солнца начнет сочиться из всех щелей. Просперо послал воздушный поцелуй старухе, что тащила корзинку со смоквами на рынок Кампо де Фьори.
– Как можно в Риме чувствовать себя несчастным? – над рыжей бородой коротышки показались уцелевшие в трактирных драках редкие зубы. – Ну, кто рано встает, тому бог подает. Пошел я, парни. – И он зашагал к Корсо.
Онорио подобрал упавшую из корзины у старухи смокву, обтер о полу камзола и откусил половину.
– Ты не отдал долг, – обхватив Караваджо за плечи, сказал он.
– С этой попойкой совсем из головы вылетело, – Караваджо забрал у него остаток смоквы и сунул в рот. – Ладно, может, он тоже забыл.
– Микеле, я тебя не узнаю. Если тебя разозлить, ты иногда себя не помнишь, и, бог свидетель, за это я тебя не виню. Но не пытайся меня убедить, что ты хочешь драться с этим головорезом.
Караваджо натянуто улыбнулся:
– Чтобы принимать твои советы, друг сердечный, надо здорово умом повредиться.
– Сиди дома и работай, – Онорио взял Караваджо под руку. – Тебе деньги нужны? Я могу одолжить тебе десять скудо для Рануччо. Чтобы он от тебя отцепился.
– Денег у меня хватает, – Караваджо достал из-за пазухи кожаный кошель и встряхнул его. – Видишь?
– Тогда, Пресвятой Девой тебя молю, заплати этому ублюдку.
Губы Караваджо сжались, будто от боли. Он взял Онорио за локоть и улыбнулся:
– Твоя правда. Найду его днем на поле для игры в мяч и верну долг.
– Тогда до встречи на поле, – Онорио погрозил ему пальцем. – Ты же понимаешь, приятель: разве я смогу спокойно смотреть, как ты один воюешь против всего семейства Томассони?
– Понимаю.
– А я собираюсь в церковь Санта-Мария делла Консолационе. Каменщики должны заменить часть кладки. Лучше мне за ними присмотреть, не то начнут сбрасывать мрамор с холма, как преступников с Тарпейской скалы. Слушай, а пошли вместе? Поглядишь на мою работу.
Нет, я спешу домой – жду натурщицу. Ciao, cazzo. Во рту у Караваджо пересохло, в животе бурчало от голода. Миновав церковь Тринита деи Монти, он завернул в таверну Турка, осушил кружку слабого пива и спросил ломоть черного хлеба и половину луковицы. А выйдя на площадь у подножья холма, потер срезом луковицы хлеб – для запаха – и, энергично жуя, зашагал в гору по виа дель Бабуино.
Рим вокруг него просыпался. Широкоплечий старый плотник, с которого он писал святого Петра, перешел улицу, направляясь в свою мастерскую на виа Маргутта. Поудобнее перехватив ящик с инструментами, он помахал Караваджо рукой:
– Микеле, над чем работаешь?
– Salve[6]6
Привет (итал)
[Закрыть], Роббе! Пишу Магдалину и сестру ее Марфу.
– Может, тебе опять нужен в натурщики крепкий лысый старик с белой бородой?
Караваджо указал на церковь Санта-Мария дель Пополо на другом конце площади, в которой хранилась его «Казнь святого Петра»:
– Все знают, что тебя я уже распял.
Утолив голод, Микеле направился домой, чтобы к приходу Пруденцы успеть приготовить краски. В правую часть холста он поместил Филлиду-Магдалину в минуту раскаяния. Чтобы уравновесить композицию, ему требовалась Пруденца-Марфа, увещевающая распутную сестру. Ему не терпелось рассказать Филлиде, что та окажется на полотне в галерее великих Альдобрандини рядом с женщиной, чье лицо она пыталась обезобразить. Он намеревался работать над картиной до обеда, а затем отнести Рануччо долг – на поле или к Филлиде. «Брошу деньги перед ним на землю. Пусть знает: я не верю, что он выиграл их честно. И считаю, что драться с таким, как он, ниже моего достоинства. На это десяти скудо не жалко».
У церкви Святого Афанасия, башни которой темнели жженой охрой, он решил срезать путь по виа деи Гречи и повернул к Поганому садику. Низкое утреннее солнце едва пробивалось сквозь сумрак на узкой улочке. На выщербленных серых ступенях небольшого дома стояли на коленях двое нищих, – они воздели руки к небу, выпрашивая милостыню. На пороге появилась молодая женщина, прижимая к бедру мальчугана лет трех, замотанного в полотенце; похоже, побирушки отвлекли ее от купания малыша.
Караваджо приблизился, с нескрываемым интересом рассматривая женщину. В доме было темно, казалось, дневной свет проник на эту улицу только ради нее – чтобы озарить шею и грудь, белоснежные, как скорлупа свежего яйца. Женщина скрестила босые ноги и слушала нищую старуху, покачивая на бедре ребенка. Голову она склонила влево, касаясь подбородком ключицы. В ее взгляде на коленопреклоненную сквозило глубокое сострадание.
Разумеется, он узнал ее: та самая служанка, которая натирала полы во дворце дель Монте. «Она развернула бедра в противоположную от плеч сторону, – отметил он, – как будто знает, что такое контрапост. Интуитивно, не нуждаясь в поучениях и академических терминах, нашла позу, исполненную классической грации».
Караваджо прислонился к стене. Штукатурка рядом с дверным проемом облупилась, обнажив кирпичную кладку. Он улыбнулся и с удивлением осознал, что смотрит на служанку просто и открыто, безо всякого расчета.
Девушка казалась смущенной: похоже, она узнала его после встречи во дворце и, вероятно, недоумевала, как он оказался возле ее дверей. Мальчуган дернул ее за рукав. Она поцеловала его в лоб и что-то прошептала.
Улыбка на лице Караваджо сменилась сосредоточенностью. Маэстро Леонардо утверждал, что даже в мимолетном движении отражаются внутренний мир и стремления человека. Художник должен замечать такие вещи скорее, чем детали физической формы. Запоминай их сразу, учил великий флорентиец. Уверенно, как на бумаге, Караваджо запечатлел в памяти изгиб девичьей шеи, изящную линию щиколотки, безмятежную глубину темных глаз.
Он вытащил кошелек и пересчитал монеты. Десять скудо. «Ровно столько я должен Рануччо». Караваджо опустил монетки – тонкие, как стружки пармезана, – в замшевый кошелек, завязал шнурок и вложил кошелек в руку нищего старика. «Подавать такую милостыню – нелепое расточительство. На один скудо можно купить два с половиной десятка цыплят. Десяти достаточно, чтобы три месяца платить за жилье. Но я так и скажу Рануччо: я предпочел отдать деньги бездомному попрошайке, лишь бы они не достались тебе».
Девушка в дверях воззрилась на Караваджо с изумленным подозрением. Он в ответ улыбнулся. «Истинная римлянка», – мелькнуло у него.
Нищие засыпали руки Караваджо поцелуями и засобирались прочь. Девушка заторопилась в дом продолжить купание малыша. Но Караваджо легким движением удержал ее запястье. Ему почудилось, что он проник в алтарь и коснулся самой Богородицы. Но никогда еще он не видел изображения Пречистой, исполненного подобной убедительности, – даже кроткие девы Рафаэля и загадочные мадонны Леонардо не шли с ней ни в какое сравнение.
– Как тебя зовут? – спросил он.
Она погладила подбородок мальчика указательным пальцем:
– Как меня зовут, малыш?
– Тетя Лена, – радуясь, что ответил правильно, мальчик захлопал в ладоши. Она поцеловала его в лоб.
Караваджо почти явственно ощутил прикосновение ее губ, словно поцелуй достался ему.
– Я еще вернусь, Лена, – и он пошел по улице, напевая про себя песню, которую играл на вечеринке у Филлиды:
Ты – звезда на небесах,
Смертным женам не чета,
Будь со мною!
* * *
– Смотри туда и не поворачивайся ко мне, – Караваджо вышел из-за черного занавеса и приподнял подбородок Пруденцы.
– Но ведь там ничего нет и смотреть не на что. Только дырка в потолке, – она встряхнула ладонями. – И руки держать так невозможно, затекли все. Что ты там делаешь за занавеской? Сколько мне еще так стоять?
– Потерпи. Привыкла, когда десять минут – и готово? – он подправил ее позу, сжав плечи сквозь тонкую белую ткань.
– Зря смеешься, Микеле. У меня господа за две минуты кончают, я способ знаю, – Пруденца махнула согнутым пальцем, напоминая об известном всем шлюхам трюке: засунуть палец клиенту в зад, чтобы ускорить семяизвержение.
Хмыкнув, Караваджо поправил складки наброшенной на ее спину бурой накидки, драпируя ткань на опущенной на стол руке девушки.
– Видишь, где моя рука? Смотри на нее.
Пруденца приподняла голову и застыла. Караваджо снова скрылся за занавеской и задернул ее за собой. На уровне его головы в занавеске было проделано небольшое круглое отверстие.
Через эту дыру на Пруденцу падал яркий свет. За спиной Караваджо стояло несколько зеркал, они отражали натурщицу и отбрасывали отражение на холст. Этот прием художнику показали высокоученые посетители дворца дель Монте. Умелым движением он сделал пометки на холсте, чтобы совместить с ними отражение во время следующего сеанса, затем перевернул кисть и черенком провел несколько линий, штрихами обозначая очертания уха, лба, подбородка и рук. Детали он пропишет позднее, но поза и ракурс – в этом он не сомневался – будут точно соответствовать реальному отражению в зеркале.
– Зачем тебе там зеркало? – подала голос Пруденца.
– С ним проще работать. Помогает сосредоточиться на том, что действительно важно.
Только глупец мог бы подумать, что гений художника, способного придавать лицам выражение нравственного страдания или безмятежной кротости, сводился к использованию этого хитрого приема. Тем не менее он позволял добиваться невиданного правдоподобия, вызывавшего восхищение зрителей. Мало кого интересовало, как он этого достигает, и только высокоумные мужи из дома дель Монте точно знали, в чем секрет. Прочие считали его мастерство непостижимым таинством и воспринимали с таким же благоговением, с каким созерцали парящую на облаке над алтарем Деву Марию.
Пруденца открыла рот, чтобы задать новый вопрос, но художник шикнул на нее. Он не спешил распространяться об особенностях своей техники, не желая, чтобы они стали достоянием других художников, но дело было не только в этом. Он опасался инквизиции. Проецирование изображений считалось ересью и колдовством.
С террасы донесся собачий лай.
– Чекко, – крикнул он, – подними-ка лампу повыше.
Вошел подмастерье и потянул шнур блочного механизма. Лампа со скрежетом поднялась к потресканным доскам потолка. Контраст между тенью и светом на лице Пруденцы стал резче.
– Ага, вот так, – кивнул Караваджо.
– Все в порядке, маэстро? – парню было всего двенадцать, но он игриво улыбнулся Пруденце и подмигнул: – Ciao, amore![7]7
Здесь: Привет, красотка! (итал.).
[Закрыть]
Она прыснула со смеху. «Какие же дети, они оба», – подумал Караваджо. Он взглянул на них со снисходительной улыбкой, и у него почему-то сжалось сердце. «Совсем еще дети, – с несвойственной ему сентиментальностью подумал он, – правда, жизнь у них совсем не детская».
– Что-нибудь еще, маэстро? Если больше ничего не нужно, я бы поиграл с Вороном. Вчера в таверне показывал, как он ходит на задних лапах. Все расспрашивали, как это вы его выучили.
– А ты что ответил?
– Что вы такой фокусник, который и пуделя заставит танцевать! Да что там собака, если у вас сам Господь Иисус на холсте как живой является.
– Этак ты меня на костер отправишь! Ступай лучше принеси что-нибудь на обед.
И Чекко помчался вниз по лестнице – за хлебом и сыром.
Караваджо выдавил на палитру охры, белил и немного кармина и тщательно перемешал для получения необходимого оттенка кожи Пруденцы, обмакнул в краску кисть среднего размера и плавно нанес на холст закругленную линию уха.
Девушка сидела, не двигаясь, но все же успела рассмотреть комнату за пределами яркого пятна лампы.
– Не очень-то много ты нажил, а, Микеле?
– Я же сказал: смотри вперед. Представь, что перед тобой Магдалина. С ней и говори, а не со мной.
«А ведь она права», – подумал он. Ровесники, даже не такие именитые, как он, художники, на выручку от алтарных образов понастроили себе дворцов. А Караваджо ютился в снятом месяц назад домишке, достойном лавочника, – тесная комнатушка внизу да каморка наверху. За домом был садик с колодцем, вдоль окон второго этажа тянулся по фасаду балкон в пять шагов длиной.
Всю обстановку мастерской, не считая того, что требовалось художнику для повседневной работы, составляли кровать Караваджо да лежанка Чекко. В старом сундуке хранилась ветошь для подготовки холстов и очистки кистей. Возле стены лежали принадлежащие художнику меч и кинжал, а также старинная алебарда и доспехи – реквизит для полотен на исторические сюжеты. Непотребного вида небольшой кусок холста, наброшенный на деревянную колоду, служил хозяину скатертью – купить настоящую он так и не удосужился.
– И кем же я буду на твоей картине? – спросила девушка.
Караваджо ответил не сразу. Он внимательно разглядывал холст. Справа была изображена молодая женщина с изящными округлыми плечами и нежным, но простоватым лицом. Филлида с грустью взирала на фигуру, которую в данный момент набрасывала кисть художника.
– Ты Марфа, сестра Марии Магдалины.
– А-а-а, – протянула она и тут же встрепенулась. – Чья-чья сестра?
– Магдалина была блудницей. Сестра открыла ей глаза, объяснила, что она ведет жизнь неправедную. Видишь, образ Магдалины уже готов, я писал ее с Филлиды. Мне нужно показать, что увещевания сестры наконец-то тронули ее сердце и в нем зародилось раскаяние.
– Да я такое про нее могу рассказать! И пусть знает, что я о ней думаю.
– Вот потому я и хочу, чтобы наставляла ее именно ты, – ответил художник. – Во всяком случае, на моей картине.
Караваджо придвинул мольберт ближе к зеркалу, чуть меняя фокус, что дало ему возможность более отчетливо разглядеть уложенные на затылке девушки косы. Завершив работу над этим фрагментом, он положил кисть на поднос рядом с красками.
– Можно взглянуть? – спросила девушка.
– Заходи, – он отдернул занавес.
Она рассматривала холст, склонив голову к груди художника.
– Боже ты мой, в жизни бы не поверила! Ведь это и правда я, Микеле. Даже не обидно, что ты меня нарисовал рядом с этой шлюхой.
– Думаю, получилось похоже.
– Только темновато как-то – не все лицо видно.
– О, когда закончу, тени будут еще глубже.
– Ну ничего. Я-то знаю, что это я. Ты меня изобразил в точности такой, какая я есть, – она улыбнулась. – Глаза у тебя темные, Микеле, и волосы черные, и лицо смуглое. Вот и картины такие же.
– Счастье, что я не блондин. Иначе мои полотна были бы такими же пестрыми и нелепыми, как у этого пачкуна Бальоне.
– Это кто?
– Да есть один. Забудь.
– Ты что, правда, сделаешь меня еще темнее? Но тогда меня вообще не будет видно! Останется одна Филлида.
– В тени ты будешь привлекать к себе больше внимания. Лицо Филлиды увидят сразу, а чтобы разглядеть твое, зрителю придется всматриваться, вспоминать, кто ты была такая… – он осекся. – Я хотел сказать, кто ты такая.
Пруденцу озадачила его оговорка, и она потянулась к картине, изогнув тонкую белоснежную шею, которую ласкали несколько рыжевато-каштановых прядей.
Ему очень хотелось найти слова, способные продлить ее счастье, которое, казалось, обещало быть недолгим. «Я мог бы защитить ее, – подумал Караваджо. – Но тогда я ее полюблю». Он содрогнулся от страха. Любовь – это первый шаг к разлуке. Он писал любовь мучеников к Господу. И что они получили в награду?
– Самое прекрасное в картине – твое лицо. Это сразу видно.
Она ответила игриво, не заметив, с какой серьезностью он произнес эти слова.
– Да неужели, Микеле? Вот спасибо, дружочек.
* * *
Возле мавзолея императора Августа папские приставы бичевали проститутку. Женщину привязали к спине осла, скрутив ей руки за спиной. Разорванное платье свисало до бедер, обнажив грудь. Зеваки, собравшиеся вокруг, наслаждались чужим унижением. Лена шагнула назад, в дом, чтобы пропустить толпу, спешащую к месту казни. Она выросла в Поганом садике и часто наблюдала сцены наказания, но привыкнуть к жестокости зрелища так и не смогла. Словно облако ненависти пронеслось мимо – отвратительное зловонное облако.
От очередного удара палкой по плечам шлюха содрогнулась всем телом. Лена ахнула. Осел вдруг рванулся вперед. «Наверное, кто-то ткнул его ножом», – догадалась Лена. Женщина выгнулась и бессильно поникла, уставившись перед собой пустыми глазами. С ее груди стекали нечистоты, которыми ее забрасывала толпа.
Те самые мужчины, что бежали сейчас за ослом, приставали к Лене, когда она продавала овощи на пьяцца Навона. Женщине нельзя показываться одной на улицах Поганого садика: не избежать грязных оскорблений. Лена умела отшить приставал и заставить убраться прочь. Она хорошо знала, что даже в этих кратких стычках мужчины никогда не забывают о том, что они именуют честью. Важным для них всегда оставалось то, как они выглядят в глазах окружающих и насколько прочна их власть над женщинами.
Еще один нож вонзился ослу в спину, и он галопом поскакал с площади, волоча на спине беспомощно распластанную женщину. Толпа устремилась вслед за ними к водяным мельницам Тибра.
Через Поганый садик Лена направилась к дому матери. Она родилась в этом городе, тогда как почти все девушки, торгующие своим телом, приехали сюда издалека. Одни из Сиены – чума, опустошившая город век назад, до сих пор вынуждала молодых искать лучшей доли вдали от родного дома. Другие – из бедных земель Южной Италии или Греции. Все они подавались в Рим, мечтая о богатой жизни в Вечном городе. Лена с детства знала, что мечты эти пустые. Девочкой, играя на улице, она часто наблюдала, как бьют и унижают проституток. Ей случалось видеть, как под мостами проплывают, качаясь на волнах вместе с городскими отбросами, их трупы. В их хриплом смехе Лена слышала отчаяние и страх – даже когда была слишком мала, чтобы понимать, чем именно они зарабатывают себе на хлеб.
Теперь ей двадцать три. Не живи она в Риме, давно бы уже вышла замуж. Но в Поганом садике жизнь текла по своим особым законам. Отпрыск богатых родителей совратил ее, когда ей не исполнилось и двадцати. Он и не думал поступать с ней по чести: ведь она была из того-самого-садика, рассадника порока, где – по мнению тех, кто жил в других кварталах Рима, – обитают только шлюхи да висельники. Это место вполне годилось для опасных авантюр – но не для брака!
Позднее Лена пыталась предостеречь свою сестру Амабилию, но ее тоже обольстил какой-то господин. Амабилия умерла родами. Из всех проявлений человеческой природы только смерть была в Поганом садике доступна каждому.
Потеряв сестру, Лена взяла на воспитание ее осиротевшего ребенка. Доменико стал для нее светом в окошке, единственной отрадой в мире, полном ненависти, скорби и смерти. Она вздохнула, ожидая просвета между проезжающими по Корсо каретами, чтобы перейти улицу. В последнее время Лена все глубже уходила в себя. Безжалостное уродство мира давило на нее со всех сторон, лишая сил. Бывало, когда она натирала полы во дворце дель Монте, из ее глаз сами собой лились слезы – от странной, невыразимой печали. Иногда она глядела на спящего Доменико – и тоже начинала плакать, а в иные дни не могла заставить себя подняться с постели, как ни бранила ее мать за безделье.
Она быстро перебежала через Корсо и зашагала к виа деи Гречи, вспоминая о художнике, который заговорил с ней во дворце. Сначала он подкатил к ней, словно неотесанный повеса из Поганого садика, – хотя в ее душе уже тогда зародилось сомнение: а таков ли его истинный нрав? Она беззлобно отшутилась, потому что дерзость могла стоить ей места. Но когда он появился перед дверью ее дома почти одновременно с двумя нищими стариками, она почему-то не посмела посмотреть ему в глаза. В его повадке не было ничего от горделивой спеси дворянина, и ей страстно захотелось узнать о нем больше.
Выходя из дома, она случайно коснулась рукой потрескавшегося дверного косяка. «Он тоже заметил эту щербинку в камне и явно обрадовался. Почему?» Она устремила взгляд на то место, где стоял недавний гость. Маэстро Караваджо – так назвал его во дворце лакей. А как по имени?
* * *
Просперо, одетый в папское облачение, развалился в красном бархатном кресле. Караваджо поправил складки багряной накидки и подол украшенной кружевами белой рубахи-рокетты. Отойдя к мольберту, он проверил отражение в зеркале. За первый сеанс он наметил позу и поработал над лицом Его Святейшества – уловил среди прочего старательно скрываемую враждебность и презрительный алчный взгляд. Теперь он больше не нуждался в присутствии вечно занятого понтифика.
– Держись так, как будто вот-вот встанешь, – велел он Просперо. – Обопрись руками на ручки кресла. У тебя нет ни минуты свободной. Ни для кого.
Просперо вытянул шею, словно заглядывая Караваджо за спину, и что-то пробормотал.
– Вот, вот! – воскликнул Караваджо. – Вот это настоящее напряжение – а не то, что исходит от нашего святейшего клиента.
– Еще бы, – прошептал Просперо, едва шевеля губами. – Я натянут, как тетива турецкого лука.
– Не хнычь! За то, что ты позируешь в облачении Его Святейшества, тебя вполне могут удостоить сана архиепископа. Ты ведь всем взял: и натура воровская, и рожа отвратная. Может статься, и к мальчикам из церковного хора пристрастишься.
Караваджо снова взялся за работу: склонившись к холсту, начал переносить на него проекцию с зеркала. В памяти вдруг всплыло лицо Лены, смотревшей на него, когда он вместе с нищими уходил от ее дома, – и он тихо улыбнулся за своей занавеской.
– Сан архиепископа дает и другие преимущества.
– Кто бы говорил, твое наглейшество. А теперь заткнись.
Караваджо сделал еще несколько мазков – и только тогда понял, что последнюю фразу произнес не Просперо. Он поправил зеркало и увидел, что его натурщик корчит гримасы, выразительно косясь на дверь.
Караваджо выступил из-за занавеса. В нескольких шагах от него, сжав подбородок указательным и большим пальцами, стоял кардинал Шипионе. Он подался вперед, разглядывая портрет дяди. Глаза его довольно поблескивали.
– Вы прекрасно передали его осмотрительность, маэстро Караваджо.
«Это мне бы осмотрительность не помешала: он ведь все время был здесь!» – Караваджо показалось, что святой отец сурово судит каждый его мазок – так проницателен был взгляд его глаз цвета умбры. Художник преклонил колено и поцеловал Шипионе руку.
– Ваше высокопреосвященство – пробормотал он. – Прошу прощения. Я думал.
Шипионе прищелкнул языком:
– Не перебивайте. Его губы, – продолжал он, – поджаты, как будто он едва сдерживает раздражение. Так и кажется, что с них вот-вот сорвется уничтожающая тирада.
– Ваше высокопреосвященство прикажет мне просить у Его Святейшества еще один сеанс? Чтобы изменить выражение лица?
– Всю свою жизнь, все двадцать шесть лет, я пытался понять, что написано у него на лице. А вы поняли это всего за несколько часов.
– Я не утверждаю, что понимаю это выражение. Я просто подсмотрел его.
– А вам, синьор, папское облачение весьма к лицу, – Шипионе разгладил усы большим пальцем.
Просперо вскочил и семенящей походкой, шурша подолом, поспешил к кардиналу и, склонив голову, опустился на одно колено. Шипионе возложил ладонь на папскую митру и облизнул губы. От Караваджо не ускользнуло, что вид коленопреклоненного папы его забавляет.
Затем кардинал-племянник махнул рукой в сторону оттоманки, и Караваджо придвинул ее гостю.
– Продолжайте, – Шипионе откинулся на спинку.
Караваджо почувствовал, что в комнате как будто сгустился воздух. Просперо это тоже заметил. На лице его застыло сдержанное напряжение.
– Я только что из дворца Колонна, – объявил Шипионе. – Вас в этой семье любят.
– Маркиза Караваджо принадлежит к этому семейству, ваше высокопреосвященство. Мой дед состоял у нее на службе. В мои юные годы маркиза проявила ко мне необычайное милосердие. Я навсегда у нее в долгу.
– Сейчас она в Риме.
– Неужели?!
Караваджо почувствовал, как щеки коснулся холодок. О, сколько воспоминаний всколыхнуло в нем имя маркизы! Но давать волю чувствам не следовало – это могло бы испортить работу. Он глубоко вздохнул и продолжил свой труд. Волоски кисти ритмично касались холста: художник работал над оттенками алой накидки на папской груди.
– Когда я вошел, вы, маэстро, были за занавесью, а теперь отдернули ее, – Шипионе говорил спокойно и уверенно.
– В деталях я предпочитаю полагаться только на свой глаз, ваше высокопреосвященство.
– Стало быть, за занавесью у вас – камера-обскура?
– Я пользуюсь занавеской и вогнутым зеркалом, а иногда еще линзой, прикрепленной к дыре в занавеси. Только и всего, ваше высокопреосвященство. Одни называют ее камерой-обскурой, другие – безделицей, какую можно встретить в спальне любой дамы.
– Стало быть, люди придают этому слишком большое значение?
– Это всего лишь помощь глазу.
И вновь тишина, прерываемая только шорохом кисти.
В галерее этого дворца, – сказал Шипионе, – предыдущие папы на портретах выглядят как боги. Может быть, они и обладали властью богов, но не их бессмертием. В идеале мы должны были бы понять по их лицам, какую именно жизнь они вели. Однако художники всегда делают из папы святого. Что ж, наверное, некоторые из них и были святыми – но уж точно не все.
Произнося слово «святой», Шипионе прикрыл глаза; по телу его пробежала дрожь. «Как будто нашептывает любовнице возбуждающие непристойности», – подумал Караваджо. Он окунул кисть в светло-розовую краску, чтобы подчеркнуть блики на накидке. Просперо подмигнул ему.
– Будет очень хорошо, если портрет моего дяди положит начало иному взгляду на папу, – Шипионе растопырил пальцы и осмотрел свои ногти. – Мы, Боргезе, не похожи на древние римские семьи, представители которых обычно занимают трон святого Петра. Возьмем, к примеру, семейство Колонна. Они ведут род от Юлия Цезаря, который, как известно, происходит от самой богини Венеры. А вот Его Святейшество, мой дядя, – сын писаря из Сиены. Разве это делает его менее достойным святости сана?
– Боже упаси.
– Или связанной с ним власти? – Шипионе понизил голос. Он встал, прошел к двери и от самого порога обернулся. – Маэстро Рафаэль написал бы лицо, а облачение поручил бы кому-нибудь из учеников.
– Разумеется, ваше высокопреосвященство.
– На Рафаэля смотрят как на божество – непогрешимое и совершенное.
– Да, это так.
– Но вы не бог. Вы художник и потому всю работу делаете сами.
– Драпировка или ваза с фруктами требуют не меньше мастерства, чем лицо, ваше высокопреосвященство.
– Теперь понятно, почему я выбрал именно вас, чтобы написать портрет сына сиенского писаря? – кардинал-племянник не стал ждать ответа и тенью выскользнул в коридор.
Дверь за ним закрылась. Караваджо уронил палитру на стол с красками. Конечно, приятно было услышать от Шипионе, что тот выбрал его не случайно. «Но еще ни от одной похвалы я не чувствовал себя настолько оплеванным. Трясусь, как девушка, которая знает, что комплименты ее фигуре – лишь прелюдия к изнасилованию».
– Можешь разоблачаться, дорогое святейшество, – сказал он Просперо. – Что-то не работается мне больше.
Просперо снял пурпурную шапку и стянул с шеи распятие.
– Сильные мира сего всегда наводят на меня страх, – он указал на дверь, через которую только что вышел Шипионе. – Но в этом типе есть что-то особенно пугающее.
– Он только что признался, что не святой. А ты ведь знаешь, как ведут себя люди, когда забывают о святости в своей душе.
– Да, знаю. Кстати, сегодня вечером – борьба. Там со святыми беда, зато повеселимся на славу. Я как раз не прочь поглядеть на драку.
– Где это?
– На площади перед палаццо Колонна.
Колонна. Караваджо вздрогнул, словно вдруг вспомнив давно забытый сон. Он схватил папское распятие и приложился к нему губами.
– А пошли. Уж сегодня-то я точно поставлю на победителя.
* * *
Костанца Колонна, прикусив нижнюю губу, теребила красный кружевной манжет своего черного платья. Затаив дыхание, она переступила порог зала. Нечто подобное она испытывала при каждом возвращении в Рим – туда, где выросла, в дворцовый уют родного дома. Семейство Колонна вело свой род от Энея – героя Троянской войны, потомки которого основали Вечный город, – и все еще сохраняло здесь могущество; они щеголяли в куньих мехах и пили из отделанных драгоценными камнями кубков. В других местах – в Милане, Флоренции или Неаполе – Костанца привыкла пользоваться всеобщим уважением. Пятидесятипятилетняя вдова Сфорца, мать шестерых благородных сыновей, наследница значительного состояния и вдобавок маркиза города Караваджо. Но под ледяными взглядами родни она снова превращалась в тринадцатилетнюю девочку, которая в смятении металась по коридорам дворца, узнав, что отец решил выдать ее замуж за угрюмого юношу из далекой провинции.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?