Текст книги "Шутка"
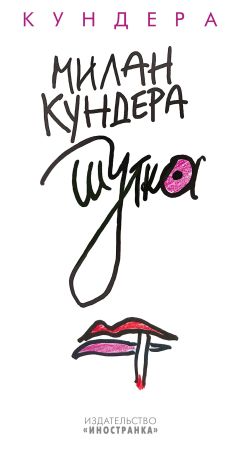
Автор книги: Милан Кундера
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Когда играет музыка, мы слышим мелодию, забывая, что это лишь одна из форм времени; когда оркестр умолкает, мы слышим время; время само по себе. Я жил в паузе. Разумеется, никоим образом не в оркестровой генеральной паузе (ее размер точно определен знаком тире), а в паузе без установленного срока. Мы не могли (как это делалось в других частях) отрезать деленьица портняжного сантиметра, чтобы видеть, как день за днем сокращается наша двухлетняя действительная служба: «черных» могли держать в армии сколько заблагорассудится. Сорокалетний Амброз из второй роты был здесь уже четвертый год.
Служить в те времена в армии, оставив дома жену или невесту, было мукой мученической, это значило – в мыслях неусыпно быть на бесполезной страже их неустерегаемого существования, неусыпно охранять их роковую неустойчивость. И еще – вечно надеяться на их возможный приезд и вечно дрожать, как бы командир не отменил назначенной на этот день увольнительной и жена не приехала бы к воротам казармы впустую. Среди «черных» (с черным же юмором) ходили слухи, что офицеры поджидают истосковавшихся по ласке солдатских жен, подваливают к ним и так собирают плоды жажды, которые по праву положены задержанным в казарме солдатам.
И все-таки: у тех, у кого дома осталась женщина, даже сквозь паузу тянулась нить, возможно, тонкая, возможно, томительно тонкая и оборванная нить, но все-таки нить. У меня не было и такой; с Маркетой я прекратил всякое общение, если и приходили ко мне еще какие-то письма, так только от мамы… Ну и что? Разве это не нить?
Нет, это не нить; дом, поскольку это лишь родительский дом, еще не нить, это всего лишь прошлое: письма, которые пишут родители, это послания с материка, от которого ты удаляешься; да, такое письмо разве что напоминает тебе, заблудшему, о гавани, из которой ты выплыл в условиях столь честно, столь жертвенно созданных; да, говорит такое письмо, гавань все еще есть на этом свете, она все еще существует, безопасная и прекрасная в своей давнишности, но дорога, дорога к ней потеряна!
И я, стало быть, исподволь привык к тому, что жизнь моя утратила свою непрерывность, что жизнь выпала у меня из рук и мне не суждено ничего другого, как начать наконец внутренне существовать там, где я реально и непреложно был. Так мое зрение постепенно приспосабливалось к сумраку овеществления, и я начинал воспринимать людей вокруг себя, позднее, правда, чем другие, но, к счастью, еще не настолько поздно, чтобы успеть безнадежно отстраниться от них.
Из этого сумрака прежде всего выплыл (так же, как выплывает он первым из сумрака моей памяти) Гонза, уроженец Брно (он говорил на почти невразумительном пригородном жаргоне), попавший к «черным» из-за того, что избил кагэбэшника, своего бывшего одноклассника. Избил потому, что поругался с ним, но суд не внял Гонзиным объяснениям; полгода он отсидел за решеткой и прямо оттуда прибыл к нам. Гонза был профессиональным монтажником, и ему, очевидно, было без разницы, будет ли он работать где-то монтажником или кем-то еще; он ни к чему не испытывал тяги и проявлял к будущему полное равнодушие, которое было источником его вызывающей и беззаботной вольности.
Редкостным ощущением свободы с Гонзой сравниться мог разве что Бедржих, самый большой чудик нашей двадцатикоечной комнаты, попавший к нам два месяца спустя после регулярных сентябрьских призывов; поначалу он был определен в пехотную часть, но там упрямо отказывался взять в руки оружие, ибо это противоречило его особо строгим религиозным принципам; когда перехватили его письма, адресованные Трумэну и Сталину, в которых он патетически призывал обоих правителей распустить во благо социалистического единства все армии, в части совсем растерялись; сперва ему позволили даже участвовать в строевой подготовке – среди всех воинов он единственный был без оружия, но команды «оружие на плечо» и «оружие к ноге» выполнял безукоризненно, хотя и с пустыми руками. Прослушав первые политические лекции, он принял горячее участие в дискуссии и вовсю громил империалистов – поджигателей войны. Но когда на свой страх и риск сделал и вывесил в казарме плакат, в котором призывал сложить любое оружие, военный прокурор обвинил его в мятеже. Уважаемый суд был настолько сбит с толку его миролюбивыми речами, что вынес решение подвергнуть его психиатрическому обследованию и после долгого колебания снял с него обвинение в мятеже и направил к нам. Бедржих торжествовал; удивительное дело: он был единственным, кто сам добился черных петлиц, и был счастлив, что носит их. Здесь он чувствовал себя свободным – хотя его свободность проявлялась не в дерзости, как у Гонзы, а напротив – в спокойной дисциплинированности и трудолюбии.
Все остальные солдатики в гораздо большей степени были подвластны опасениям и тоске: тридцатилетний венгр Варга из южной Словакии – далекий от национальных предрассудков, он воевал во время войны в нескольких армиях и прошел через несколько пленов по обеим линиям фронта; рыжий Петрань – его брат – удрал за границу, убив при этом солдата пограничной службы; простак Йозеф, сын богатого крестьянина из лабской деревни (слишком привыкший к голубым просторам, где шныряют жаворонки, он испытывал удушливый ужас от адского подземелья шахт и штолен); двадцатилетний Станя, взбалмошный щеголь с пражского Жижкова, на которого местный национальный комитет дал убийственную характеристику – надравшись на первомайской демонстрации, он якобы нарочно мочился у края тротуара на глазах у ликующих граждан; Павел Пекны, студент юридического факультета, который в февральские дни с кучкой сокурсников принял участие в антикоммунистической демонстрации (в скором времени он понял, что я принадлежал к лагерю тех, кто после Февраля выкинул его с факультета, и был единственным, не скрывавшим своего злорадного удовлетворения, что я теперь загремел туда же, куда и он).
Я мог бы перебрать в памяти и других солдат, что разделили со мной тогдашнюю участь, но хочется держаться самого существенного: больше всех я любил Гонзу. Вспоминаю один из наших первых разговоров; случилось это во время торопливой перекуски в штольне, когда мы оказались рядом и Гонза, хлопнув меня по колену, сказал: «Ну, глухонемой, ты что, собственно, за птица?» И я, будучи тогда и вправду глухонемым (обращенным в свои вечные мысленные самооправдания), с трудом попытался ему объяснить (искусственность и неуместность тех слов я сам тотчас с неприязнью почувствовал), как я сюда попал и почему, по сути дела, не имею ко всему этому никакого отношения. Он сказал мне: «Дурья башка, а мы, по-твоему, имеем отношение?» Я хотел было снова объяснить ему свой взгляд на вещи (подыскивая более естественные слова), но Гонза, проглотив последний кусок, сказал медленно: «Будь ты таким же длинным, как и дурным, так солнце прожгло бы тебе черепушку». В этой фразе весело ухмылялся плебейский дух пригорода, и я неожиданно устыдился того, что не устаю избалованно добиваться утраченных привилегий, тогда как свои убеждения я строил именно на отвращении к привилегиям и к избалованности.
Со временем я очень подружился с Гонзой (он уважал меня за то, что я быстро решал в уме всякие арифметические головоломки, связанные с нашей зарплатой, и несколько раз не позволил нас облапошить); однажды он высмеял меня, что я как дурак провожу увольнительные в казарме, и вытащил меня прошвырнуться с ребятами по городу. Эту прогулку я хорошо помню; нас было тогда человек восемь, в том числе Станя, Варга и еще Ченек, недоучившийся студент-прикладник из второго взвода (он потому попал к «черным», что в училище упрямо рисовал кубистские картины; а сейчас ради той или иной выгоды во всех воинских помещениях крупным планом изображал углем гуситских воинов с булавами и цепами). Мы не располагали слишком большим выбором, куда идти: центральные районы Остравы были для нас запрещены, доступны были лишь некоторые ближние кварталы, а в них – лишь некоторые кабачки. Мы дошли до соседнего предместья и несказанно обрадовались: в бывшем спортивном зале, куда нам не возбранялось входить, была танцулька. Мы заплатили какие-то гроши за вход и ввалились внутрь. В просторном помещении было много столов и стульев, людей поменьше: с десяток девушек, мужчин примерно тридцать; половина их – солдаты из местной артиллерийской казармы; стоило им увидеть нас, как они тотчас набычились, и мы всей своей шкурой почувствовали, что они оценивают нас и пересчитывают. Мы разместились за длинным пустым столом, заказали бутылку водки, но страшненькая официантка строго объявила нам, что алкоголь в розлив подавать запрещено; тогда Гонза, заказав восемь стаканов лимонаду, взял у каждого по банкноте и уже минуту спустя вернулся с тремя бутылками рома, который затем мы под столом доливали в лимонад. Делали это тайком – знали, что артиллеристы не спускают с нас глаз и только ждут, как бы поймать нас на незаконном распитии алкоголя. Воинские части, надо сказать, испытывали к нам глубокую неприязнь: с одной стороны, они видели в нас некий подозрительный сброд – убийц, преступников и врагов, готовых (в плане тогдашней шпионской литературы) совершить в любое время предумышленное убийство их миролюбивых семейств, с другой (и это было, по-видимому, важнее) – завидовали нам, поскольку у нас водились деньги и мы могли пользоваться всякими благами несравнимо больше, чем они.
В этом-то и была особенность нашего положения: мы не знали ничего, кроме усталости и надсады, каждые две недели нам брили черепушку, чтобы волосы не внушали не положенной нашему брату уверенности в себе, мы были изгоями, не ожидавшими от жизни уже ничего хорошего, но у нас были деньги. Пусть и негусто, но для солдата с его двумя увольнительными в месяц это было такое состояние, что он мог в те немногие часы свободы (в тех немногих дозволенных заведениях) вести себя как крез и тем вознаграждать себя за хроническое бессилие прочих долгих дней.
Пока на эстраде плохонький духовой оркестр играл поочередно то польку, то вальс и в центре зала кружились две-три пары, мы спокойно оглядывали девушек и пили лимонад, чей спиртной привкус уже сейчас возвышал нас над всеми, сидевшими в зале; мы были в отличном настроении; я чувствовал, как в голову вступает пьянящее ощущение веселого дружелюбия, ощущение компанейства, какого я не испытывал с тех пор, как в последний раз играл с Ярославом в капелле с цимбалами. А Гонза меж тем разработал план, как из-под носа у артиллеристов увести побольше девушек. План был прекрасен по своей простоте, и мы тут же приступили к его осуществлению. Энергичнее всех взялся за дело Ченек; задавака и комедиант, он исполнял свою роль, к нашему великому удовольствию, самым блистательным образом: пригласив танцевать густо накрашенную черноволосую девицу, подвел ее к нашему столу; велел налить им обоим ромового лимонада и бросил ей со значением: «Ну что ж, по рукам!»; черноволосая одобрительно кивнула и чокнулась. В эту минуту к ним уже подваливал паренек в артиллерийской форме с двумя сержантскими звездочками в петлицах; он остановился возле черноволосой и сказал Ченеку самым что ни на есть грубым тоном: «Позволишь?» «Само собой, давай, приятель, повоюй», – ответил Ченек. Пока черноволосая подпрыгивала в идиотском ритме польки с пылким сержантом, Гонза уже вызвал по телефону такси; минут через десять подкатило такси, и Ченек встал у выхода из зала; черноволосая дотанцевала польку, извинилась перед сержантом, сказав, что идет в уборную, а уже минутой позже послышалось, как машина отъезжает.
После Ченека добился успеха старик Амброз из второй роты – нашел какую-то потрепанную девицу (правда, ее жалкий вид ничуть не мешал артиллеристам крутиться вокруг нее); через десять минут подъехало такси, и Амброз с девицей и с Варгой (утверждавшим, что с ним никакая девушка никуда не поедет) отбыл в условленный трактир на другом конце Остравы, где поджидал Ченек. И еще нашим двоим удалось увезти одну девицу; в зале нас осталось трое: Станя, Гонза и я. Артиллеристы кидали на нас все более злобные взгляды: они начинали постигать связь между нашей поубавившейся численностью и исчезновением трех женщин из их охотничьего угодья. Мы старались прикинуться невинными агнцами, но чувствовали, что в воздухе пахнет дракой. «Остается лишь последнее такси для нашего достойного отъезда», – сказал я и с грустью уставился на блондинку, с которой мне в самом начале посчастливилось станцевать разок, но тогда я не нашел в себе смелости предложить ей уехать отсюда со мной; надеялся, что сделаю это при следующем танце, но артиллеристы уже так караулили ее, что я больше не рискнул к ней приблизиться. «Ничего не попишешь», – сказал Гонза и поднялся, чтобы пойти позвонить. Но по мере того, как он проходил по залу, артиллеристы поднимались из-за своих столиков и обступали его. Драка висела в воздухе, готовая вот-вот вспыхнуть, и мне со Станей не оставалось ничего, как двинуть на защиту товарища. Кучка артиллеристов окружала Гонзу молча, но вдруг среди них объявился пьяный вдрызг прапорщик (должно быть, у него тоже была бутылка под столом) и оборвал зловещее молчание: его отец, затянул он, в буржуазную республику был безработным, а теперь, мол, зло разбирает смотреть, как тут выставляются буржуи с черными петлицами и так нервы треплют, что он того и гляди смажет по морде такому-сякому-эдакому (то бишь Гонзе). Гонза молчал, но, когда прапорщик на минуту заткнулся, вежливо спросил, чего приятели-артиллеристы изволят от него. Чтобы вы отсюда уматывали подобру-поздорову, сказали артиллеристы, и Гонза ответил, что именно это мы и намерены сделать, но при условии, если они разрешат ему вызвать такси. В эту минуту, казалось, прапорщика кондрашка хватит: туда твою мать, орал он благим матом, так-перетак, мы вкалываем, носу из казармы не кажем, с нас по три шкуры дерут, за душой ни шиша, а эти тут, капиталисты сраные, диверсанты, говнюки хреновые, на такси разъезжать будут, нет уж, да хоть вот этими самыми руками их удавлю, на такси они отсюда не выедут!
Все были захвачены перебранкой; вокруг ребят в форме сгрудились гражданские и обслуга, боявшаяся скандала. И в эту минуту я узрел свою блондинку; оставшись у стола (безучастная к стычке), она встала и пошла в туалет; я неприметно отделился от толпы, прошмыгнул в прихожую, где был гардероб и туалеты (кроме гардеробщицы, там никого не было), и окликнул ее; нырнув с головой в сложившуюся ситуацию, точно пловец в воду, я плюнул на всякий стыд и приступил к делу; запустил руку в карман, вытащил несколько жеваных сотен и сказал: «Не хотите ли прокатиться с нами? Повеселей проведем время, чем здесь!» Блондинка вылупилась на сотенные, пожала плечами. Я сказал, что подожду ее на улице. Она кивнула, скрылась в туалете, а через минуту вышла уже в пальто; улыбаясь, объявила, что сразу видно – я из другого теста, чем остальные. Я охотно принял комплимент, взял ее под руку и повел на противоположную сторону улицы, за угол, откуда мы стали следить, когда у входа в спортзал (освещенный единственным фонарем) появятся Гонза и Станя Блондинка спросила, студент ли я, и, получив подтверждение, поделилась со мной, что вчера в раздевалке на фабрике у нее сперли деньги, причем не ее, а казенные, и что она просто с ума сходит – не ровен час, под суд отдадут; спросила, не могу ли я подкинуть какую сотнягу; я вытащил из кармана две смятые сотенные купюры и дал ей.
Ждали мы недолго – оба приятеля вышли в пилотках и шинелях. Я свистнул им, но в эту минуту из трактира пулей вылетели три других солдата без шинелей и без пилоток и кинулись к ним. Слышал я угрожающую интонацию вопросов, но слов не различал, хотя об их смысле догадывался: они искали мою блондинку. Один из них подскочил к Гонзе, и завязалась драка. Я бросился на подмогу. На Стане повис один артиллерист, на Гонзе – двое; они уж было сбили его с ног, но, к счастью, я подбежал вовремя и кулаками стал дубасить одного. Артиллеристы, надо думать, рассчитывали на численный перевес, но с той минуты, как силы наши сравнялись, они ослабили свой первоначальный натиск; когда под Станиным ударом его артиллерист рухнул наземь и застонал, мы, воспользовавшись смятением в их рядах, быстро покинули поле боя.
Блондинка послушно ждала нас за углом. Увидев ее, приятели впали в дикий восторг, кричали, что я «молоток», лезли обнимать меня, и я впервые после столь долгого времени был искренне весел и счастлив. Гонза вытащил из-под плаща полную бутылку рома (непонятно, как ему удалось сохранить ее во время потасовки) и потряс ею в воздухе. Настроение у нас было отличное, одно плохо – идти было некуда: из одного кабака нас вытурили, в другие нам не было хода, в такси взбеленившиеся соперники нам отказали, а на улице наше существование было под угрозой карательной акции, которая еще вполне могла обрушиться на нас. Мы быстро пустились наутек по узкой улочке, недолго шли между домами, затем с одной стороны путь нам преградила стена, с другой – заборы; у забора обрисовывались драбы, рядом с ними какая-то уборочная машина с металлическим сиденьем. «Трон», – сказал я, и Гонза подсадил блондинку на этот высокий, примерно в метре от земли, стул. Бутылку мы пустили по кругу, пили все четверо, блондинка вскоре развязала язык и пошла с Гонзой на пари: «А сотню не пожалеешь?» Гон-за был джентльмен, сунул ей сотню – и у девушки тут же было поднято пальто, задрана юбка, а в следующую минуту она сама сняла трусики. Она взяла меня за руку, притянула к себе, но я так нервничал, что вывернулся и подтолкнул к ней Станю, который без малейшего колебания втиснулся меж ее ног. Вместе они пробыли едва ли секунд двадцать; затем я хотел уступить очередь Гонзе (с одной стороны, я старался вести себя как великодушный хозяин, с другой – все еще волновался), но на сей раз блондинка была решительнее, рванула меня к себе, и, когда после подбодряющих прикосновений я смог наконец сблизиться с ней, нежно зашептала мне в ухо: «Я здесь ради тебя, дурачок» – и так завздыхала, что у меня и вправду возникло впечатление, будто со мной нежная, любящая девушка, которую я тоже люблю, а она все вздыхала и вздыхала, и я не отрывался от нее до тех пор, пока вдруг не услышал голос Гонзы, отпустившего какую-то грубость, и не осознал, что это вовсе не девушка, которую люблю; я отпрянул от нее, оборвав нашу близость так внезапно и преждевременно, что блондинка даже испугалась и сказала: «Ты что психуешь?» – но к ней уже прижимался Гонза, и громкие вздохи продолжались.
Вернулись мы тогда в казарму совсем поздно, ко второму часу ночи. А уже в полпятого надо было вставать на воскресную добровольную смену, за которую командир получал премию, а мы зарабатывали наши увольнительные на каждую вторую субботу. Невыспавшиеся, все еще одурманенные винными парами, мы двигались в полутьме штольни точно призраки, но я с удовольствием вспоминал прожитый вечер. Хуже получилось две недели спустя; из-за какой-то передряги Гонзу лишили отпусков, и я отправился в город с двумя парнями из другого взвода, с которыми знаком был весьма отдаленно. Мы шли почти наверняка к одной женщине, прозванной из-за ее непомерной длины Канделябр. Уродина она была каких мало, да ничего не поделаешь – круг женщин, доступных нам, был чрезвычайно ограничен, прежде всего нашими небольшими временными возможностями. Необходимость любой ценой использовать свободу (столь крохотную и столь редко обретаемую) приводила солдат к тому, что они отдавали предпочтение «определенному» перед «терпимым». С течением времени путем взаимодоверительных изысканий была установлена целая сеть (пусть хилая) таких более или менее определенных (и, конечно же, едва терпимых) женщин и предоставлена во всеобщее пользование.
Канделябр была из этой всеобщей сети; но меня это ничуть не смущало. Когда оба парня прохаживались насчет ее непомерной длины и без конца повторяли хохму, что неплохо было бы найти кирпич и подставить его под ноги, как дело дойдет до главного, эти шуточки (грубоватые и плоские) некоторым образом щекотали меня и поддерживали мою бешеную тягу к женщине; к любой женщине; чем меньше в ней было индивидуального, одушевленного – тем лучше; тем лучше, если это будет какая угодно женщина.
Но хоть я и выпил изрядно, моя бешеная тяга к женщине тотчас угасла, как только я увидел девицу по прозвищу Канделябр. Все показалось безвкусным и ненужным, а так как там не было ни Гонзы, ни Стани, никого близкого мне, на следующий день настало ужасающее похмелье, оно, точно яд, разрушило даже приятное воспоминание от эпизода двухнедельной давности, и я поклялся себе никогда больше не возжелать ни девушки на сиденье уборочной машины, ни пьяную Канделябр…
Заговорил ли во мне некий нравственный принцип? Вздор; это было просто отвращение. Но почему отвращение, если еще несколькими часами раньше мной владела неистовая тяга к женщине, причем злобная неистовость моей тяги коренилась именно в том, что программно мне было все равно, кто будет эта женщина? Возможно, я был более чуток, чем другие, и мне опротивели проститутки? Вздор: меня пронзила печаль.
Печаль от ясновидческого осознания, что все случившееся было не чем-то исключительным, избранным мной из пресыщения, из прихоти, из суетливого желания изведать и пережить все (возвышенное и скотское), а основной, характерной и обычной ситуацией моей тогдашней жизни. Что ею был четко ограничен круг моих возможностей, что ею был четко обозначен горизонт моей любовной жизни, какая отныне отводилась мне, что эта ситуация была выражением не моей свободы (как можно было бы воспринять ее, случись она хотя бы на год раньше), а моей обусловленности, моего ограничения, моего осуждения. И меня охватил страх. Страх перед этим жалким горизонтом, страх перед моей судьбой. Я чувствовал, как моя душа замыкается в самой себе, как отступает перед окружающим, и одновременно ужасался тому, что отступать ей некуда.
7
Эту печаль, порожденную ощущением жалкого любовного горизонта, знали (или, по крайней мере, неосознанно чувствовали) почти все мы. Бедржих (автор мирных воззваний) защищался от нее раздумчивым погружением в глубины своего нутра, в котором, вероятно, обитал его мистический Бог; в эротической сфере этой религиозной духовности отвечало рукоблудие, которым он занимался с ритуальной систематичностью. Остальные защищались гораздо большим самообманом: разбавляли циничные похождения за девками самым что ни на есть сентиментальным романтизмом; у кого-то осталась дома любовь, которую он здесь сосредоточенными воспоминаниями отполировывал до ярчайшего блеска; кто-то верил в длительную Верность и в преданное Ожидание; кто-то втихомолку убеждал себя, что подгулявшая девица, которую он подцепил в кабаке, прониклась к нему святыми чувствами. К Стане дважды приезжала пражская девушка, с которой он погуливал еще до армии (но которую не считал своей судьбой), и он, растрогавшись вдруг до слез, решил (под стать своему взбалмошному нраву) немедля на ней жениться. Хоть он и говорил, что устраивает свадьбу лишь ради того, чтобы выиграть два выходных, но я-то знал, что это не более чем деланно-циничная отговорка. Это событие выпало на первые дни марта, когда командир действительно предоставил ему два выходных, и Станя на субботу и воскресенье отбыл в Прагу жениться. Помню это совершенно отчетливо, ибо день Станиной свадьбы стал и для меня днем весьма знаменательным.
Мне была разрешена увольнительная, а так как последняя, проведенная с Канделябром, оставила по себе тяжкие воспоминания, я постарался увильнуть от товарищей и пошел один. Сел я на старый трамвай, ходивший по узкой колее и соединявший отдаленные районы Остравы, и положился на его волю. Потом наугад вышел из трамвайчика и наугад же снова сел в трамвай другой линии; вся эта бесконечная остравская окраина, где в невероятно диковинном конгломерате смешиваются заводские строения с природой, поле со свалкой, рощицы с отвалами, многоэтажки с деревенскими халупами, необычным образом привлекала меня и волновала; я снова вышел из трамвая и отправился пешком в долгую прогулку; я чуть ли не со страстью впитывал этот странный край и пытался добраться до его сути; я старался обозначить словами то, что дает этому краю, составленному из столь разнородных частей, единство и порядок; я проходил мимо идиллического деревенского домика, увитого плющом, и мне пришла мысль, что он уместен здесь именно потому, что совершенно не сочетается ни с обшарпанными многоэтажками, стоявшими вблизи, ни с силуэтами надшахтных копров, труб и печей, создававших его фон; я шел мимо низких временных бараков, которые и сами-то были как бы слободой в слободе, а невдалеке от них стояла вилла, хоть грязная и серая, но окруженная садом и железной изгородью; в углу сада росла большая плакучая ива, что смотрелась на этой земле каким-то залетным гостем – и, возможно, именно потому, говорил я себе, была здесь уместна. Я был растревожен всеми этими мелкими знаками непринадлежности, ибо видел в них не только общий знаменатель края, но прежде всего – образ своей собственной судьбы, своего собственного изгнанничества в этом городе; и, надо признаться, это проецирование моего частного случая на объективность всего города рождало во мне некое смирение; я понимал, что не принадлежу этому краю, так же, как не принадлежат ему плакучая ива и домик, увитый плющом, так же, как не принадлежат ему короткие узкие улицы, ведущие в пустоту и в никуда, улицы, составленные из домиков, пришедших сюда словно из иного мира, я был здесь чужд всему, так же, как были чужды этому краю – краю некогда утешительно сельскому – уродливые кварталы низких временных бараков, и я осознавал, что именно потому, что не принадлежу краю, я должен быть здесь, в этом ужасном городе непринадлежности, в городе, который объял своими неоглядными объятиями все, что ему чуждо.
Немного спустя я оказался на длинной улице Петржковиц, бывшей улице деревни, составлявшей теперь единое целое с ближними остравскими окраинами. Остановился у большого двухэтажного дома, на углу которого по вертикали была прикреплена вывеска: КИНО. Меня поразил вопрос, казалось бы, совершенно несущественный, какой только может прийти в голову глазеющему прохожему: выходит, слово КИНО бывает и без названия кинотеатра? Я огляделся, на доме (что, кстати, ничем на кинотеатр не походил) никакой другой вывески не было. Между этим домом и соседним был примерно двухметровый проход – нечто вроде узкой улочки; я пошел по ней и оказался во дворе; только здесь я обнаружил у здания заднее одноэтажное крыло, а на его стене – застекленные витрины с рекламными афишами и кадрами из фильмов; я подошел к витринам, но и тут не нашел названия кинотеатра; осмотревшись, увидел напротив за сетчатой оградой на соседнем дворе девочку. Я спросил ее, как кинотеатр называется; девочка поглядела удивленно и сказала, что не знает. Пришлось смириться с тем, что у заведения нет названия, что в этой остравской ссылке даже кинотеатры безымянны.
Вернулся я снова (без всякого умысла) к застекленной витрине, и только тут бросилось в глаза, что фильм, объявленный афишей и двумя фотографиями, советский фильм «Суд чести». Тот самый фильм, героиню которого призывала в свидетели Маркета, решив сыграть в моей жизни благодетельную роль сострадательницы, тот самый фильм, на чью строгую мораль ссылались товарищи, когда вели против меня партийное дело; все это в достаточной мере отвратило меня от фильма – я о нем слышать не мог; и надо же – здесь, в Остраве, я и то не избежал его указующего перста… Ну что ж, коль не нравится нам поднятый перст, достаточно повернуться к нему спиной. Я сделал это и пошел со двора снова на улицу Петржковиц.
И тогда я впервые увидел Люцию.
Она шла мне навстречу; входила во двор кинотеатра; почему я не минул ее и не прошел дальше? вызвано ли это было особой замедленностью моей прогулки? или было что-то необычное в запоздало-сумеречном освещении двора, заставившее меня оставаться в нем еще минуту-другую и не выходить на улицу? или причиной тому была внешность Люции? Но ведь внешность эта была совсем заурядной, хотя позднее именно эта заурядность трогала и привлекала меня; так чем же объяснить, что Люция поразила меня с первого взгляда и я остановился как вкопанный? Разве таких же девичьих заурядностей я не встречал на остравских улицах? Или эта заурядность была так незаурядна? Не знаю. Одно ясно: я продолжал стоять и смотреть вслед девушке. Она подошла медленным, неспешным шагом к витрине и стала рассматривать кадры «Суда чести»; затем неторопливо оторвала от них взгляд и прошла через открытую дверь в маленький зальчик, где находилась касса. Да, теперь понимаю: это, возможно, была та особая Люциина неторопливость, что так заворожила меня, неторопливость, от которой словно исходило покорное сознание, что спешить некуда и напрасно тянуть к чему-то нетерпеливые руки. Да, пожалуй, и вправду именно эта неспешность, исполненная грусти, заставила меня издали наблюдать за девушкой – как она идет к кассе, как вынимает мелочь, покупает билет, заглядывает в зал, а потом снова поворачивается и выходит во двор.
Я не спускал с нее глаз. Она стояла спиной ко мне, устремив взгляд вдаль, куда-то за пределы двора, где, огороженные деревянными заборчиками, ползли вверх сады и деревенские хатки, окаймленные контурами коричневой каменоломни. (Никогда не смогу забыть этот двор, помню каждую его деталь, помню проволочную изгородь, отделявшую этот двор от соседнего, где на лестнице, ведшей в дом, лупила глазки маленькая девочка; помню, лестницу обрамлял ступенчатый парапет, на котором стояли два пустых цветочных горшка и серый таз; помню закопченное солнце, спускавшееся к горизонту каменоломни.)
Было без десяти шесть, то бишь оставалось десять минут до начала сеанса. Люция повернулась и медленно пошла двором на улицу; я шел за ней; за мной остался образ опустошенного остравского села, и снова перед глазами возникла городская улица; в пятидесяти шагах отсюда была небольшая площадь, тщательно ухоженная, с несколькими скамейками в маленьком парке, за которым просвечивало псевдоготическое строение из красного кирпича. Я наблюдал за Люцией: она села на скамейку; неторопливость не покидала ее ни на мгновение, я мог бы даже сказать, что и сидела она неторопливо; не озиралась, блуждая взглядом по сторонам, сидела, как сидят в ожидании операции или чего-то захватывающего нас настолько, что мы, ничего не замечая вокруг, обращены взором лишь в себя; возможно, по той же причине она и не осознавала, что я расхаживаю около и разглядываю ее.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































