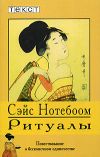Текст книги "Шутка"
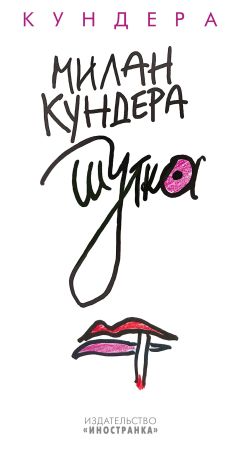
Автор книги: Милан Кундера
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Часто говорят о любви с первого взгляда; я прекрасно знаю, что любовь сама склонна создавать из себя легенду и задним числом творить миф своих истоков; я, конечно, не хочу утверждать, что здесь шла речь о такой внезапной любви, но определенное ясновидение и вправду здесь было: эту эссенцию Люцииного существа, или – если быть совершенно точным – эссенцию того, чем Люция стала для меня впоследствии, я понял, почуял, увидел разом и с первого взгляда; Люция принесла мне самое себя, как людям приносят себя явленные истины.
Я смотрел на нее; разглядывал деревенский перманент, крошащий волосы в бесформенную массу кудряшек, разглядывал ее коричневое пальтецо, жалкое, и поношенное, и, пожалуй, чуть коротковатое; разглядывал ее лицо, неброско красивое, красиво неброское; я чувствовал в этой девушке покой, простоту и скромность – ценности, которые были так нужны мне; мне казалось, что мы даже очень близки, что нас объединяет (хоть мы и не знакомы) таинственный дар непринужденного общения; мне казалось, что стоит только подойти к девушке и заговорить с ней, и она, поглядев (наконец) мне в лицо, обязательно улыбнется, как если бы, допустим, перед ней неожиданно возник брат, которого она много лет не видала.
Люция подняла голову; взглянула на башенные часы (и это движение запечатлелось в моей памяти; движение девушки, которая не носит часов на руке и автоматически садится лицом к часам), встала и пошла в кино; я хотел присоединиться к ней; смелость у меня бы нашлась, но вдруг не нашлось слов; и хотя душа была преисполнена чувств, в голове не было ни единого слова; я вновь следом за ней дошел до предбанника, где помещалась касса и откуда можно было заглянуть в зал, зиявший пустотой. Пустота зрительного зала чем-то отталкивает; Люция остановилась и смущенно огляделась; в эту минуту вошли несколько человек и поспешили к кассе; я опередил их и купил билет на ненавистный фильм.
Девушка вошла в зал; я шел за ней; в полупустом зале указанные на билетах места теряли всякий смысл – каждый садился куда хотел; я прошел в тот же ряд, что и Люция, и сел возле. Раздалась визжащая музыка с заигранной пластинки, зал погрузился во тьму, и на экране замелькали рекламы.
Люция должна была понимать, что солдат с черными петлицами не случайно сел рядом – определенно, все это время она осознавала, ощущала мое соседство, и, возможно, ощущала тем больше, что я сам был полностью сосредоточен на ней: происходившего на экране я не воспринимал (до чего курьезное мщение: я радовался, что фильм, на который моралисты ссылались так часто, прокручивается передо мной на экране, а мне хоть бы хны).
Фильм кончился, зажегся свет, горстка зрителей поднялась со своих мест. Встала и Люция. Взяла с колен сложенное коричневое пальто и просунула руку в рукав. Я быстро нахлобучил пилотку, чтобы не видно было моего стриженного наголо черепа, и молча помог ей влезть рукой и во второй рукав. Она коротко взглянула на меня и ничего не сказала, пожалуй, лишь слегка кивнула головой, но я не понял, означало ли это движение благодарность или оно было непроизвольным. Мелкими шажками она вышла из ряда, а я, быстро надев свою зеленую шинель (она была длинна и, скорей всего, не к лицу мне), двинулся за ней.
Еще в зале я заговорил с ней. Словно в течение двух часов, пока сидел рядом с ней и думал о ней, я настраивался на ее волны: заговорил с ней так, будто хорошо знал ее; против обыкновения, я начал разговор не с остроты, не с парадокса, а совершенно естественно – я и сам был поражен: ведь до последнего времени я всегда спотыкался перед девушками, точно едва брел под тяжестью масок.
Я спросил, где она живет, что делает, часто ли бывает в кино. Сказал, что тружусь на рудниках, что это сущая каторга, что редко удается выйти в город. Она сказала, что работает на фабрике, что живет в общежитии и там уже в одиннадцать надо быть дома, а в кино ходит часто, так как не любит танцев. Я сказал, что охотно пойду с ней в кино, когда у нее найдется свободное время. Она ответила, что предпочитает ходить одна. Я спросил, не потому ли это, что ей грустно в жизни. Она согласилась. Я добавил, что мне тоже невесело.
Ничто не сближает людей быстрее (пусть только внешне и обманчиво), чем грустное, меланхолическое соучастие; атмосфера спокойного понимания, устраняющая любые опасения и препятствия и одинаково доступная душе утонченной и грубой, образованной и простой, – самый несложный и притом столь редкостный способ сближения: надо, пожалуй, только отбросить напускное умение «владеть собой», отработанные жесты и мимику и стать естественным; не знаю, как мне удалось (внезапно, без подготовки) достигнуть этого, как могло удаться это мне, бредущему ощупью за своими вымышленными масками; не знаю, но я принял это как нежданный дар и чудодейственное освобождение.
Итак, мы рассказывали о себе самые обыкновенные вещи; наши исповеди были короткими и деловыми. Мы дошли до общежития, постояли недолго; фонарь бросал свет на Люцию, я смотрел на ее коричневое пальтецо и гладил ее: не по лицу, не по волосам, а по обтерханной материи этой трогательной одежонки.
Вспоминаю еще, что фонарь покачивался, что мимо проходили, раздражающе громко смеясь, молодые девушки и открывали дверь общежития, вспоминаю, как я скользнул взглядом вверх по стене дома, где жила Люция, стене серой и голой, с окнами без карнизов; вспоминаю Люциино лицо, которое было (по сравнению с лицами других девушек, каких довелось мне знать в подобных ситуациях) удивительно спокойным, совсем без мимики и походило на лицо ученицы, стоящей у доски и смиренно отвечающей (без строптивости и без лукавства) лишь то, что знает, не думая ни об отметке, ни о похвале.
Мы договорились, что я напишу ей открытку и сообщу, когда снова мне дадут увольнительную и мы сможем увидеться. Мы простились (без поцелуев и объятий), и я удалился. Пройдя несколько шагов, оглянулся: Люция стояла у двери, не открывая ее, и смотрела мне вслед; только сейчас, когда я был далеко, она вырвалась из своей сдержанности и устремила на меня долгий взгляд (до этой минуты робкий). А потом подняла руку – как человек, который никогда не махал рукой и не умеет махать, а только знает, что на прощание машут рукой, и потому неловко отваживается на этот жест. Я остановился и тоже помахал ей; мы смотрели друг на друга издалека, я снова двинулся и снова остановился (Люция все еще махала рукой) – вот так медленно я уходил, пока наконец не свернул за угол, и мы потеряли друг друга из виду.
8
С того вечера все во мне изменилось; я вновь стал обитаем; я не был уже той горестной пустотой, по которой гуляли (как сор по разграбленному жилищу) печали, угрызения и жалобы; обитель нутра моего оказалась вдруг кем-то убранной и заселенной. Часы, висевшие на ее стене с недвижимыми долгие месяцы стрелками, вдруг затикали. Это было знаменательно: время, которое до сих пор текло, словно равнодушная река от ничего к ничему (я же был в паузе!), без отчетливых звуков, без такта, начало вновь приобретать свой очеловеченный облик: начало делиться и отсчитываться. И стал добиваться увольнительных, и отдельные дни превратились в ступеньки лестницы, по которой я восходил к Люции.
Никогда в жизни я не отдавал никакой другой женщине столько мыслей, столько молчаливой сосредоточенности, как Люции (кстати, у меня уже никогда и не было столько времени). Ни к одной женщине я никогда не испытывал столько благодарности.
Благодарности? За что? Люция прежде всего вырвала меня из круга этого жалкого любовного горизонта, которым мы все были окружены. Конечно, и молодожен Станя определенным способом вырвался из этого круга; дома, в Праге, теперь у него была любимая жена, он мог думать о ней, мог воображать далекое будущее своего супружества, мог утешаться тем, что его любят. Но завидовать ему нельзя было. Актом бракосочетания он привел в движение свою судьбу, но уже в ту минуту, когда садился в поезд, возвращаясь в Остраву, лишался всякого влияния на нее; и так неделя за неделей, месяц за месяцем в его первоначальную радость примешивалось все больше и больше беспокойства, все больше и больше беспомощной тревоги о том, что происходит в Праге с его собственной жизнью, от которой он был отторгнут и к которой не имел доступа.
Встречей с Люцией я тоже привел свою судьбу в движение, но не терял ее из виду; встречался я с Люцией редко, но все-таки почти регулярно и знал, что она умеет ждать меня две недели и больше и встретить после этого перерыва так, словно мы расстались вчера.
Но Люция освободила меня не только от обычного похмелья, вызванного безотрадностью остравских любовных приключений.
Хотя к тому времени я понимал, что проиграл борьбу и бессилен как-либо повлиять на свои черные петлицы, хотя понимал и то, что чураться людей, с которыми придется года два, а то и больше жить бок о бок, столь же бессмысленно, как и бессмысленно без устали отстаивать право на свой исходный жизненный путь (его привилегированность я начал осознавать), но все-таки это мое измененное отношение к ситуации было лишь рассудочным, волевым и не могло избавить меня от внутреннего плача над своей «потерянной судьбой». Этот внутренний плач Люция чудодейственно успокоила. Достаточно было только чувствовать возле себя Люцию в теплом сиянии всей ее жизни, где не играли никакой роли ни вопросы космополитизма и интернационализма, ни бдительность и настороженность, ни споры об определении диктатуры пролетариата, ни политика со своей стратегией, тактикой и кадровыми установками.
На поле этих забот (столь преходящих, что их терминология вскоре станет непонятной) я потерпел поражение, но именно к ним тяготел всей душой. Перед различными комиссиями я мог приводить десятки доводов, почему я стал коммунистом, но что больше всего в движении меня завораживало, даже пьянило – это был руль истории, в чьей близости (истинной или лишь мнимой) я оказался. Мы ведь и в самом деле решали судьбы людей и вещей; и именно в вузах: в профессорской среде мало было тогда коммунистов, и в первые годы вузами управляли почти одни студенты-коммунисты, решавшие вопросы профессорского состава, учебных программ и реформы преподавания. Опьянение, какое мы испытывали, обычно называют опьянением властью, но (при капле доброй воли) я мог бы выбрать и менее строгие слова: мы были испорчены историей; мы были опьянены тем, что, вспрыгнув на спину истории, оседлали ее; разумеется, со временем это превратилось по большей части в уродливое стремление к власти, но (так как все людские страсти неоднозначны) в этом таилась (а для нас, молодых, пожалуй, особенно) и вполне идеальная иллюзия, что именно мы открываем ту эпоху человечества, когда человек (любой человек) не окажется ни вне истории, ни под пятой истории, а будет вершить и творить ее.
Я был убежден, что вне сферы этого исторического руля (которого я опьяненно касался) нет жизни, а есть лишь прозябание, скука, изгнание, Сибирь. И сейчас я вдруг (после полугода Сибири) увидел совершенно новую и неожиданную возможность жизни: передо мной открылись забытые луга вседневности, сокрытые под крылом летящей истории, а на нем стояла бедненькая, жалкая и, однако, достойная любви женщина – Люция.
Что знала Люция о том большом крыле истории? Едва ли когда-нибудь слышала его шелест; понятия не имела об истории; жила под нею; не томилась по ней, она была ей чужой; она не знала ничего о больших преходящих заботах, она жила заботами небольшими и вечными. И я был внезапно освобожден; мне казалось, что она пришла ко мне, чтобы увести меня в свой серый рай; и шаг, что представлялся мне еще недавно страшным, шаг, которым я должен был «выйти из истории», стал для меня вдруг шагом облегчения и счастья. Люция робко держала меня за локоть, и я позволил ей увлечь себя…
Люция была моим серым поводырем. А кем была Люция по своим более существенным данным?
Ей было девятнадцать лет, но на самом деле, пожалуй, гораздо больше, как часто случается с женщинами, у которых была нелегкая жизнь и которых из детского возраста со всего маху бросили в возраст зрелости. Она говорила, что родом из Хеба, что окончила девятилетку, а потом обучалась ремеслу. О доме своем рассказывать не любила, а если рассказывала, то лишь потому, что я принуждал ее. Дома жилось ей плохо. «Наши не любили меня», – говорила она и приводила тому разные доказательства: мать во второй раз вышла замуж; отчим пил и дурно к ней относился; однажды заподозрили, будто она утаила от них какие-то деньги, побили ее. Когда не стало мочи больше терпеть, Люция воспользовалась случаем и уехала в Остраву. Здесь живет уже год; подруги есть, но любит быть одна, подружки ходят на танцы и водят в общежитие кавалеров, а ей не хочется; она серьезная; ей больше нравится ходить в кино.
Да, она так и определила себя: «серьезная», и связывала это качество с походами в кино; в основном любила военные фильмы, в те годы весьма популярные; возможно, потому, что захватывали, а возможно, и потому, что в них сконцентрировано было великое страдание; Люция переполнялась чувствами жалости и печали, которые, как она полагала, приподнимали ее и утверждали в «серьезности», столь ценимой ею в самой себе. Однажды она сообщила мне, что видела «очень прекрасный фильм» – им оказался довженковский «Мичурин»; фильм очень нравился ей, и главным образом по трем причинам: там, мол, отлично показано, до чего прекрасна природа; она всегда ужасно любила цветы; а человек, который не любит деревьев, хорошим человеком, по ее мнению, быть не может.
Конечно, неверно было бы думать, что в Люции привлекала меня лишь экзотичность ее простоты; ее простота, недостаточная образованность ничуть не мешали ей понимать меня. Это понимание основывалось не на опыте или знании, не на способности обсудить что-то и посоветовать, а на чутком соучастии, с которым она выслушивала меня.
Всплывает в памяти один летний день: я получил тогда увольнительную раньше, чем Люция освободилась от работы; конечно, я прихватил с собой книжку, сел на каменную оградку и стал читать; с чтением дела обстояли плохо: мало было времени, да и связь с пражскими знакомыми никак не налаживалась; но еще призывником я бросил в свой чемоданчик три книжечки стихов, которые без устали читал, находя в них утешение; это были стихи Франтишека Галаса[2]2
Франтишек Галас (1901-1949) – выдающийся чешский поэт межвоенного периода
[Закрыть].
Эти книжки сыграли в моей жизни особую роль, особую уже потому, что я не отношусь к большим любителям поэзии, и единственными книжками стихов, которые я полюбил, были они. Стихи попали мне в руки в то время, когда я был уже исключен из партии; именно тогда имя Галаса снова стало знаменитым, благо ведущий идеолог[3]3
Имеется в виду чешский критик-марксист и политический деятель Ладислав Штолл (1902-1981) и его работа «30 лет борьбы за чешскую социалистическую поэзию».
[Закрыть] тех лет обвинил недавно почившего поэта в упадочничестве, безверии, экзистенциализме и во всем том, что тогда звучало как политическая анафема. (Труд, в котором он подытожил свои взгляды на чешскую поэзию и на Галаса, вышел в те годы массовым тиражом, и его изучали в обязательном порядке на собраниях многих тысяч молодежных кружков.)
Человек подчас в минуту несчастья пытается найти утешение в том, что свою печаль связывает с печалью других; пусть в этом, признаюсь, есть нечто смешное, но я искал стихи Галаса потому, что хотел познакомиться с кем-то, кто был так же, как и я, отлучен; я хотел убедиться, действительно ли мой образ мыслей подобен образу мыслей отлученного, и хотел проверить, не принесет ли мне печаль, какую сей влиятельнейший идеолог объявил болезненной и вредоносной, хотя бы своим созвучием какую-то радость (ибо в моем положении я едва ли мог искать радость в радости). Все три книжки я взял перед отъездом в Остраву у бывшего сокурсника, увлекавшегося литературой, а затем и вовсе упросил его отдать мне их навсегда.
В тот день Люция, встретив меня в условленном месте с книжечкой в руках, спросила, что я читаю. Я показал ей. Она удивилась: «Стишки!» – «Тебе странно, что я читаю стишки?» Она пожала плечами и ответила:
«Отчего же», но, думаю, это ей показалось странным – вероятнее всего, стихи в ее представлении сочетались с детскими книжками. Мы бродили диковинным остравским летом, черным, прокопченным летом, над которым вместо белых облаков плыли на длинных канатах вагонетки с углем. Книжка в моей руке непрестанно притягивала Люцию. И потому, когда мы расположились в редкой рощице под Петржвальдом, я открыл ее и спросил: «Тебе интересно?» Она кивнула.
Никому прежде и никому впоследствии я не читал стихов вслух; во мне безотказно действует предохранитель, защищающий меня от того, чтобы излишне раскрываться перед людьми, излишне обнародовать свои чувства, а читать стихи, как мне представляется, это даже не просто говорить о своих чувствах, но говорить о них, стоя на одной ноге; некоторая неестественность самого принципа ритма и рифмы вызывала бы во мне неловкость, доведись предаваться им иначе, как наедине с самим собой.
Но Люция обладала чудодейственной властью (ни у кого другого после Люции ее уже не было) управлять этим предохранителем и избавлять меня от бремени стыда. Я мог позволить себе перед ней все: и искренность, и чувство, и пафос.
И я стал читать:
Колосок хрупкий тело твое
упало зерно и уже не взойдет
словно хрупкий колос тело твое
Клубок шелка тело твое
жаждой исписано до последней морщинки
словно шелка клубок тело твое
Сожженное небо тело твое
смерть затаившись дремлет во плоти
словно сожженное небо тело твое
Тихое-тихое тело твое
от плача его дрожат мои веки
словно тихое-тихое тело твое
Я обнимал Люцию за плечо (обтянутое тонкой тканью цветастого платьица) и, осязая его пальцами, отдавался потоку внушения, что стихи, которые читаю (эта тягучая литания!), поют именно печаль Люцииного тела, тихого, смиренного тела, осужденного к смерти. Я прочел ей и другие стихи и, конечно же, то, что еще по сию пору воскрешает ее образ, кончаясь трехстишьем:
Слова запоздалые не верю вам верю молчанью
они поверх красоты они надо всем
торжество пониманья
И вдруг я почувствовал пальцами, что плечо Люции задрожало, что Люция плачет.
Что растрогало ее до слез? Смысл этих стихов? Или, скорей всего, неназванная печаль, которой веяло от мелодики слов и окраски моего голоса? Или, возможно, ее возвысила торжественная невразумительность стихов, и она растрогалась до слез именно этой возвышенностью? Или, быть может, стихи в ней приоткрыли таинственный затвор, и хлынула накопленная тяжесть?
Не знаю. Люция обвила меня за шею, словно ребенок, прижала голову к пропитанному потом полотну зеленой формы, облегавшей мою грудь, и плакала, плакала, плакала.
9
Как часто в последние годы самые разные женщины упрекали меня (лишь потому, что я не сумел отблагодарить их за чувства) в заносчивости. Чушь, я вовсе не заносчив, но, откровенно сказать, меня и самого удручает, что со времени моей подлинной зрелости я не смог по-настоящему привязаться ни к одной женщине, ни одну женщину, что и говорить, по-настоящему я не любил. Не уверен, знаю ли я причины такой своей незадачливости, Бог весть, быть может, они кроются просто в моих сердечных пороках или – что вероятнее – в обстоятельствах моей биографии; не хочется быть патетичным, но это так: сколь часто воспоминания возвращают меня в зал, в котором сто человек поднимают руки и таким путем отдают приказ сломать мою жизнь; эти сто человек и думать не думали, что однажды обстоятельства постепенно изменятся; не предполагая ничего подобного, они рассчитывали на то, что мое изгнанничество будет пожизненным. Вовсе не из болезненной чувствительности, скорей из злорадного упрямства, свойственного размышлениям, я нередко и по-разному варьировал эту ситуацию и представлял, что произошло бы, если бы вместо исключения из партии меня осудили на смерть через повешение. И я всегда, без колебаний, приходил к однозначному выводу: и в этом случае все подняли бы руки, тем более если в речи председательствующего уместность петли на моей шее была бы эмоционально обоснована.
С тех пор, встречая впервые то ли мужчину, то ли женщину, которые вполне могли бы стать моими друзьями или любовницами, я мысленно переношу их в то время и в тот зал и задаюсь вопросом, подняли ли бы они руку: ни один не выдерживал этого экзамена; все так же поднимали руку, как поднимали ее (охотно или неохотно, веря или от страха) мои тогдашние друзья и знакомые. Но согласитесь: тяжко жить с людьми, которые способны послать вас в изгнание или на смерть, тяжко довериться им, тяжко любить их.
Возможно, я проводил слишком жестокий опыт: подвергал людей, с которыми общался, столь безжалостному, хоть и воображаемому экзамену, тогда как, вероятней всего, в действительности они прожили бы рядом со мной достаточно спокойную, обыкновенную жизнь вне добра и зла и никогда не прошли бы проверку реальным залом, где поднимают руки. Возможно, кому-то даже придет на ум, что, проводя подобные опыты, я прежде всего задавался единственной целью: в своем нравственном самолюбовании возвысить себя над окружающими. Нет, обвинять меня в заносчивости и впрямь было бы несправедливо; я сам, разумеется, никогда не поднял бы руки во имя чьей-то гибели, однако сознаю, что моя заслуга в этом весьма сомнительна; права поднимать руку я был лишен довольно рано. Но как бы долго ни убеждал себя, что никогда в подобной ситуации не поднял бы руки, я был слишком честен, чтобы в конце концов не посмеяться над собой: неужто я единственный, кто не поднял бы руки? Единственный справедливый? Да полноте, я не смог обнаружить в себе никакой поруки тому, что был бы лучше других; однако может ли это повлиять на мое отношение к другим? Сознание собственного ничтожества ничуть не примиряет меня с ничтожеством других. С души воротит, когда люди проникаются взаимным чувством братства лишь потому, что обнаружили друг в друге схожую подлость. Избави Бог от такого непристойного братства.
Как же случилось, что я тогда мог любить Люцию? Размышления, которым я только что предавался, к счастью, имеют более позднюю дату (в юношеском возрасте я больше страдал, чем размышлял): Люцию я мог принимать еще чистым сердцем и без тени сомнения как дар, дар небес (приветливо-серых небес). Это было счастливое для меня время, быть может, самое счастливое: я был измучен, изнурен, раздавлен, но в моей душе день ото дня ширился и все больше голубел голубой свет. Смешно: если бы женщины, упрекающие меня в заносчивости и подозревающие, что я всех вокруг числю в дураках, знали Люцию, они посмеялись бы над ней, посчитав глупенькой и не понимая, за что я любил ее. А я любил Люцию так, что и мысли не мог допустить, что когда-нибудь расстанусь с ней; пусть мы с Люцией никогда не говорили об этом, но я сам совершенно серьезно жил надеждой в своем воображении, что однажды настанет день и я женюсь на ней. А если ненароком и приходила мысль о неравном браке, то эта неравность скорее привлекала меня, чем отталкивала.
За те немногие месяцы я был благодарен и тогдашнему командиру; сержанты шпыняли нас, как могли, были счастливы найти пылинку в складках нашей одежды, разбрасывали постель, ежели обнаруживали на ней хоть единую складочку, – но командир был порядочным парнем. Чуть постарше нас, он был переведен к нам из пехотного полка – говорили, что тем самым его разжаловали. Был он, выходит, пострадавшим, и, видимо, это внутренне примиряло его с нами; конечно, он тоже требовал от солдат порядка, дисциплины, а по временам и воскресной добровольной смены (чтобы перед вышестоящими проявить свою политическую активность), но никогда не гонял нас понапрасну и без лишних сложностей раз в две недели предоставлял нам субботние отпуска в город.
Помнится, тем летом мне удавалось видеться с Люцией даже три раза в месяц.
Б дни, когда я бывал без нее, я писал ей; написал бессчетное количество писем, открыток и разных записок. Сейчас уже трудно представить себе достаточно ясно, что я писал ей и как. Было бы любопытно прочесть эти письма, но, с другой стороны, хорошо, что прочесть их нельзя: у человека есть великое преимущество – он не может встретиться с самим собой в более молодом издании; боюсь, я вызвал бы сам у себя отвращение и разорвал бы даже это мое повествование, осознав, что свидетельство, которое здесь даю о себе, слишком пропитано моим теперешним взглядом на вещи, моим теперешним опытом. Однако какое же воспоминание не является в то же время (и невольно) преображением старого образа? Какое воспоминание не является единовременной экспозицией двух лиц, этого настоящего и того прошлого? Каким я был в действительности – без посредничества нынешних воспоминаний, – это уже никому никогда не узнать. Впрочем – говоря по существу, – не так уж и важно, какими были мои письма; хотелось лишь отметить, что я написал их Люции очень-очень много, а Люция мне – ни одного.
Трудно было заставить ее написать мне; быть может, я запугал ее своими письмами, быть может, ей казалось, не о чем писать; быть может, она стеснялась своих орфографических ошибок, неумелого почерка, который я знал лишь по ее росписи в паспорте. Увы, не в моих силах было намекнуть ей, что именно ее неумелость и непросвещенность дороги мне, и не потому, конечно, что я ценил примитивность саму по себе, но она казалась мне знаком Люцииной цельности и давала надежду оставить в ее душе след тем глубже, тем неизгладимей.
За письма Люция испуганно благодарила, а потом призадумалась, чем бы мне отплатить за них; писать мне она не хотела и вместо писем избрала цветы. Впервые это было так: бродили мы по редкой рощице, и Люция вдруг нагнулась к какому-то цветку (да простится мне, что не знаю его названия: на тонком стебле маленькая лиловая чашечка) и подала мне. Это тронуло меня и ничуть не смутило. Но когда в следующую нашу встречу она ждала меня с целым букетом цветов, я слегка оторопел.
Мне было двадцать два, и я судорожно избегал всего, что могло бы бросить на меня тень изнеженности или незрелости; я стеснялся ходить по улице с цветами, не любил покупать их, а уж получать и подавно. Я растерянно намекнул Люции, что цветы дарят мужчины женщинам, а не женщины мужчинам, но, когда я увидел чуть ли не слезы на ее глазах, я поблагодарил ее и взял букет.
Что было делать! С тех пор цветы ждали меня при каждой нашей встрече, и я наконец смирился; и потому, что меня обезоруживала непосредственность этих преподношений, и потому, что я видел, как важен для Люции именно этот способ одаривания; возможно, причина была в том, что Люция страдала от скудости своего языка, от неумения красиво говорить и видела в цветах особую форму речи; и, вероятнее всего, не в смысле неуклюжей символики стародавнего витийства, а в смысле более древнем, более зримом, более инстинктивном, доязыковом; возможно, Люция, будучи всегда скорее замкнутой, чем разговорчивой, неосознанно мечтала о той немой стадии человеческого развития, когда не было слов и когда люди объяснялись с помощью мелких жестов: пальцем указывали на дерево, смеялись, касались друг друга…
Однако ж – понимал я или не понимал сущность Люцииного одаривания – в конце концов оно меня тронуло и разбудило желание тоже что-нибудь подарить ей. У Люции было всего три платья, которые она регулярно меняла, так что наши встречи следовали друг за другом в ритме трехдольного такта. Я любил все эти платьица как раз потому, что они были старенькие, заношенные и не очень изящные. Я их любил так же, как и Люциино коричневое пальто (короткое и потертое на обшлагах), которое я погладил раньше, чем ее лицо. И все же захотелось купить Люции платье, красивое платье, даже много платьев. Деньги у меня были, экономить я не собирался, а транжирить их по кабакам перестал. И вот однажды я повел Люцию в магазин готового платья.
Люция сперва думала, что мы зашли туда просто поглазеть на прилавки, на людей, что рекой текли по лестнице вверх и вниз. На третьем этаже я остановился у длинной вешалки, с которой плотной завесой свисали дамские платья; Люция, увидев, с каким любопытством я разглядываю их, подошла поближе и стала отпускать замечания. «Вот это красивое», – указала она на одно, на котором были тщательно выведены красные цветочки. Красивых платьев там и впрямь было мало, но все-таки кое-что приличное попадалось; я снял одно платье и позвал обслуживающего продавца: «Девушка могла бы это примерить?» Люция, скорей всего, сопротивлялась бы, но перед человеком посторонним, перед продавцом, она не осмелилась возразить и, даже не успев осознать происходящее, оказалась за ширмой.
Спустя немного я чуть отдернул занавеску и посмотрел на Люцию; хотя в платье, которое она мерила, не было ничего особенного, я просто не поверил своим глазам: его относительно современный покрой неожиданно превратил Люцию в совсем другое существо. «Разрешите взглянуть», – отозвался за моей спиной продавец и тут же обрушил на Люцию и на платье, что она мерила, поток восторгов. Затем он посмотрел на меня, на мои петлицы и спросил (хотя утвердительный ответ предполагался заранее), из политических ли я. Я кивнул. Он подмигнул, улыбнулся и сказал: «У меня есть кое-что получше; не изволите ли взглянуть?» И в мгновение ока на прилавке появились несколько летних платьев и одно экстравагантное вечернее. Люция надевала их одно за другим, и все ей были к лицу, во всех она была какой-то новой, а в вечернем – и вовсе неузнаваемой.
Узловые повороты в развитии любви не всегда бывают вызваны событиями драматическими, а часто – обстоятельствами, на первый взгляд совершенно несущественными.
В развитии моей любви к Люции такую роль сыграло платье. До сего времени чем только не была для меня Люция: ребенком, источником умиления, источником утешения, бальзамом и возможностью уйти от самого себя, она была для меня буквально всем – но только не женщиной. Наша любовь в телесном смысле этого слова не переходила границы поцелуев. Впрочем, и способ, каким целовалась Люция, был детским (я обожал эти долгие, но целомудренные поцелуи сжатыми сухими губами, что, лаская друг друга, так трогательно пересчитывали нежные бороздки любимого рта).
Короче говоря – до этого времени я испытывал к ней нежность, но ни в коем разе не чувственность; с отсутствием чувственности я так свыкся, что даже не осознавал его; мое отношение к Люции казалось мне таким прекрасным, что и в голову не приходило, что мне чего-то недостает. Все гармонически сливалось воедино: Люция – ее по-монастырски серая одежда – и мои по-монастырски невинные чувства к ней. В тот момент, когда Люция надела новое платье, все уравнение было внезапно нарушено; Люция сразу вырвалась из моих представлений о Люции: я понял, что у нее есть и другие возможности, и другой облик, нежели тот трогательно деревенский. Я вдруг увидел в ней красивую женщину, чьи ноги соблазнительно обрисовывались под ладно скроенной юбкой, чье тело было удивительно пропорционально и чья неприметность бесследно растворялась в платье яркого цвета и красивого фасона. Я был совершенно ошеломлен ее внезапно явленным телом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?