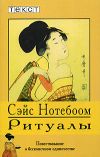Текст книги "Шутка"
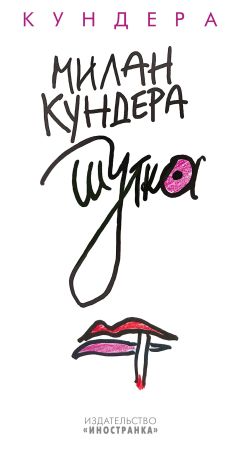
Автор книги: Милан Кундера
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Люция жила в общежитии, в одной комнате с тремя девушками; посещения разрешались лишь два раза в неделю, причем всего на три часа, от пяти до восьми; посетителю полагалось внизу у дежурной отметиться, сдать удостоверение, а затем заявить и о своем уходе. Кроме того, у всех трех Люцииных сотоварок по комнате были свои кавалеры (по одному или более), и всем хотелось с ними встречаться в интиме общежития, так что девушки вечно ссорились, злились и считали каждую минуту, которую одна отнимала у другой. Все это было до того неприятно, что я никогда даже не пытался навестить Люцию в ее обиталище. Но как-то я узнал, что Люциины сожительницы должны уехать примерно через месяц на трехнедельные работы в деревню. Я объявил Люции, что хочу воспользоваться этим временем и встретиться с ней в общежитии. Она приняла мои слова без радости, погрустнела и заметила, что предпочитает гулять со мной по улицам. Я сказал, что мечтаю побыть с нею там, где никто и ничто не будет мешать нам, и мы сможем думать только друг о друге; и что, кроме того, я хочу знать, как она живет. Люция не умела возражать мне, и я до сих пор помню, как разволновался, когда она наконец согласилась с моим предложением.
10
В Остраве я был почти год, и воинская служба, поначалу невыносимая, стала за это время чем-то будничным и обычным; хотя она была неприятной и изнурительной, но мне все-таки удалось выжить, обрести товарищей и даже испытать счастье; лето для меня было прекрасным (насквозь закопченные деревья казались неописуемо зелеными, когда я глядел на них глазами, только что прозревшими после подземной тьмы), но, как водится, зародыш несчастья сокрыт внутри счастья: горькие события тогдашней осени завязывались именно в этом зелено-черном лете.
Началось со Стани. Женился он в марте, а уже спустя месяц-другой стали доходить до него слухи, что его жена шляется по барам; он совершенно лишился покоя, писал ей письмо за письмом и, надо сказать, получал успокоительные ответы; но вскоре (стояло уже лето) навестила его в Остраве мать; проведя с ней всю субботу, он вернулся в казарму бледным и молчаливым; сперва не хотел ничего говорить – видно, стеснялся, но на второй день открылся Гонзе, а затем и другим, и вскоре об этом узнали все; Станя, поняв, что знают все, уже сам принялся во всеуслышание и без умолку говорить о том, что жена его пошла по рукам и что он-де собирается съездить домой и свернуть ей шею. И, не мешкая, попросил у командира два свободных дня; командир поначалу не решался дать ему увольнительную – слишком уж много поступало на Станю тогда жалоб из шахты и казармы, вызванных его рассеянностью и раздражительностью, – но в конце концов смилостивился и дал. Станя уехал, и с тех пор никто из нас больше не видел его. Что стряслось с ним – знаю уже понаслышке.
Приехал он в Прагу, накинулся на женщину (я называю ее женщиной, хотя ей было всего девятнадцать), и она беззастенчиво (а быть может, даже с удовольствием) все ему выложила; он стал бить ее, она защищалась, он начал душить ее, а под конец стукнул бутылкой по голове; она повалилась на пол и осталась лежать без движения. Станя в мгновение ока отрезвел и в ужасе ударился в бега: неведомо как нашел заброшенную халупку где-то в Рудных горах и жил там, полный страха и ожидания, что его найдут и вздернут за убийство. Нашли его лишь два месяца спустя и судили не за убийство, а за дезертирство. Его жена, оказалось, вскоре после его бегства опамятовалась и, кроме шишки на голове, никаких телесных повреждений на себе не обнаружила. Пока он сидел в армейской тюрьме, она развелась с ним и вышла замуж за известного пражского актера, на которого хожу смотреть лишь потому, что он напоминает мне о старом товарище, так печально кончившем: после армии он остался работать на руднике; производственная травма лишила его ноги, а неудачная ампутация – жизни.
Эта женщина, которая якобы до сих пор срывает лавры среди богемной публики, довела до лиха не только Станю, но и нас всех. По крайней мере, нам так казалось, хотя и нельзя установить, существует ли между скандалом вокруг Станиного исчезновения и министерской комиссией, посетившей вскоре нашу казарму, действительно (как думали все) причинная связь. Но так или этак, наш командир был отозван, и на его место пришел молодой офицер (ему могло быть от силы двадцать пять), и с его приходом все изменилось.
Да, было ему лет двадцать пять, но выглядел он еще моложе, просто мальчишкой, и потому из кожи вон лез, чтобы его поведение было как можно более впечатляющим и снискало ему уважение.
У нас поговаривали, что свои речи он репетирует перед зеркалом и заучивает их наизусть. Кричать он не любил, говорил сухо и с предельным спокойствием давал понять, что всех нас считает преступниками. «Я знаю, что вы предпочли бы меня видеть на веревке, – сказал нам этот ребенок при первой же нашей встрече, – но если кто и будет висеть, так это вы, а не я».
Вскоре дело дошло до конфликтов. В памяти моей сохранилась прежде всего история с Ченеком, возможно, еще потому, что она представлялась нам ужасно смешной. Не могу не рассказать о ней: за год службы в армии Ченек сделал целую прорву крупных настенных рисунков, которые при нашем прошлом командире всегда получали истинное признание. Ченек, как я уже говорил, больше всего любил рисовать Жижку и гуситских воинов; чтобы доставить радость товарищам, он с удовольствием дополнял их изображением обнаженной женщины, которую представлял командиру в качестве символа Свободы или символа Родины. Новый командир тоже решил воспользоваться услугами Ченека и, вызвав его, попросил нарисовать что-нибудь для помещения, в котором проходили политзанятия. Он порекомендовал ему на сей раз оставить всех этих Жижек и «больше направить свое внимание на современность»: в картине должна быть изображена Красная Армия, ее единство с нашим рабочим классом, а также ее значение для победы социализма в Феврале. Ченек сказал: «Есть!» – и принялся за дело; несколько дней подряд он рисовал на полу на больших белых листах бумаги, а затем прикрепил их кнопками по всей стене комнаты. Впервые увидев готовую картину (высотой в полтора метра, шириной не менее восьми), мы буквально онемели: посредине стоял в геройской позе одетый по-зимнему, в меховой ушанке советский солдат с автоматом наперевес, а вокруг него располагались по меньшей мере восемь голых женщин. Две прижимались к солдату с обеих сторон, кокетливо возведя на него глаза, а он обнимал их за плечи и буйно смеялся; прочие женщины толпились вокруг, протягивая к нему руки, или просто стояли (одна даже лежала) и демонстрировали свои красивые лица.
Ченек встал перед картиной (мы ждали прихода политрука и были одни в комнате) и закатил нам примерно такую речь: «Так, стало быть, ребята, вот эта, что одесную сержанта, это Алена, она вообще была моей первой бабенкой, заполучила меня, когда мне только шестнадцать минуло, женушка офицерская, тут ей самое что ни есть место. Изобразил я ее точно, как она в те годы выглядела, теперь-то, почитай, похужела, но тогда, как говорится, была в теле, небось сами видите, особливо вот тут, в бедрах (он огладил их пальцем). Сзади она куда красивей смотрелась, вот тут я нарисовал ее еще раз (он подошел к краю картины и ткнул пальцем в голую женщину, повернувшуюся к зрителю задом; казалось, она куда-то уходит). Посмотрите на эту королевскую задницу, по размерам она, пожалуй, малость превышает норму, но это именно то, что мы любим. Я был тогда круглым идиотом, вспоминаю, как она обожала, чтобы ее били по этому самому заду, а я в толк никак не мог взять, что за дела такие. Однажды на пасху она все просила да просила, приди, мол, как положено по обычаю, с пучком вербы, вот я, значит, пришел, а она все твердит, хозяюшку побьешь, яичко найдешь, хозяюшку побьешь, крашеное найдешь, ну стал я ее этак символически по юбке хлестать, а она говорит, это разве битье, задери-ка ты хозяюшке юбку да хлобыстни как следует, задрал я это ей юбку, трусики снял и хлещу ее, идиот, вроде бы символически, а она переполнилась злобой и кричит благим матом, ну, ты, недоносок, будешь хлестать как положено! А я, известное дело, дурак дураком был, зато вот эта (он ткнул в женщину по левую руку от сержанта), эта Лойзка, эта была у меня, когда я стал уже взрослым, посмотрите, какие у нее маленькие грудки (показал), и невозможно красивая мордочка (тоже показал), учились мы с ней на одном курсе. А это наша натурщица, я рисую ее абсолютно по памяти, да и двадцать других ребят тоже могут нарисовать ее по памяти, потому что она всегда стояла посреди класса, и мы учились по ней рисовать человеческое тело, этой ни один из нас пальцем не коснулся, мамочка всегда поджидала ее у дверей класса, а после урока сразу же уводила домой, эта представала перед нами, да простит ее Господь Бог, лишь во всем своем целомудрии; вот так, друзья мои. Зато вот эта (он показал на женщину, которая возлежала на каком-то стилизованном канапе) ну и стерва была, господа, подойдите поближе (мы подошли), видите точечку на животике? Это ожог от сигареты, и сделала его, она сама рассказывала, одна ревнивая бабенка, с которой они любовь крутили, так как сия дамочка, господа, горазда была на оба дела, и секс у нее был чисто гармоника, в этот секс все на свете бы влезло, туда и мы бы все влезли, все как есть, до единого, и со всеми нашими женами, с нашими девушками, и с нашими деточками, и всеми родичами…» Ченек, по всей видимости, приближался к самым блестящим пассажам своего объяснения, но тут вошел в комнату политрук, и нам пришлось сесть. Политрук, привыкший к рисункам Ченека со времен нашего бывшего командира, не уделил новой картине никакого внимания и приступил к чтению вслух брошюры, в которой ярко освещались различия между армией социалистической и капиталистической. В нас все еще продолжал звучать рассказ Ченека, и мы отдавались тихим грезам, когда в комнату вдруг заявился мальчик-командир. Пришел, должно быть, проконтролировать занятия, но, прежде чем выслушать отчет политрука и отдать нам команду снова занять места, ошарашенно уставился на картину; уже не дав возможности политруку продолжать чтение, он налетел на Ченека и потребовал немедля объяснить ему, что означает эта картина. Ченек вскочил, встал перед картиной и понес: картина в форме аллегории выражает значение Красной Армии для борьбы нашего народа; вот здесь изображена (он указал на сержанта) Красная Армия; справа, плечом к плечу с ней, символически изображен (он указал на офицерскую женушку) рабочий класс, а здесь, по другую сторону (он указал на сокурсницу), – символ февраля месяца. Затем (он перечислил дам) символ свободы, символ победы, а эта – символ равенства; здесь (он кивнул на офицерскую жену, выставившую свою задницу) наглядно изображено, как буржуазия уходит со сцены истории.
Ченек кончил, а командир объявил, что картина не что иное, как оскорбление Красной Армии и должна быть незамедлительно снята; а против Ченека он, дескать, примет необходимые меры. Я спросил (вполголоса) почему. Командир услышал и поинтересовался, какие у меня возражения. Я встал и сказал, что картина мне нравится. Командир ответил, что он этому охотно верит, потому что картина – для онанистов. Я сказал, что скульптор Мысльбек тоже изображал свободу в виде обнаженной женщины, а живописец Алеш нарисовал реку Йизеру даже в виде трех обнаженных женщин; что так делали художники всех времен.
Мальчик-командир неуверенно посмотрел на меня и повторил приказ немедля снять картину. Но, видимо, нам все же удалось сбить его с толку – Ченека он не наказал; однако сильно невзлюбил его, а заодно и меня; Ченек в скором времени получил дисциплинарное взыскание, а немного спустя – и я.
Было это так: однажды наш взвод работал в глухом углу казарменного двора, орудуя кирками и лопатами; нерадивый младший сержант охранял нас не слишком строго, и мы, частенько опираясь на свой инструмент, болтали и даже не заметили, что неподалеку наблюдает за нами мальчик-командир. Мы увидели его в ту самую минуту, когда раздался его резкий голос: «Солдат Ян, ко мне!» Я, бодро подхватив свою лопату, встал перед ним навытяжку. «Вы так представляете себе работу?» – спросил он. Не помню точно, что я ответил ему, но ничего дерзкого в моем ответе не было – да и разве могло мне прийти в голову отравлять себе и без того нелегкую жизнь в казарме и попусту настраивать против себя человека, имевшего надо мной неограниченную власть. Однако после моего ничего не значащего и скорее даже растерянного ответа у него ожесточился взгляд, и он, шагнув ко мне, молниеносно схватил меня за руку и перекинул через спину отлично усвоенным приемом джиу-джитсу. Затем, присев на корточки, стал удерживать меня на земле (я не противился, разве что удивлялся). «Хватит?» – спросил он громко (так, чтобы стоявшие вдалеке тоже слышали); я ответил «хватит». Тогда он скомандовал мне встать и тут же перед построившимся взводом объявил: «Даю солдату Яну два дня губы. И не потому, что он нахамил мне. Его хамство, как вы изволили видеть, я пресек своими руками. Даю ему два дня губы потому, что он отлынивал от работы, и с вами, если что, разделаюсь таким же манером». И, повернувшись, он франтоватой походкой удалился.
Тогда я не мог испытывать к нему ничего другого, кроме ненависти, а ненависть отбрасывает слишком резкий свет, лишающий предметы пластичности. Я видел в командире лишь мстительную и коварную крысу, однако сегодня вспоминаю его в основном как человека, который был молод и любил играть. Молодые люди неповинны в том, что любят играть; не готовые к жизни, они поставлены ею в готовый мир и должны действовать в нем как готовые личности. Поэтому они поспешно хватаются за общепринятые формы, примеры и образцы, которые их устраивают и им к лицу, – и играют.
И наш командир был таков: не готовый к жизни, он был поставлен лицом к лицу с войском, которого совсем не понимал; он умел справиться с ситуацией лишь потому, что нашел для себя в прочитанном и услышанном подходящую, отработанную маску: хладнокровный герой детективных романов, молодой человек с железными нервами, укрощающий банду преступников, никакого пафоса, одно ледяное спокойствие, броская, сухая шутка, самонадеянность и вера в силу собственных мышц. Чем больше он осознавал свою мальчикообразную внешность, тем фанатичнее отдавался роли железного супермена, тем настойчивее демонстрировал его перед нами.
Но разве я впервые столкнулся с таким моложавым актером? Когда меня допрашивали в комитете по поводу открытки, мне было чуть за двадцать, а моим следователям – от силы на год-два больше. Они тоже были прежде всего мальчишки, прикрывавшие свои незрелые лица маской, что представлялась им самой значительной маской аскетически сурового революционера. А Маркета? Разве она не надумала играть роль спасительницы, роль, позаимствованную из дурного фильма-однодневки?
А тот же Земанек, ни с того ни с сего преисполнившийся сентиментальным пафосом высокой нравственности? Не было ли это ролью? А я сам? Разве не было у меня даже нескольких ролей, меж которыми я суматошно метался, покуда меня, мечущегося, не зацапали?
Молодость страшна: это сцена, по какой ходят на высоких котурнах и во всевозможных костюмах дети и произносят заученные слова, которые понимают лишь наполовину, но которым фанатически преданы. И страшна история, ибо столь часто становится игровой площадкой для несовершеннолетних; площадкой для игр юного Нерона, площадкой для игр юного Наполеона, площадкой для игр фанатичных орд детей, чьи заимствованные страсти и примитивные роли вдруг превращаются в реальность катастрофически реальную.
Когда я думаю об этом, в голове опрокидывается вся шкала ценностей: я проникаюсь глубокой ненавистью к молодости и, напротив, – каким-то парадоксальным сочувствием к преступникам истории, в чьей преступности улавливаю лишь ужасное неполноправие несовершеннолетия.
А уж как начинаю перебирать в памяти всех несовершеннолетних, с кем довелось иметь дело, сразу же перед глазами встает Алексей; и он играл свою великую роль, которая превышала его разум и опыт. У него было что-то общее с командиром: он тоже выглядел моложе своего возраста; но его моложавость (в отличие от командирской) была неприглядна: тщедушное тельце, близорукие глаза под толстыми стеклами очков, угреватая (вечно ювенильная) кожа. Как призывник он сперва был приписан к пехотному офицерскому училищу, а затем внезапно переведен к нам. Начиналось время знаменитых политических процессов, и во многих залах (партийных, судебных, полицейских) приводились в постоянное движение поднятые вверх руки, лишавшие обвиняемых доверия, чести и свободы; Алексей был сыном видного партийного функционера, недавно арестованного.
Он появился однажды в нашем отделении, и отвели ему Станину опустевшую койку. Он смотрел на нас так же, как смотрел и я на своих новых товарищей первое время; был он поэтому замкнут, и ребята, узнав, что он член партии (из партии его пока еще не исключили), старались в его присутствии не болтать лишнего.
Вскоре, обнаружив во мне бывшего члена партии, он сделался со мной чуть откровеннее; сообщил мне, что любой ценой должен выдержать великое испытание, уготованное ему жизнью, и навсегда остаться верным партии. Затем прочел мне стихотворение, которое написал (правда, до этого говорил, что никогда не писал стихов), узнав, что должен быть переведен к нам. Там было такое четверостишие:
Если угодно, товарищи,
клеймите позором, плюйте в душу мою.
И опозоренный, и оплеванный всеми, товарищи,
с вами навеки я верным останусь в строю.
Я понимал его, ведь и сам год назад испытывал подобные чувства. Однако сейчас воспринимал все куда менее болезненно: поводырь во вседневность, Люция увела меня из тех мест, где так отчаянно страдали многие Алексеи.
11
Все то время, пока мальчик-командир заводил новые порядки в нашей части, я все больше думал о том, удастся ли мне получить увольнительную; Люциины сотоварки отправились на работу в деревню. Я уже месяц не высовывал носа из казармы; командир отлично запомнил мое лицо и фамилию, а в армии хуже этого ничего не бывает. Теперь он всячески давал мне понять, что каждый час моей жизни зависит от его изволения. А с отпусками теперь вообще дело было швах; еще в самом начале он объявил, что их сподобятся лишь те, кто регулярно участвует в воскресных добровольных сменах; и потому мы участвовали в них все; жалкой была наша жизнь: в течение всего месяца у нас не было ни единого дня вне штольни, а уж если кто-то получал на субботу увольнительную, причем до двух ночи, то в воскресную смену являлся на шахту заспанным и работал точно сомнамбула.
Я тоже стал ходить в воскресную смену, хотя и это не давало никакой гарантии заработать выходной; заслуга воскресной смены могла быть запросто перечеркнута плохо застланной постелью или любым другим прегрешением. Однако упоение властью проявляется не только в жестокости, но и (пусть реже) в милосердии. Мальчик-командир получил большое удовольствие, когда после нескольких недель смог проявить великодушие: наконец за два дня до возвращения Люцииных подружек соизволил дать мне увольнительную. У меня замирало сердце, пока в проходной общежития очкастая старушенция записывала мое имя, а затем разрешила подняться по лестнице на пятый этаж, где я постучал в дверь в конце длинного коридора. Дверь открылась, но Люция спряталась за ней, и я увидел перед собой комнату, которая на первый взгляд вовсе не походила на комнату в общежитии; мне показалось, что я очутился в помещении, подготовленном для какого-то церковного торжества: на столе сиял золотой букет георгинов, у окна высились два больших фикуса, и повсюду (на столе, на кровати, на полу, за картинками) были рассыпаны или засунуты зеленые веточки (аспарагуса, как я выяснил впоследствии), словно ожидался приезд Иисуса Христа на осленке.
Я привлек Люцию к себе (она все еще пряталась от меня за открытой дверью) и поцеловал. Она была в черном вечернем платье и туфельках на высоких каблуках, которые я купил ей в тот же день, что и платье. Словно жрица, стояла она посреди всей этой торжественной зелени.
Мы закрыли за собой дверь, и лишь тогда я понял, что нахожусь на самом деле в обыкновенной комнате общежития и что под этим зеленым покровом нет ничего, кроме четырех железных кроватей, четырех обшарпанных ночных столиков, стола и трех стульев. Но это никак не могло притупить ощущение блаженства, крепнувшее во мне с той минуты, как Люция открыла дверь: на несколько часов я снова был отпущен на волю после целого месяца казармы; и не только это: впервые, спустя целый год, я снова оказался в маленьком помещении; меня обдало пьянящее дыхание интимности, и сила этого дыхания едва не свалила меня с ног.
При всех предыдущих прогулках с Люцией открытость пространства постоянно сочеталась во мне с казармой и с моей тамошней судьбой; вездесущий струящийся воздух невидимыми путами привязывал меня к воротам, на которых была надпись «Служим народу», мне казалось, что нигде нет такого места, где я мог бы хоть на мгновение перестать «служить народу»; целый год я не был в маленькой жилой комнате.
И вдруг весь мир совершенно изменился: на три часа я почувствовал себя абсолютно свободным; я мог, например, без опасений скинуть с себя (вопреки всем армейским предписаниям) не только пилотку и ремень, но гимнастерку, брюки, сапоги, все-все, а захочется, так мог это истоптать на полу; я мог делать все, что мне вздумается, и никто ниоткуда не мог подсмотреть за мной; кроме того, в комнате стояло блаженное тепло, и тепло вместе с этой свободой вступали в голову, как горячее спиртное; я притянул к себе Люцию, обнял ее, стал целовать, потом подвел к убранной зеленью постели. Ветки на постели (покрытой дешевым серым одеялом) волновали мое воображение. Я не мог воспринимать их иначе как свадебные символы: мне пришло в голову (и я еще больше растрогался), что в Люцииной простоте неосознанно резонируют древнейшие народные обычаи: в торжественной обрядности хочется ей проститься со своим девичеством.
Лишь спустя время я осознал, что Люция, пусть и отвечает на мои поцелуи и объятия, сохраняет при этом явную сдержанность. Хоть она и целовала меня жадно, губы ее оставались стиснутыми; хоть и прижималась ко мне всем телом, но, когда я проник рукой под юбку, желая ощутить кожу ее ног, она выскользнула от меня. Я понял, что мой порыв, которому я хотел отдаться в дурманящей слепоте вместе с ней, не находит отклика; помню, как в ту минуту (а прошло разве что минут пять после моего появления в Люцииной комнате) я почувствовал на глазах слезы жалости.
Мы сели рядом (подминая под себя убогие веточки) и стали о чем-то говорить. Спустя недолгое время (разговор не клеился) я снова попытался обнять Люцию, но она снова воспротивилась; я стал с ней бороться, но вскоре понял, что это вовсе не прекрасная любовная борьба, а борьба, превращающая вдруг наши трогательно-нежные отношения во что-то омерзительное: Люция защищалась по-настоящему, яростно, почти с отчаянием, это была взаправдашняя борьба, а никоим образом не любовная игра, и потому я быстро спасовал.
Я пытался было убедить Люцию словами; я разговорился: вероятно, доказывал, что люблю ее, а любовь – это значит отдаваться друг другу всей душой и телом; в этом не было, конечно, ничего оригинального (да и цель моя нисколько не была оригинальной); однако, несмотря на всю банальность, эта аргументация была неопровержима; Люция и не пыталась опровергнуть ее. Она больше молчала и лишь изредка роняла: «Ну пожалуйста, ну прошу тебя» или: «Только не сегодня, только не сегодня…» – и старалась (как трогательно неловка она была в этом) перевести разговор на другие темы.
Я опять пошел в наступление: ты же не из тех девушек, что доведут человека, а потом поднимут на смех, ты же не бесчувственная, не злая… и я снова обнял ее, и снова затеялась короткая и печальная борьба, которая (снова) наполнила меня чувством омерзения, ибо была жестокой и без малейшего следа любви; словно Люция забывала в эти минуты, что с нею здесь я, словно я превращался в кого-то совершенно чужого.
Я снова прекратил свои домогательства, и вдруг мне померещилось, что я понимаю, почему Люция отвергает меня; Господи, как я не понял этого сразу? Ведь Люция ребенок, ведь она, возможно, боится любви; она невинна, ей страшно, страшно по неведению; я тут же решил действовать иначе: в моем поведении не должно быть такого упорства, которое, верно, пугает ее, надо быть нежным, мягким, чтобы телесная близость ничем не отличалась от наших ласк, чтобы была лишь одной из этих ласк. Итак, я перестал домогаться Люции и стал ласкать ее. Целовал, гладил (длилось это ужасно долго, и мне вдруг сделалось не по себе, ведь эта любовная канитель была лишь хитрой уловкой и средством), нежничал с ней (притворствуя и играя), пытался незаметно положить ее навзничь. У меня даже получилось; я ласкал ее грудь (кстати, Люция никогда тому не препятствовала); говорил ей, что хочу быть нежным ко всему ее телу, потому что ее тело – это тоже она, а я хочу быть нежным к ней ко всей, без остатка; мне даже удалось каким-то образом задрать ей юбку и поцеловать выше колен; но дальше я не продвинулся: когда захотел приблизиться к самому лону Люции, она испуганно оттолкнула меня и вскочила с кровати. Я увидел на ее лице какое-то судорожное выражение, какого никогда прежде не замечал.
Люция, Люция, ты стыдишься света? Ты хочешь, чтоб было темно? – спрашивал я, и она, цепляясь за мои вопросы, как за спасительную лесенку, поддакивала, что стыдится света. Я подошел к окну и хотел опустить жалюзи, но Люция сказала: «Нет, не делай этого! Не опускай!» «Почему?» – спросил я. «Боюсь», – сказала она. «Чего ты боишься, темноты или света?» – переспросил я. Она молчала, а потом расплакалась.
Ее сопротивление меня совсем не умиляло, напротив, казалось бессмысленным, обидным, несправедливым, мучительным, я не понимал его. Я спрашивал Люцию, сопротивляется ли она мне потому, что она девушка, или потому, что боится боли, какую я могу причинить ей. На каждый подобный вопрос она послушно кивала, видя в нем оправдывающий ее довод. Я объяснял ей, что это прекрасно, что она девушка и все познает именно со мной, с тем, кто по-настоящему любит ее. «Разве ты не хочешь стать моей женщиной до последней своей клеточки?» Она сказала, что да, что она очень хочет этого. Я снова обнял ее, и снова она воспротивилась мне. Я едва превозмогал злобу. «Почему ты сопротивляешься?» Она сказала: «Ну прошу тебя, потом, да, я хочу, но только потом, в другой раз, не сегодня». – «Но почему?» Она ответила: «Прошу тебя, не сегодня». – «А почему не сегодня?» Она ответила: «Не сегодня». – «А когда? Ты же сама знаешь, что сегодня последняя возможность побыть нам вместе одним, послезавтра приезжают твои соседки. Где мы сможем побыть одни?» – «Ну уж ты что-нибудь придумаешь», – сказала она. «Хорошо, – согласился я. – Придумаю что-нибудь, но обещай мне, что ты пойдешь туда со мной, хотя едва ли там будет такая же приятная комнатка, как эта». – «Не важно, – сказала она. – Не важно, пусть это будет где угодно». – «Хорошо, но обещай мне, что там ты станешь моей женщиной, что не будешь упрямиться». – «Да», – сказала она. «Обещаешь?» – «Да».
Я понял тогда, что обещание – это единственное, чего могу в тот день добиться от Люции. Этого было мало, но хоть что-то. Я подавил неудовольствие, и оставшееся время прошло за разговорами.
Уходя, я стряхнул с формы соринки аспарагуса, погладил Люцию по лицу и сказал, что не буду ни о чем другом думать, кроме как о нашей будущей встрече (и я не лгал).
12
Как-то раз в дождливый осенний день (немного погодя после моей встречи с Люцией) мы строем возвращались со смены в казарму; в промоинах дороги стояли глубокие лужи; заляпанные грязью, измученные, промокшие, мы мечтали об отдыхе. Уже месяц большинство из нас не имело ни одного свободного воскресенья. Но сразу же после обеда мальчик-командир, построив нас, сообщил, что при дневном осмотре нашей казармы обнаружил непорядки. Затем отдал приказ сержантам погонять нас в хвост и в гриву на два часа больше положенного.
Поскольку мы были солдатами без оружия, наше строевое и военное обучение обретало особо бессмысленный характер; у него не было никакой иной цели, кроме одной – обесценить время нашего существования. Припоминаю, как однажды мальчик-командир заставил нас перетаскивать тяжелые бревна из одного конца казармы в другой, а на следующий день снова на прежнее место – и таким тасканием бревен мы занимались десять дней подряд. К подобным упражнениям сводилось, собственно, все, что мы делали на казарменном дворе после смены. На этот раз, правда, мы таскали уже не бревна, а свои усталые тела; поворачивали их кругом и направо, бросали на землю, снова поднимали, гоняли взад-вперед и волочили по земле. После трех часов стройподготовки объявился командир и приказал сержантам отвести нас на физзарядку.
Позади барака была небольшая площадка, где можно было не только играть в футбол, но заниматься гимнастикой и бегать. Сержанты решили устроить с нами эстафетный забег; в роте нас было девять команд по десять человек – иными словами, девять десятичленных эстафет. Сержантам хотелось не только погонять нас как следует, но и доказать, что мы не чета им и нам нечего с ними тягаться – ведь в основном это были ребята от восемнадцати до двадцати со всеми своими мальчишескими замашками; против нас они поставили свою собственную эстафету, в десятку которой вошли младшие сержанты и ефрейторы.
Прошло немало времени, пока они объяснили нам свой план и пока мы взяли его в толк: первая десятка бегунов должна была бежать с одного конца площадки к другому. Там против них будет стоять уже наготове другая десятка, которая побежит туда, откуда выбежала первая, а тем временем подготовится третья десятка, и так поочередно пробегут все девять наших команд. Сержанты разделили нас и разослали в противоположные концы площадки.
После смены и строевой подготовки мы были на исходе сил и при мысли, что придется еще бегать, пришли в бешенство; вдруг меня осенила весьма примитивная идея: всем надо бежать очень медленно! Я поделился своим планом с двумя-тремя дружками, и он тут же, передаваясь из уст в уста, пустил корни – вскоре вся изнуренная масса солдатиков сотрясалась довольным затаенным смехом.
Наконец мы все заняли свои места, приготовившись к началу соревнования, которое по самой сути своей было полной бессмыслицей: при том, что нам предстояло бежать в форме и тяжелых башмаках, на старте мы должны были опуститься на колено; при том, что нам предстояло передавать эстафету самым невообразимым образом (принимающий ее бегун двигался навстречу нам), в руке мы держали настоящие эстафетные палочки, и сигнал к старту был дан нам выстрелом из настоящего пистолета. Ефрейтор на десятой дорожке (первый бегун сержантской команды) понесся на всех парах, тогда как мы поднялись с земли (я был в первом ряду бегунов) и медленно затрусили вперед; продвинувшись метров на двадцать, мы стали давиться от смеха; ефрейтор уже приближался к противоположной стороне площадки, в то время как мы неестественно ровным строем все еще трюхали неподалеку от старта, и, отпыхиваясь, изображали невероятную натугу; солдаты, столпившиеся на обоих концах площадки, начали во все горло подбадривать нас: «Давай жми, давай жми…» На середине площадки мы миновали второго бегуна сержантской команды, который бежал уже навстречу нам и направлялся к черте, откуда мы взяли старт. Наконец мы дотрусили до конца площадки и передали эстафету, но тут уже с противоположной стороны за нашими спинами выбежал с палочкой третий сержант.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?