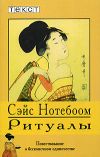Текст книги "Шутка"
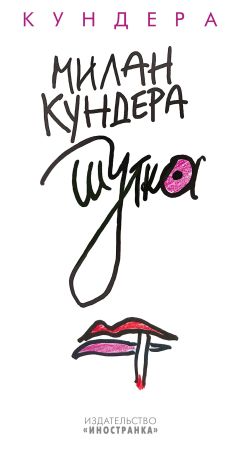
Автор книги: Милан Кундера
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Вспоминаю сейчас об этой эстафете как о последнем великом смотре моих «черных» товарищей. Ребята оказались на редкость изобретательны: Гонза на бегу припадал на одну ногу, все яростно подбадривали его, и он, действительно, геройски доковылял и передал эстафету (под бурные аплодисменты) даже на два шага впереди остальных. Цыган Матлош в течение соревнования раз восемь падал на землю. Ченек бежал, поднимая колени к самому подбородку (это наверняка изматывало его гораздо больше, чем припусти он на самой большой скорости). Никто из них не предал игры: ни вышколенный и покорный автор мирных воззваний Бедржих, трусивший серьезно и достойно в медленном темпе вместе с остальными, ни деревенский Йозеф, ни Павел Пекны, не любивший меня, ни старик Амброз, бежавший, неловко выпрямившись и заложив руки за спину, ни рыжий Петрань, что визжал пронзительным голосом, ни венгр Варга, на бегу кричавший «ура-а!», никто из них не испортил этой великолепной и нехитрой инсценировки, которая заставила нас, стоявших поблизости, покатываться со смеху.
Затем мы увидели, как от бараков к площадке подходит мальчик-командир. Один из младших сержантов двинулся навстречу ему доложить о происходящем. Командир, выслушав его, отошел к краю площадки – наблюдать за нашим соревнованием. Сержанты (их эстафета уже давно победно добежала до цели) встревожились и стали кричать нам: «Живей! Пошевеливайтесь! Жмите!» – но их подбадривания совершенно потонули в наших мощных поощрительных выкриках. Сержанты, совсем растерявшись, призадумались, не прервать ли вообще соревнования; они шныряли друг к другу, советовались между собой, искоса посматривали на командира, но командир, даже не кинув взгляда в их сторону, холодно следил за соревнованием.
Наконец настал черед последней шеренги наших бегунов; в ней был Алексей; мне не терпелось посмотреть, как он побежит, и я не ошибся в своем ожидании; намереваясь завалить нашу игру, он рванул изо всей мочи вперед и уже метров через двадцать опередил остальных по меньшей мере на пять. Но потом произошло нечто удивительное: его скорость убавилась, и опережение продолжало оставаться тем же; я вмиг понял, что Алексей не может испортить нашу игру, даже если бы и хотел: ведь это был щуплый паренек, которого сразу же после двух дней работы поневоле пришлось перевести на более легкую – в чем только душа держалась! В минуту, когда я понял это, вдруг подумалось, что именно его бег венчает всю нашу потеху; Алексей надсаживался что есть силы, а при этом был всего лишь в каких-то пяти шагах от ребят, которые смеха ради семенили за ним в том же темпе; сержанты и командир, несомненно, считали, что резкий старт, который взял Алексей, такая же комедия, как и деланная хромота Гонзы, и падения Матлоша, и наши подначивания. Алексей бежал со сжатыми кулаками на той же скорости, что и ребята за ним, которые лишь изображали великое усердие и оттого демонстративно пыхтели. Один Алексей чувствовал настоящую боль в паху и с таким невероятным усилием преодолевал ее, что по лицу его стекал настоящий пот; когда все они достигли середины площадки, Алексей еще сбавил темп и шеренга медленно бегущих озорников мало-помалу стала его догонять; в тридцати метрах от цели они опередили его; а в двадцати от цели он и вовсе перестал бежать и весь оставшийся путь прошел прихрамывающей походкой, держа руку с левой стороны паха.
Потом командир приказал нам построиться. Спросил, почему мы бежали так медленно. «Мы были усталые, товарищ капитан». Он велел поднять руку всем тем, кто был усталым. Мы подняли руку. Я не спускал глаз с Алексея (он стоял в строю передо мной); он был единственный, кто не поднял руки. Но командир не заметил его. Он сказал: «Что ж, хорошо, все, значит». «Нет», – отозвался голос. «Кто не был усталым?» Алексей сказал: «Я». «Вы не были усталым? – взглянул на него командир. – Как же получилось, что вы не были усталым?» «Потому что я коммунист», – ответил Алексей. В ответ на эти слова рота загудела утробным смехом. «Так это вы, кто пришел к цели последним?» – спросил командир. «Да, я!» – ответил Алексей. «И вы не были усталым», – сказал командир. «Нет», – заявил Алексей. «Если вы не были усталым, значит, вы умышленно саботировали занятия. Даю вам две недели „губы“ за попытку к бунту. Вы все были усталые, выходит, у вас есть оправдание. Поскольку ваша выработка на рудниках ни черта не стоит, устаете вы, вероятно, на прогулках. В интересах вашего здоровья в роте запрещаются отпуска на два месяца».
До того как уйти на «губу», Алексей решил поговорить со мной. Он упрекнул меня, что я веду себя не как коммунист, и спросил, сверля меня строгим взглядом, за социализм ли я или нет. Я ответил ему, что я за социализм, но что здесь, в казарме, среди «черных», это абсолютно не важно, так как здесь иное деление, чем за пределами казармы: на одной стороне здесь те, кто выпустил из рук свою судьбу, а на другой – те, кто зажал ее в кулаке и делает с ней что вздумается. Но Алексей не согласился со мной: граница между социализмом и реакцией проходит, сказал он, повсюду; наша казарма – не что иное, как средство, которым мы защищаемся от врагов социализма. Я спросил, как, по его мнению, мальчик-командир защищает социализм от врагов, если именно его, Алексея, посылает на две недели на «губу» и обращается с людьми так, чтобы превратить их в самых что ни на есть заклятых врагов социализма. Алексей признался, что командир ему не нравится. Но когда я сказал ему, что проходи разделяющая черта между социализмом и реакцией и в казарме, то он, Алексей, вообще никогда не был бы здесь, он резко ответил мне, что ему по всем статьям положено быть здесь. «Мой отец был арестован за шпионаж. Понимаешь, что это? Как может партия доверять мне? Партия обязана не доверять мне!»
Потом поговорил я и с Гонзой – пожаловался (думая о Люции), что теперь не выйти нам из казармы целых два месяца. «Болван, – сказал он мне, – чего сдрейфил? Теперь будем прогуливаться еще чаще, чем раньше».
Веселый саботаж эстафетного бега усилил в моих товарищах чувство солидарности и пробудил в них необыкновенную предприимчивость. Гонза создал небольшой комитет, который начал быстро изыскивать возможности тайных отлучек из казармы. В течение двух дней все было подготовлено; учредили секретный фонд для подкупа; дали барашка в бумажке двум сержантам в общежитии; в самом конце казармы нашли подходящее место, где подрезали в ограде проволоку. В том месте располагался медпункт, а первые домики деревни отстояли от ограды всего метров на пять, не более; в ближайшем домике жил горняк, которого мы знали по шахте; ребята договорились с ним, что он будет оставлять свою калитку незапертой; таким образом, солдат должен был незаметно прошмыгнуть к ограде, затем быстро пролезть через лазейку и пробежать эти пять метров; как только он оказывался за калиткой домика, он был уже вне опасности: пройдя по дому насквозь, он попадал на другую сторону окраинной улицы.
Уход из казармы был сравнительно безопасным, однако нельзя было и злоупотреблять им; уйди из казармы в один день слишком много солдат, их отсутствие было бы с легкостью обнаружено; поэтому созданный по воле Гонзы комитет должен был регулировать отлучки и определять их очередность.
Однако, прежде чем дошла до меня очередь, вся затея Гонзы потерпела крах. Командир ночью лично осмотрел общежитие и обнаружил, что три солдата отсутствуют. Он накинулся на сержанта (дежурного по комнате), не доложившего об отсутствии солдат, и, метя не в бровь, а в глаз, спросил его, сколько он за это получил. Сержант, подумав, что командиру все известно, даже не попытался отпираться. К командиру был вызван Гонза, и сержант при очной ставке подтвердил, что получал от него деньги.
Мальчик-командир объявил нам шах и мат. Сержанта, Гонзу и трех солдат, которые той ночью были в самоволке, отправил в военную прокуратуру. (Я даже проститься не успел со своим самым близким товарищем, все свершилось мгновенно, в течение одного утра, когда мы были в смене; лишь много позже я узнал, что все понесли наказание, Гонзу осудили на год лишения свободы.) Построившейся роте командир объявил, что время запрещенных отпусков продлевается еще на два месяца и вводится режим дисциплинарной роты. Более того, он распорядился поставить две караульные вышки по углам лагеря, прожекторы и двух конвойных, которые бы со своими овчарками охраняли казарму.
Удар командира был столь внезапен и столь успешен, что у нас у всех создалось впечатление, что предприятие Гонзы кто-то заложил. Нельзя сказать, что среди «черных» наушничество расцветало каким-то особо пышным цветом; все мы дружно презирали его, однако знали, что оно постоянно присутствует как некая возможность, ибо является самым действенным средством, предлагаемым нам для улучшения наших условий: попасть вовремя домой, получить приличную характеристику и хоть как-то спасти свое будущее. Мы старались удержаться (подавляющим большинством) от этой подлейшей подлости, но не могли удержаться от того, чтобы слишком легко не подозревать в ней других.
И на этот раз подозрение незамедлительно дало ростки и, мигом превратившись в ощущение массовой уверенности (хотя, конечно, налет командира можно было объяснить не только наушничеством), с неоспоримой определенностью пало на Алексея. Он отбывал тогда последние дни «губы»; само собой, ежедневно ходил с нами в смену и на шахте был все время при нас; поэтому все считали, что у него была полная возможность прослышать что-то («своими фискальскими ушами») о Гонзовой затее.
С несчастным очкариком-студентом творились теперь ужасные вещи: старшой (один из нас) снова стал отводить ему самые тяжелые участки работы; то и дело у него исчезал инструмент, и ему приходилось отстегивать за него из своей зарплаты; он без конца выслушивал намеки и оскорбления и выносил множество мелких гадостей; на деревянной стене, к которой была приставлена его койка, кто-то большими черными буквами (дегтем) намалевал: ОСТОРОЖНО, КРЫСА!
Как-то вечером, вскоре после того как Гонзу с остальными тремя виновниками увели под конвоем, я заглянул в комнату нашего отделения; она была пуста, и только Алексей, склонившись над своей койкой, заправлял ее. Я спросил, почему он это делает. Он ответил, ребята по нескольку раз на дню расшвыривают его постель. Я сказал, все убеждены, что это он заложил Гонзу. Он возражал, едва не плача; говорил, что ни о чем не знал и вообще никогда бы никого не закладывал. «Почему ты утверждаешь, что никогда бы не закладывал? – спросил я. – Тебя считают союзником командира. Из этого логически вытекает, что ты и заложить можешь». – «Нет, я не союзник командира! Командир саботажник!» – крикнул он, и голос у него сорвался. А потом он изложил мне свою точку зрения, к которой пришел, сидя на «губе» и имея там возможность подолгу размышлять в уединении: части «черных» солдат партия создала для людей, которым до поры до времени не может доверить оружие, но которых хочет перевоспитать. Классовый враг, однако, не дремлет и во что бы то ни стало намерен помешать процессу перевоспитания; он стремится к тому, чтобы в «черных» солдатах постоянно разжигалась яростная ненависть к коммунизму и они были бы резервом контрреволюции. И что мальчик-командир своим обращением с солдатами пробуждает в них ярость – это тоже, дескать, одно из звеньев вражеского заговора. Трудно даже себе представить, сказал он, куда только не пролезли враги партии. Командир – наверняка вражеский агент. И еще добавил, что, осознавая свой долг, написал о деятельности командира подробный отчет. Я удивился: «Что? Что ты написал? И куда ты это послал?» Он ответил, что жалобу на командира направил в партийную инстанцию.
Вышли мы из барака вместе. Он спросил, не боюсь ли я показываться в его обществе народу. Я сказал ему, что он болван, коли задает такой вопрос, и болван вдвойне, коли думает, что его письмо дойдет до адресата. Он ответил, что он коммунист и при всех обстоятельствах должен поступать так, чтобы не было потом мучительно стыдно. И снова он напомнил мне, что я тоже коммунист (пусть и исключенный из партии) и что должен был бы вести себя иначе, чем веду себя: «Мы как коммунисты ответственны за все, что здесь происходит». Мне стало смешно; я сказал ему, что ответственность немыслима без свободы. Он же ответил, что чувствует себя достаточно свободным для того, чтобы поступать как коммунист; он должен доказать, и он докажет, что он коммунист. Когда Алексей произносил это, у него дрожал подбородок; еще сегодня, спустя годы, вспоминаю эту минуту и осознаю гораздо яснее, чем тогда, что Алексею было немногим больше двадцати, что это был всего лишь мальчик, юноша и его судьба болталась на нем, как костюм богатыря на коротышке.
Помню, вскоре после моего разговора с Алексеем Ченек спросил меня, зачем я, дескать, разговариваю с этой крысой. Я ответил ему, что Алексей идиот, но вовсе не крыса, и добавил, что Алексей сообщил мне о своей жалобе на командира. На Ченека это не произвело ровно никакого впечатления. «Что он идиот – не уверен, – сказал он, – но что крыса – знаю наверняка. Кто может принародно откреститься от родного папани, тот крыса». Я не понял его; он удивился моему неведению; сам политрук показывал им старую, многомесячной давности газету, где напечатано было заявление Алексея: он-де отрекается от своего отца, который предал и оплевал самое святое на свете, что только есть у его сына.
В тот день на караульной вышке (недавно поставленной) впервые появились прожекторы и осветили потемневший военный лагерь; вдоль проволочной ограды ходил конвоир с овчаркой. На меня навалилась страшная тоска: я остался без Люции и знал, что не увижу ее целых два месяца. В тот же вечер я написал ей длинное письмо; писал, что долго не увижу ее, что нам запрещено выходить из казармы и как жалко, что она отвергла то, о чем я так мечтал и что в воспоминаниях помогло бы мне пережить эти томительные недели. Письмо я бросил в ящик, а на следующий день после обеда мы упражнялись в непременных «кругом», «шагом марш» и «ложись».
Исполнял я все эти команды совершенно автоматически и почти не замечал ни подававшего их сержанта, ни своих марширующих и падающих на землю товарищей; не обращал я внимания и на окружающее: с трех сторон бараки, а с одной – проволочное ограждение, за которым тянулось шоссе. Время от времени вдоль проволоки кто-то проходил, время от времени кто-то останавливался (по большей части дети, одни или с родителями, объяснявшими им, что за проволокой солдаты и что у них учения). Все это превратилось для меня в неживую кулису, в декорацию (все происходящее за проволокой было декорацией), поэтому я кинул взгляд на изгородь, лишь когда кто-то вполголоса крикнул в ту сторону: «Чего глазеешь, киска?»
Лишь тогда я увидел ее. Это была Люция. Она стояла у ограды в коричневом пальтеце, стареньком и поношенном (конечно, при наших летних покупках мы забыли, что лето кончится и придут холода), и в черных вечерних туфельках на высоких каблуках (мой подарок), которые так не вязались с ветхостью пальтеца. Она стояла неподвижно у проволочной ограды и смотрела на нас. Солдаты чем дальше, тем заинтересованней комментировали ее на удивление терпеливый вид, вкладывая в свои реплики все сексуальное отчаяние людей, содержащихся в насильственном целибате. Сержант тоже заметил рассеянность солдат, вскоре понял и ее причину; должно быть, в нем вспыхнула злость на свою собственную беспомощность: он не мог отогнать от проволоки девушку; за пределами проволочного ограждения было царство относительной свободы, куда не долетали его команды. Он лишь приказал солдатам прекратить всякие реплики и, повысив голос, ускорил темп обучения.
Люция временами прохаживалась вдоль ограды, временами совсем скрывалась из глаз, а потом вдруг снова возвращалась к месту, откуда было видно ее. Строевая подготовка кончилась, но я так и не смог подойти к ней – нам приказано было идти на полит-занятия, где мы долго выслушивали фразы о лагере мира и о лагере империализма; лишь час спустя мне удалось выскочить во двор (уже смеркалось) и поглядеть, по-прежнему ли Люция за оградой; она была еще там, и я побежал к ней.
Она убеждала меня не сердиться на нее, говорила, что любит меня, ее мучит, что я грущу из-за нее. Я сказал, что не знаю, когда мы сможем увидеться. Она ответила, что это не имеет значения, она будет ходить ко мне сюда. (Мимо прошли солдаты и отпустили какую-то пошлость.) Я спросил, не помешает ли ей, если солдаты будут что-то кричать в ее адрес. Она сказала, не помешает, потому что она любит меня. Она просунула мне сквозь проволоку стебель розы (зазвучала труба: нас звали на построение); мы поцеловались в глазок проволочной ограды.
13
Люция приходила к казарменной ограде почти изо дня в день, пока я работал в утреннюю смену и, стало быть, все остальное время проводил в казарме; что ни день, я получал букетик (однажды при осмотре чемоданчика сержант вывалил все на пол) и обменивался с Люцией одной-двумя фразами (фразами абсолютно банальными, нам в общем-то не о чем было говорить; мы не обменивались мыслями или новостями, а лишь уверяли друг друга в единственной многажды высказанной правде); к тому же я не переставал почти ежедневно писать ей; это было время нашей самой пламенной любви. Прожекторы на караульной вышке, собаки, лающие под вечер, щеголеватый мальчик, который всем этим командовал, не занимали слишком много места в моих мыслях, которые в основном сосредотачивались на появлении Люции.
И надо сказать, я был очень счастлив внутри казармы, охраняемой собаками, и внутри штольни, где всем телом налегал на тряский отбойный молоток. Я был счастлив и уверен в себе, ибо в Люции было мое богатство, каким не обладал никто из моих товарищей, да и никто из командиров: я был любим, любим на глазах у всех, любим демонстративно. Пусть Люция и не являла идеал женщины для моих товарищей, пусть ее любовь выражалась довольно странно, как они считали, но все-таки это была любовь женщины, и это вызывало удивление, ностальгию и зависть.
Чем дольше мы были отрезаны от мира и от женщин, тем больше говорилось о женщинах, во всех подробностях, во всех деталях. Вспоминались родинки, рисовались (карандашом на бумаге, киркой на глине, пальцем на песке) линии их грудей и зада; шли споры о том, какой зад вспоминаемых и отсутствующих женщин имеет самую желанную форму; точно воспроизводились выражения, сопутствующие соитию; все это варьировалось в новых и новых повторах и всякий раз дополнялось последующими нюансами. И, конечно же, товарищи приставали ко мне с вопросами и с тем большим любопытством ждали моих ответов, что девушку, о которой я буду говорить, видели теперь ежедневно и, стало быть, могли хорошо представить ее и увязать эту зримую девичью внешность с моими рассказами. Трудно было отказать в этом товарищам, и мне ничего не оставалось, как расписывать нашу близость; я рассказывал о Люцииной наготе, которой никогда не видал, о любовной страсти, которой никогда не испытывал, и передо мной вставал вдруг тайный и детальный образ ее тихой неги.
Как все было, когда я любил ее впервые?
Рассказывая, я видел это как самую реальную реальность; это было в общежитии, в ее комнатке; она разделась передо мною покорно, преданно и все-таки с некоторым насилием над собой, она же была девушкой из деревни, а я первый мужчина, который видел ее обнаженной. И меня до безумия возбуждала именно эта преданность, смешанная со стыдом; когда я подошел к ней, она съежилась и закрыла руками лоно…
Почему она все время носит черные туфли на высоких каблуках?
Я сказал, что купил их ей затем, чтобы она ходила в них передо мною обнаженная; она стеснялась, но исполняла все мои желания; я всегда оставался как можно дольше одетым, а она ходила нагая в этих туфлях (мне страшно нравилось, что она обнажена, а я одет!), подходила к шкафу, где было вино, и, нагая, наливала мне…
Итак, когда Люция приходила к ограде, на нее смотрел не только я, но вместе со мной ее пожирали глазами по меньшей мере с десяток моих друзей, которые досконально знали, как Люция любит, что при этом говорит, как вздыхает, и всегда многозначительно отмечали, что она опять в черных туфельках на высоких каблуках, и в их воображении рисовалось, как она, обнаженная, ходит в них по маленькой комнатке.
Любой из моих товарищей мог вспоминать о той или иной женщине и таким образом делиться ею с другими, и только я, единственный, мог, кроме рассказов, предоставить им возможность и смотреть на эту женщину; лишь моя женщина была реальной, живой и настоящей. Товарищеская солидарность, которая принудила меня детально вырисовывать образ Люцииной наготы и ее умения любить, привела к тому, что моя мечта о Люции болезненно сконкретизировалась. Пошлости товарищей, комментирующих Люциины приходы, меня нимало не возмущали; никто из них тем самым не отнимал у меня Люции (к тому же, ото всех и от меня ее охраняла проволочная ограда и собаки); напротив, все отдавали ее мне: все заостряли для меня ее будоражащий образ, все творили его вместе со мной и сообщали ему с ума сводящую соблазнительность; я сдался на волю товарищей, и мы все вместе сдались мечте о Люции. Подходя к Люции, отделенной проволокой, я чувствовал, что весь дрожу; я даже говорить не мог от наваждения; невозможно было понять, что я встречался с нею полгода как робкий студент и совсем не видел в ней женщины; я готов был отдать все за единственное обладание ею.
Тем самым я не хочу сказать, что мое отношение к ней стало грубее, проще, что в нем поубавилось нежности. Нет, я бы сказал, это был единственный раз в моей жизни, когда я переживал тотальное томление по женщине, в котором ожило все, что есть во мне: душа и тело, вожделение и нега, тоска и безумная жизнеспособность, жажда грубости и жажда утешения, жажда мига наслаждения и вечного обладания. Я весь был взбудоражен, весь напряжен, весь сосредоточен и вспоминаю теперь об этих минутах, как о потерянном рае (диковинный рай, который обходит конвойный с собакой и в котором рявкает приказы младший сержант).
Я решил сделать все возможное, чтобы встретиться с Люцией вне казармы; я помнил ее обещание, что в следующий раз она «не будет упрямиться» и встретится со мной, где я захочу. Она не раз подтвердила это и при наших коротких разговорах сквозь проволоку. Значит, надо было только отважиться на рисковое дело.
Я вмиг все продумал. После Гонзы у нас остался план побегов, который командир не раскрыл. Проволока все еще была незаметно надрезана, и договор с горняком, жившим напротив казармы, пока не был расторгнут, достаточно было разве его обновить. Казарма, надо сказать, охранялась образцово, и отлучка посреди бела дня была совершенно немыслима. С наступлением темноты казарму обходил патруль с собаками, светили прожекторы, однако все это было заведено скорее ради эффекта и удовольствия командира, чем из чьего-то подозрения, что мы можем пуститься в бега; раскрытый побег угрожал военным судом, и рисковать этим было слишком опасно. Именно потому я решил, что побег, пожалуй, удастся.
Речь шла лишь о том, чтобы найти для себя и Люции подходящее пристанище, которое по возможности было бы не слишком далеко от казармы. Горняки из ближайшей округи большей частью работали на том же руднике, что и мы, и с одним из них (пятидесятилетним вдовцом) вскоре я сумел договориться (стоило это сотни три), что он предоставит мне квартиру. Дом, где он жил (двухэтажный серый), был виден из казармы; я показал его Люции от ограды и изложил свой план; она не обрадовалась; предупредила, что ради нее я не должен подвергать себя опасности, и согласилась лишь потому, что не умела возражать.
Затем настал условленный день. Начался он довольно странно. Сразу же по возвращении со смены мальчик-командир отдал приказ построиться и произнес перед нами свою очередную речь. Обычно он пугал нас войной, которая того и гляди вспыхнет, и еще тем, как наше государство расправится с реакционерами (под ними он разумел прежде всего нас). На сей раз он обогатил свое выступление новыми мыслями: классовый враг проник прямо в коммунистическую партию; но пусть помнят шпионы и предатели, что со скрытыми врагами расправа будет во сто крат беспощаднее, чем с теми, кто не скрывает своих взглядов, ибо скрытый враг – паршивое сучье племя. «И один из них находится среди нас», – заключил мальчик-командир и вызвал из строя мальчика Алексея. Затем извлек из кармана какие-то листки и сунул их ему под нос. «Тебе знакомо это послание?» – «Знакомо», – ответил Алексей. «Пес паршивый! И вдобавок предатель и фискал. Однако собака лает, ветер носит». И перед глазами Алексея письмо разорвал.
«У меня для тебя еще одно письмо, – сказал он чуть погодя и подал Алексею открытый конверт: – Читай вслух!» Алексей вытащил из конверта бумагу, пробежал глазами – и не произнес ни слова. «Читай!» – повторил командир. Алексей молчал. «Будешь читать или нет?» – спросил командир снова, но, поскольку Алексей продолжал молчать, приказал: «Ложись!» Алексей упал на грязную землю. Мальчик-командир с минуту постоял над ним, и мы все думали, что теперь ничего не может последовать, кроме как «встать», «ложись», «встать», «ложись», и что Алексей будет вынужден падать и вставать, падать и вставать. Но командир, так и не отдав больше команды, отвернулся от Алексея и стал медленно обходить первую шеренгу солдат, окидывая взглядом их одежду; за две-три минуты он дошел до конца шеренги, а затем снова неторопливо вернулся к лежащему солдату. «Ну, теперь читай», – сказал он, и, действительно, Алексей приподнял над землей заляпанный грязью подбородок, вытянул перед собой руку, в которой все это время сжимал письмо, и, лежа на животе, стал читать: «Сим уведомляем, что пятнадцатого сентября тысяча девятьсот пятьдесят первого года вы были исключены из Коммунистической партии Чехословакии. От имени областного комитета…» Командир отослал Алексея назад в отделение, передал нас младшему сержанту, и началась строевая.
После строевой были политзанятия, а около половины седьмого уже стемнело.
Люция показалась у ограды; я подошел к ней, она лишь кивнула, мол, все в порядке, и удалилась. После ужина сыграли зорю, и мы отправились спать. На своей койке я ждал минуты, когда уснет младший сержант – старшой по нашей комнате. Затем обул «поллитровки» и, как был, в длинных белых подштанниках и ночной рубахе, вышел из комнаты. Прошел по коридору и оказался во дворе; в моем ночном одеянии меня изрядно пробирал холод. Место, где я собирался пролезть, находилось за медпунктом, и это было весьма кстати: попадись мне кто по пути, я сказал бы, что мне плохо и я иду к врачу. Но мне никто не попался; я обошел медпункт и спрятался в тень от его стены; прожектор лениво бросал свет на одно и то же место (караульный на вышке, видимо, относился к своим обязанностям не слишком серьезно), и участок двора, по которому мне предстояло пройти, утопал во тьме; я стоял, прижавшись к стене медпункта; теперь важно было одно: не наткнуться на конвойного с овчаркой, всю ночь шагавшего вокруг ограды; стояла тишина (опасная тишина, мешавшая мне ориентироваться); я обождал минут десять, пока не услышал лай собаки; он доносился откуда-то сзади, с другой стороны казармы. Тогда я отпрянул от стены и побежал (метров пять) к проволоке, которая после Гонзовой обработки чуть отставала от земли. Я пригнулся и подлез; теперь, не колеблясь, надо было сделать еще пять шагов; и вот я уже у деревянного заборчика шахтерского жилища; все в полном порядке, калитка была открыта, и я очутился в маленьком дворике одноэтажного домика, окно которого (с опущенными жалюзи) еще светилось.
Я постучал в него, в двери тотчас показался дюжий мужик и громким голосом пригласил меня войти. (Я, откровенно сказать, испугался этой громкости, памятуя, что всего лишь в пяти метрах от казармы).
Дверь вела прямо в комнату; я остановился на пороге, несколько смутившись: в комнате вокруг стола (на нем стояла открытая бутылка) сидели мужичков пять и попивали; увидев меня в исподнем, они дружно расхохотались; посчитав, верно, что в ночной рубахе мне холодно, с ходу налили рюмку; я пригубил: разбавленный спирт; под их понукания рюмку выпил залпом, закашлялся; это снова вызвало дружный смех, и мне предложили сесть; стали расспрашивать, как мне удался «переход через границу», и снова, уставившись на мое смешное одеяние, залились смехом, называя меня «подштанниками в бегах». В основном это были шахтеры в возрасте от тридцати до сорока, видимо, собиравшиеся здесь довольно часто; они пили, но пьяны не были; после первоначального изумления я вскоре почувствовал, как в их беззаботном присутствии избавляюсь от ощущения подавленности. Я дал налить себе еще рюмку этого необыкновенно крепкого и едкого питья. Хозяин дома тем временем вышел в соседнюю комнату и тут же вернулся с темным мужским костюмом. «Хорош будет?» – спросил он. Шахтер сантиметров на десять был выше меня и к тому же намного толще, но я сказал: «Должен быть хорош». Я надел брюки на подштанники, да вот горе: они падали, если не придерживать их в талии рукой. «Есть у кого пояс?» – спросил мой благодетель. Пояса ни у кого не было. «Ну хоть веревку», – сказал я. Веревка нашлась, и вопрос с брюками кое-как был улажен. Я надел пиджак, и ребята решили, что я похож (почему – не совсем ясно) на Чарли Чаплина, недостает мне только котелка и тросточки. И чтоб уж сполна их порадовать, я встал пятками вместе, носками врозь; темные брюки собирались гармошкой над жестким подъемом башмаков-«поллитровок». Дяденьки были в восторге: заявили, что сегодня ни одна женщина не устоит передо мной и исполнит всякое мое желание. Налили мне третью рюмку спирта и выпроводили на улицу. Хозяин уверил меня, что я могу постучать в окно в любой час ночи, как только мне понадобится переодеться.
Я вышел в темную, с редкими фонарями окраинную улицу. Прошло минут десять, пока я обогнул стороной всю казарму и оказался на той улице, где ждала меня Люция. Чтобы попасть туда, надо было миновать освещенные ворота нашей казармы; стало немного не по себе, но, как выяснилось, совершенно напрасно: гражданская одежда настолько защищала меня, что солдат, стоявший у ворот, и бровью не повел; и так, без всяких препятствий я достиг условленного дома. Открыл наружную дверь (ее освещал одинокий уличный фонарь) и пошел по памяти (в этом доме я никогда не был, но помнил все по описаниям шахтера): лестница влево, второй этаж, дверь против лестницы. Я постучал. Раздался звук ключа в замке, открыла Люция.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?