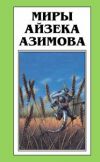Текст книги "Нахалки"
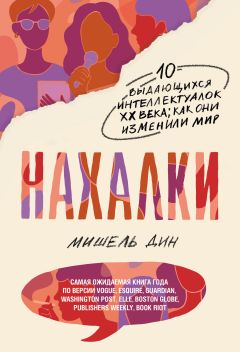
Автор книги: Мишель Дин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Трудно себе представить, что такой отзыв мог Уэст задеть. К этому времени она давно перестала считаться с тем, что можно и чего нельзя делать «девчонкам». Ее не волновало, производит ли она нужное впечатление на нужных людей. И ни на секунду она не задумывалась, какого именно почтения требуют писатели к себе и своему творчеству.
И вообще, ей были хорошо знакомы муки писательского творчества. Она сама писала прозу, опубликовала десять романов, благосклонно принятых критиками. «Нет в современной литературе ничего другого столь строго достоверного, столь сурово и благородно красивого, столь торжествующего в своем реализме экзальтированной духовности», – писал один книжный обозреватель о ее первой книге «Возвращение солдата», вышедшей в восемнадцатом году. Однако даже в хвалебных отзывах чувствовалось разочарование, потому что репутация Уэст опережала ее. «Роману лишь немного не хватает до совершенства, на которое способна мисс Уэст», – писала газета Sunday Times о романе двадцатого года «Судья». Никого не удивляло, что Уэст может написать хороший роман, но от нее ожидали великого.
«Несмотря на остроумие и проблески красоты в ее изысканном, неторопливом слоге, читатель запросто может в середине книги выброситься на берег, устав лавировать между мелями психологии», – жаловался писатель В. С. Притчетт на роман «Гарриет Хьюм», вышедший в двадцать девятом году.
Это цена, которую приходится платить признанному критику, захотевшему стать писателем. У читателя складывается определенный образ автора, и все, что пишет он дальше, с этим образом сравнивается. Паркер с этим боролась, хотела, чтобы ее знали как автора художественной прозы, а не эпиграмм и стихов, но результата не добилась. Интеллектуальная выверенность прозы Уэст сыграла с ней злую шутку: читатели недоумевали, куда исчезли привычные отступления.
Разумеется, журналистика оплачивалась лучше романов, а поддержка Уэллса обеспечивала далеко не все расходы. Благодаря успеху в New Republic Уэст стала писать и для New Statesman, а также для менее известных газет и журналов вроде Living Age и South China Morning Post. Уэст не была особо переборчивой насчет того, где печататься: деньги были нужны, а мнений у нее всегда хватало.
Не была она переборчивой и в выборе тем. Обычно, выбрав книгу аэродромом взлета, приземлялась она где-нибудь очень далеко. Она писала о военных речах Бернарда Шоу. О достоевщинке в разговоре с пьяным пассажиром ночного поезда. Порицала одного из ранних биографов Диккенса, постоянно вставлявшего в текст описания погоды. Ругала романы, написанные о деревенских бедняках: «Они там скучные и ненастоящие».
Еще она чувствовала призвание писать о женщинах и, когда бушевала Первая мировая, об их месте на войне. Она опубликовала в Atlantic очередную пламенную проповедь, на этот раз о том, каким образом работа медсестер реализует идеалы феминизма и делает женщин полноправными участницами войны. «Не феминизм дал храбрость этим женщинам: храбрыми они были всегда, – писала она. – Но эта храбрость дала ему укорениться».
В своих статьях она держалась уверенно, но ее личная жизнь дала трещину. В отношениях с Уэллсом постоянно возникали сложности. У него то и дело появлялись новые любовницы, и хотя это давно уже никого не удивляло, неприятные сцены порой происходили. Худшей из них стало появление молодой австрийской художницы с запоминающейся фамилией Геттенригг на пороге квартиры Уэст в июне двадцать третьего. Вечером того же дня австрийка попыталась покончить с собой в доме Уэллса. Уэст с полным самообладанием ответила на вопросы корреспондентов: «Миссис Геттенригг не была агрессивна и не устраивала сцен. Она умная женщина и талантливая художница, и мне жаль, что она оказалась в подобной ситуации».
Но себя ей тоже становилось жаль. В письмах друзьям и родственникам она стала открыто жаловаться: «Уэллс постоянно мешает мне работать». Его властная манера, которая когда-то пленила ее, стала казаться обычным эгоцентризмом. Ученик усвоил все уроки учителя, и, хотя Уэст боялась, что ей не хватит на жизнь без щедрости Уэллса (на тот момент у него не было юридических обязательств перед Ребеккой и Энтони), ситуация стала нетерпимой.
Их роман сыграл свою роль в ее жизни, положив начало карьере ее мечты. Но теперь она едва ли не превосходила Уэллса известностью, находясь на пике продуктивности и в самом расцвете таланта, а у самого Уэллса отдача стала падать. Уэст больше в нем не нуждалась.
Возможность расстаться без драмы представилась в форме лекционного турне по Америке. Уэст отправилась за океан в августе двадцать третьего, оставив Энтони с бабушкой. В Америке она оказалась популярна, и свобода, которую давал образ эмансипированной незамужней женщины, ее устраивал. Американская пресса была очарована ею – она была олицетворением нового сорта женщин – независимо мыслящих. Репортеры были в восторге от ее готовности отвечать на вопросы на эти темы. К примеру, на вопрос The New York Times, почему так стремительно растет число писательниц, не связано ли это с войной, Уэст покачала головой:
Верно, что женщины помоложе сейчас «напирают» на поприще романисток, но для роста их числа война нужна не была. Не была нужна война, и чтобы показать им открытый путь к самовыражению. Не военная лихорадка или послевоенное успокоение открыли им эту дорогу. Это был результат той силы, которую английские женщины создавали годами: духа свободы, духа феминизма, если хотите. Они боролись не просто за право голоса – не забывайте об этом никогда. Это была борьба за место под солнцем, за право жить в искусстве, в науке, в политике, в литературе.
Она добавила, что вряд ли молодость здесь настолько существенна: на самом деле творческая сила лишь растет со временем, и привела в пример Вирджинию Вулф, Гертруду Стайн и Кэтрин Мэнсфилд. «Понимаете, женщина после тридцати становится сама собой, – заявила она, – и после вступает в период расцвета. Жизнь начинает для нее что-то значить – в ней появляется смысл».
Казалось, Уэст говорит о себе. Ей самой уже было тридцать, и уж что-что, а место под солнцем она себе завоевала. Где бы ни была она в Америке, интерес публики к ней не ослабевал. Как и Паркер, она была знаменитой писательницей. Она читала лекции в женских клубах по всей стране, расписание у нее было забито под завязку. Ее отношение к Америке было прохладнее, чем у Америки к ней: Нью-Йорк «ослепляет богатством», но «утомляет однообразием», писала она в одном из четырех своих путевых очерков в New Republic.
Были и безоговорочно положительные моменты: ей понравились американские железные дороги и Миссисипи. Но в письмах она отзывалась очень резко, особенно об американских женщинах – «невообразимо неряшливых», «отвратительно запущенных», «неимоверно неинтересных даже в вечерних нарядах».
Ее известность была того сорта, который доставляет мало неудобств: она оставляла Уэст возможность не раскрывать подробности личной жизни, хотя имя Уэллса в связи с ней упоминалось часто. Иногда она называла себя его «доверенным секретарем». Ни имя Энтони, ни сам факт его существования ни разу не всплыли в беседах. Однако связь Уэст и Уэллса и их ребенок для писателей и интеллектуалов Америки, с которыми встречалась Ребекка, были секретом Полишинеля.
Среди них были и участники алгонкинского «Круглого стола», в том числе Александр Вулкотт. С Фицджеральдами Уэст тоже встречалась. Не совсем ясно, произошла ли встреча Уэст с Паркер. Хотя нью-йоркские журналисты и юмористы, казалось бы, должны были найти родственную душу в этой молодой нахалке из Лондона, Уэст в их среду не вписалась – только Вулкотт стал ее другом, о прочих приятных воспоминаний не осталось. Однажды в честь Уэст был организован торжественный вечер. Паркер там, кажется, не было, но пришла ее подруга – феминистка, писательница и активистка, участница «Круглого стола» Рут Хейл. Хейл прославилась в качестве военного корреспондента, а затем стала освещать события мира искусства. Она вышла замуж за Хейвуда Брауна, однако оставила девичью фамилию, и в двадцать первом году привлекла внимание СМИ, вступив в споры с Госдепартаментом из-за нежелания менять фамилию в паспорте. Когда Госдепартамент отказал ей, Хейл сдала паспорт и отменила поездку в Европу. Она была человеком принципа.
Хейл и в частных беседах не стеснялась произносить речи. Как рассказывала Уэст одному биографу, на том вечере Хейл подошла к ней и разразилась тирадой:
Ребекка Уэст, ты нас всех разочаровала, лишила огромной иллюзии. Мы тебя считали независимой женщиной, а ты стоишь перед нами как в воду опущенная, потому что полагалась на мужчину, от него хотела все получить, что тебе нужно, а теперь, когда пришлось тебе идти в мир и самой за себя драться, ты хнычешь. Как по мне, Уэллс еще по-божески с тобой поступал: давал тебе деньги, и побрякушки, и все что хочешь, а уж если ты живешь с мужчиной на таких условиях, так не удивляйся, что он тебя бросил, когда ты ему надоела.
Обычно участники «Круглого стола» пикировались тоньше, но Хейл была не из остроумцев, в отличие от остальных. Их ремарки Уэст помнила и тридцать лет спустя, и могла даже заострять их в пересказе, но разочарование Хейл ее явно задело. Оно было ложкой дегтя в бочке меда похвал, получаемых в ходе успешного по всем профессиональным критериям турне.
Уэст часто сопровождали разочарования. Разочаровались в ней мать, старшая сестра Летти, Уэллс, критики ее романов, подруги. Но громче всех в этом хоре разочарованных звучал голос Энтони. Он рос, мотаясь туда-сюда между родителями, целеполагание которых лишь частично предусматривало его развитие, и в конце концов стал относиться к ним очень неприязненно. Согласно освященной временем традиции эта неприязнь сосредоточилась на том из родителей, который был доступнее – на Ребекке. Свой гнев он выплеснул в романе (названным с очевидным намеком – «Наследие») и в документальной книге. Он был настолько одержим этой темой, что в гораздо более позднем интервью Paris Review Уэст могла лишь сухо заметить: «Мне обидно, что у него нет иных тем, кроме собственного внебрачного рождения. К сожалению».
Не только Энтони, читая Уэст, испытывал некоторый диссонанс. Ее проза создавала определенный образ автора, и когда оказывалось, что он не материализуется в личности, читателя это огорчало. Рут Хейл, знакомой со статьями Уэст, представлялся платоновский идеал сильной независимой женщины – и встреча с реальной Уэст ее разочаровала. Даже люди, ослепленные блеском ее ума и таланта, не сразу могли примириться с ее персональным стилем, казавшимся слишком фривольным. «Гибрид уборщицы с цыганкой, но хватка у нее бульдожья. Глаза блестят, ногти запущенные и довольно грязные, неисчерпаемая жизненная сила, дурной вкус, недоверие к интеллектуалам и мощный интеллект», – так описала Ребекку Вирджиния Вулф в письме к сестре в тридцать четвертом году. Отзыв полухвалебный и полуоскорбительный.
Уэст смущала собственная неспособность соответствовать людским ожиданиям, нравиться людям, хотя и сама она вряд ли стеснялась переходить на личности. Ее статьи нашпигованы нелестными описаниями женщин с «волосами светлыми, жесткими и прямыми, как сено», и мужчин «с кувшинным рылом». Но она не могла понять, почему столько людей так плохо к ней относятся. «Я вызывала враждебность у очень многих, – говорила она впоследствии. – Почему – до сих пор не знаю. Кажется, я не особо грозная».
Уэст нужны были любовники, обожатели, друзья, и она никогда не делала вид, будто мнение людей ей безразлично. «Я очень люблю, когда меня хвалят, о да, очень! А когда ругают – не люблю. Мне ругани в этой жизни за глаза хватило».
Под внешней непробиваемостью у нее скрывалась глубокая неуверенность в себе, конфликт между желанием быть услышанной и желанием нравиться.
После Уэллса Уэст меняла поклонников, среди которых был и газетный магнат лорд Макс Бивербрук. Видимо, она перестала заводить романы с другими писателями – или вообще романы с переживаниями и сложностями. Свое внимание она перенесла на бизнесменов – быть может, это подтверждало подозрения Рут Хейл, что для нее превыше всего финансовая стабильность. Вспоминая впоследствии первую встречу, она сказала, что банкир Генри Эндрюс «был похож на унылого жирафа – милого, доброго и любящего». Видимо, это ей и было нужно. Через год, в ноябре тридцатого, они поженились и прожили до самой его смерти в шестьдесят восьмом. Они изменяли друг другу, но это ничего не меняло. В основном этот брак давал Уэст возможность получать удовольствие от работы и общения с друзьями.
Среди них оказалась неизвестная тогда французская писательница Анаис Нин. Уэст знала о ней по ее первой опубликованной книге – критике Д. Г. Лоуренса с подзаголовком «Непрофессиональное исследование». Это была одна из первых попыток защиты творчества Лоуренса – которого называли женоненавистником – с точки зрения женщины. С Лоуренсом Уэст была знакома, а после его смерти печатно посетовала, что «даже среди своей касты он не получил того признания, которого заслуживал». Отдыхая с мужем в Париже, она пригласила Нин к себе.
Нин была в точности таким человеком и писателем, каким Уэст не была. Нин – похожая на мальчишку, элегантная, Уэст – внушительная и резкая. Авторская личность в прозе Нин – хрупкая и ухоженная, в прозе Уэст – уверенная воительница. Цель Нин в искусстве – самовыражение личности, и то, что делала она это в дневниках, а не на газетных страницах, показывает нам, какая дистанция была между ними в подходах и к литературе, и к жизни.
Таким образом, их первое общение не было встречей родственных душ. Нин отразила свои смешанные впечатления в дневнике:
Блестящие умные глаза лани. Пола Негри, но без ее красоты, зато с английскими зубами, измученная, с таким напряженным высоким голосом, что слушать больно. Мы сошлись лишь по двум темам: разум и гуманизм. Мне понравились ее полные, материнские формы. Она очень напряженная, меня побаивается. Извинилась, что волосы в беспорядке, отговорилась усталостью.
Нин добавила, что заметила: Уэст «хочет сиять одна, но ей мешает глубоко укоренившаяся робость; она нервничает и говорит далеко не так хорошо, как пишет». Но со временем отношения в этой непохожей паре стали теплее. Уэст льстила Нин, говоря, что та пишет лучше Генри Миллера. Кроме того, она сказала, что считает Нин красивой – что навело Анаис на мысль соблазнить Уэст (доказательств, что ей это удалось, нет).
Нин даже понадеялась, что станет похожей на Уэст. «Она остра на язык и лишена наивности, – писала Нин в дневниках. – Буду ли я настолько остра в ее годы?» Как оказалось, совершенно разные женщины могут восхищаться друг другом.
В тридцатых жизнь Уэст достигла стабильности. В банковской деятельности Генри было не без проблем, но пара унаследовала крупную сумму от его дяди. Энтони вырос, и, хотя отношения с ним оставались непростыми, бремя его содержания существенно уменьшилось. Ребекка продолжала писать рецензии и эссе, хотя литературные дела ей надоели – почти так, как надоел Паркер литературный мир Нью-Йорка. Но Уэст не отправилась в Голливуд. Вместо этого она поехала в Югославию.
Югославия была лоскутной страной, созданной после Первой мировой войны в попытке объединить славянские народы в одном государстве. Это был масштабный геополитический эксперимент, одобренный союзниками. К тридцатым годам стало ясно, что он полностью провалился. В стране то и дело вспыхивали восстания, рос этнический национализм, а в соседних странах набирали силу немецкий и итальянский фашизм. В период Второй мировой войны Югославия лишилась существенной части территории, но продержалась – на авторитарном правлении – до девяностых.
В тридцать шестом году Британский совет отправил Уэст с лекционным турне по Югославии. Хотя Ребекка очень паршиво себя чувствовала в поездке, страна ее очаровала. Ей давно хотелось написать что-нибудь о стране, в которой она не живет, и Югославия, с ее тщательно проведенными линиями разлома, ей очень в этом смысле нравилась. Нравился ей и гид, который ее сопровождал, – Станислав Винавер, хотя, когда он попытался превратить взаимную привязанность в нечто большее, она отказалась. Видимо, отказ не испортил отношений, потому что Станислав оставался ее гидом в пяти последующих поездках в страну в течение пяти лет работы над книгой.
Уэст приезжала в Югославию, даже когда Гитлер уже вторгся в Чехословакию. Получившаяся книга, «Черный ягненок и серый сокол», к моменту выхода в октябре сорок первого растянулась на двести страниц.
Один недавний биограф Уэст назвал «Черного ягненка» «мастерской, но слегка хаотичной работой». Замечание верное, но автор совершенно не учитывает, что именно хаотичностью стиля всегда завлекала читателя Уэст, именно эта бессвязность держала внимание читателя до конца текста. К тридцатым Уэст стала мастером самых неожиданных ассоциаций, выводя одну мысль из другой так, как умела только она. У читателя складывалось впечатление, что он видит, как работает ее мозг.
С точки зрения логики теоретические рассуждения Уэст о Югославии не были безупречны. Она подвергает, не задумываясь, психоанализу целую страну, что нынче считается – и справедливо – редукционизмом. В начале книги нам показывают четырех основательных дисциплинированных немцев – пассажиров поезда, и они «в точности похожи на всех знакомых мне немцев-арийцев: таких в центре Европы шестьдесят миллионов». Уэст полагала, что национальность есть судьба, что есть между людьми неустранимые различия, их следует понимать и считаться с ними. Иногда это уводило ее на пути откровенного расизма. В одном из пассажей книги она даже заявляет, что «танец привередливого» – зрелище, которым она не раз наслаждалась в Америке в исполнении «негра или негритянки», – показался ей «животным», когда его танцевал белый.
Серьезную геополитику она запросто перебивала юмором. Рассказывая о Лондонском соглашении пятнадцатого года, едва не передавшем Италии несколько славянских территорий, Уэст вдруг останавливается. Она только что рассказывала, как итальянский поэт и предтеча фашизма Габриеле д’Аннунцио – лысый мужчина с вощеными усами – отправил войска в Фиуме (на территории современной Хорватии), чтобы удержать его под контролем Италии. Описывая порожденный этим броском хаос и взрыв итальянского национализма, Уэст замечает:
Я поверю, что битва за феминизм окончена и женщины добились равноправия с мужчинами, когда какая-нибудь страна перевернется вверх дном и окажется на грани войны из-за страстных речей абсолютно лысой писательницы.
В книге присутствует Генри – каждое упоминание о нем служит для создания некоего здравомысленного фона для увлеченных рассуждений Уэст о чистом чувстве. Характерен эпизод, когда Уэст с мужем вовлекаются в литературную дискуссию с одним хорватским поэтом, который утверждает, что Джозеф Конрад и Джек Лондон – писатели получше, чем более традиционно-литературные Шоу, Уэллс, Пеги и Жид:
Они переносили на бумагу разговоры за чашкой кофе – что вполне себе достойное занятие, если разговоры хороши, но это несерьезно, это рутина и обыденность, как пот людской. А настоящее повествование – вещь величайшей важности [утверждал хорватский поэт]; оно собирает опыт, его усваивают другие обладатели поэтического таланта и переводят в высшие формы.
Генри пытается слабо возражать («У Конрада вообще нет чувства трагедии»), но Уэст цитирует именно мнение поэта, и цитирует так подробно, что возникает мысль, будто она с ними согласна.
Отзывы на «Черного ягненка и серого сокола», выходившего по главам в Atlantic, были по меньшей мере лестными. New York Times назвала его «блестяще объективной книгой о путешествии», отметив, что это заслуга «одной из самых одаренных и вдумчивых английских писательниц и критикесс». Рецензент New York Herald Tribune восторженно писал: «Это первая книга с начала войны, где изображен мир в натуральную величину, по своему масштабу соответствующая кризису, который мы переживаем».
Последняя цитата весьма примечательна. Когда вышел «Черный ягненок», до нападения на Пёрл-Харбор оставалась еще пара месяцев, и Америка ощущала себя в полной безопасности от европейских заварушек. А для большинства европейцев война как-то не подлежала сравнению с занимательной книжкой. К моменту выхода «Черного ягненка» она была всепоглощающим фактором повседневнойжизни.
Уэст с мужем спокойно пересидели войну в Англии. Генри с начала войны, с осени тридцать девятого, работал на Министерство экономической войны. Они купили себе загородное имение, чтобы там жить – в какой-то мере из соображений, что, если станет совсем плохо, они смогут «отчасти прокормиться тем, что сами вырастим». Из Англии Уэст отправила две корреспонденции Гарольду Россу в New Yorker. В них она настойчиво называла себя домохозяйкой. Ее трудности, как она сама признавала, не того рода, что включал в историю Рима Гиббон, но она ни за что не стала бы оклеивать стены обоями, не взлети так из-за войны цены на краску. Оказалось, что абажуры у нее никуда не годятся – они «направляют свет наружу, а это может стоить нам жизни: мой дом стоит на холме, и кружащий в небе „Дорнье” наверняка этот свет заметит». Особое внимание привлекал вопрос о действии войны на кошек. Одну статью Уэст так и начала – с рассуждений о своем рыжем коте:
Плохо приходится кошкам во время войны: они умные создания, но ни устной, ни письменной речи не понимают. Сперва воздушные налеты, потом из-за них переезды, и кошки страдают, как страдали бы умные и чуткие люди, если бы понятия не имели об истории, не знали бы, что такое война, и сильно подозревали, что все это им устроили те, в чьем доме они живут и от чьей щедрости зависят. Окажись Царапкин один в пустом доме, сбежал бы лес и ни за что к этим ненадежным людям не вернулся бы.
«Черный ягненок и серый сокол» создали Уэст славу репортера первого ранга. До победы союзников ей негде было толком применить свои умения, но потом New Yorker сделал ее своим главным судебным репортером в судах над военными преступниками. Для Уэст это была подходящая тема, поскольку суды рассматривали и конкретное дело, и общие принципы закона – такой переход от частного к общему напоминал обычный ход рассуждений в статьях самой Уэст.
Первые ее репортажи освещали судебный процесс Уильяма Джойса, известного в Англии как Лорд Хо-Хо [9]9
Так его прозвали за аффектированное британское произношение, свойственное высшим классам Англии. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Джойс родился в Америке, но большую часть жизни прожил в Ирландии, а потом в Англии, будучи фанатичным англо-ирландским националистом. В тридцатых годах он примкнул к фашистам сэра Освальда Мосли, а в тридцать девятом переехал в Германию. Он стал пропагандистом на радио, его выступления транслировались в английский эфир для подрыва боевого духа Англии. Прозвище ему придумали британские журналисты; в Англии он был одним из самых отвратительных персонажей. После войны Джойс был пойман и перевезен в Англию, где его судили за измену. Уэст, как и многие, считала, что он в полной мере заслужил вынесенный ему смертный приговор. Она сопоставила моральную ничтожность Джойса с его плюгавой внешностью: «мелкая такая тварь, не то чтобы выдающегося уродства, но вполне существенного». К моменту, когда она наблюдала, как Джойса вешают, ее интересовал уже не он, а те, кого она считала его жертвами. «Один старик сказал мне, почему пришел: он был в морге, опознавал внуков, погибших при взрыве „Фау-1”. Когда он пришел домой и включил радио, оттуда заговорил Хо-Хо».
Но Нюренбергский трибунал, откуда она тоже вела репортажи для New Yorker, ставил перед ней достаточно сложные вопросы. Не то чтобы ей нацисты хоть сколько-нибудь нравились, но в ее описании они представали не слишком уж грозными. Рудольф Гесс, второй человек после фюрера, показался ей «так явно безумным, что даже неловко, что его приходится судить». Германа Геринга, назначенного преемника Гитлера, она назвала «размазней». Она не утверждала определенно, что среди подсудимых не все были злодеями в традиционном смысле слова, как потом сказала знаменитая Ханна Арендт. Уэст твердо верила, что они виновны в совершенных преступлениях, и ее не убеждал довод, что они просто выполняли приказы. Она об этом сказала прямо:
Очевидно, что, если Первый лорд Адмиралтейства Британии сойдет с ума и прикажет адмиралу подавать офицерам на ужин суп из младенцев, адмирал обязан не подчиниться. Но нацистские генералы и адмиралы практически не проявляли недовольства, выполняя приказы Гитлера, очень сходные с приказом варить младенцев.
Вопросу о коллективной вине немецкого народа в гитлеровских преступлениях – одной из самых обсуждаемых морально-политических проблем двадцатого века – Уэст в своих первых послевоенных вещах мало уделяла внимания. Мало что она могла сказать и о Холокосте, кроме того, что этот факт заслуживает наказания. Она тогда даже считала, что нацисты должны быть наказаны за свой преступный метод ведения войны в целом, а «то, что они сделали с евреями», рассматривала в общем контексте преступности нацизма.
Это было серьезное моральное упущение. Вызвано оно было, в частности, тем, что в ходе судебного процесса внимание Уэст постепенно обращалось к советской России. Она назвала схожие черты в мышлении нацистов и коммунистов и стала бить тревогу еще на ранних этапах, когда писала про Джойса:
Существует сходство между претензиями наци-фашистов и коммуно-фашистов и не меньшее сходство в методах реализации этих претензий. Претензии основаны на неверном допущении, будто человек, обладающий неким особым даром, обладает также некоторой универсальной мудростью, которая даст ему возможность установить государственный порядок высший по сравнению с нелепым и искусственным, порожденным консультативной системой, известной как демократия, – и это даст ему возможность разбираться в делах людей лучше, чем разбираются они сами.
Мысли о коммунизме занимали еще сорок лет ее жизни и творчества, хотя он и был единственной ее темой. Ее посылали описывать похороны королей, съезды демократов, судебные процессы, историю Уиттекера Чемберса, события в Южной Африке.
Ее приглашали на мемориальные мероприятия, например, в семьдесят пятом году на вечер памяти суфражисток, о которых она сказала, что они выглядели «невероятно эффектно». Но шло время, и внимание, которое она могла к себе привлечь, падало, угасало. Отход от левого движения и прихотливый стиль отдалили ее от растущих писателей сороковых и пятидесятых. Для них она стала чудаковатым реликтом ушедшей эпохи.
В старости Уэст остро переживала это падение интереса. Она писала в дружеском письме: «Если ты – писательница, то ты должна сделать три вещи. Первое: не писать слишком хорошо. Второе: умереть молодой (тут Кэтрин Мэнсфилд нас всех переплюнула), и третье – покончить с собой, как Вирджиния Вулф. А продолжать писать, и писать хорошо – непростительно».
И она писала в своей яркой и небрежной манере до самой смерти.
До конца дней Уэст сохранила артистичный, неформальный стиль. Ее книги получали признание, в последние годы жизни она была постоянной гостьей интеллектуальных ток-шоу. Она была одной из немногих женщин, считавшихся экспертами в серьезных политических вопросах. Но у нее бывали и ошибки – и одной из них была одержимость антикоммунизмом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?