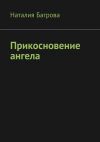Читать книгу "И всё, что будет после…"

Автор книги: Наталия Новаш
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 4. Расследование в Шабанах
В тот самый миг, когда свет электрического фонарика выхватил из темноты склепа прислоненные к стенке удочки, Георгий Сергеевич Лихачев делал свои последние исторические шаги на подступах к Шабанам. Позади него остались тихая синь озера, простор неба и залитые солнцем холмы с шумящими на ветру соснами. Он пересек вымокшее на дождях поле колхозной картошки, хилой и погибающей от излишней влаги, и спустился в низинку, поросшую хмызняком. В конце тропинки в просветах между ветками ольхи виднелись разъезженные колеи деревенской улицы. Но прежде чем вывести на дорогу, тропа пересекала ручей, топкие берега которого, перемолоченные копытами коров, являли собой разбухшее от воды торфяное месиво. Но, к счастью, в этой топкой жиже неведомыми благодетелями были разбросаны случайные предметы. Жора с опаской ступил на сплющенное цинковое ведро, потом – на кирпич, на выкрашенную синей краской доску, а оттуда, перепрыгнув через ручей, – на кочку, укрепленную корнями ольхи. Здесь было посуше и уже рукой подать до шабановской дороги, по другую сторону которой за изгородью из проволоки бушевала чья-то картошка. А выше зеленых борозд, на вершинах холмов, что тянулись грядой вдоль дороги, в синем просторе шумели сосны.
Жора выбрался из ольшаника на дорогу, которая оказалась сухой и песчаной, и вдруг повеяло таким простором, таким здоровым и свежим запахом разогретой на солнце хвои и картофельной ботвы вместе, что он опять, черт возьми, подумал: «А не дурак был тот, кто здесь жил и этакой узкой лентою вдоль дороги отмерил себе огородище такой длины, что крыша высокого дома виднелась вон как далеко из-за старых кленов!»
Если б был Жора местным жителем или хотя бы поинтересовался у сторожилов, то узнал бы, что огород этот весьма хитро себе отмерил еще «за польским часом» смекалистый мужик Фома по прозвищу «скупой» и растил там, как сам любил говорить, «и бульбу, и дроуцы», ибо «кожнае лета бурэла» за огородом самая большая сосна, о чем, беспомощно разводя руками, докладывал он пану… Что ни год к осени краснело своей сухой хвоей самое высокое дерево в два обхвата, и дров скупому Фоме хватало до весны. Как ни старался ясновельможный пан Червинский выяснить истинные причины столь регулярного усыхания сосен в огороде Фомы, как ни подсылал своего лесника – ни насечек на основании ствола, ни подруба корней, ни еще какой-нибудь порчи при всем желании обнаружить не удавалось. Даже почву брал на анализ выписанный лесничим из Варшавы консультант… Засыхало дерево словно по желанию самого Фомы… И никому-то не приходило в голову заняться подсчетом сосен на его участке. Сколько ни рубил он по исполинской сосне в год, количество самых больших деревьев оставалось одним и тем же. И сколько ни ломал голову над этой загадкой Фома, махнул, наконец, рукой, решив, что без дьявола не обошлось: не зря говорят, отец его знался с чёртом… и каждую осень, как прежде батька, собирал Фома на своём огороде урожай картошки и урожай дров. Прозвище «скупой» тоже перешло к нему от отца, как и само имя Фома, да и похож стал на того к старости, как две капли воды. Так говорили здешние старухи и поскорее крестились, вспоминая Фому-отца. Все считали, что был колдун. Но прославился старший Фома не этим. Мало ли ведьмаков по здешним лесам? И даже не скупостью своей чрезмерной был он знаменит, такой скупостью, что вся хата, и хлев, и специально выстроенное высокое гумно были завалены бог весть откуда бравшимся старым хламом: какими-то подержанными вещами, тулупами и кусками овчин, изъеденными молью треухами, старыми сапогами, почему-то всегда без пары. А пол был заставлен лавками, сундуками и разными этажерочками, деревянными колёсами от телег да полозьями для саней. Всё это барахло извлекалось с чердаков и подвалов и «у неделю» вывозилось на базар, где продавалось, с чего, говорят, и имел Фома кое-что за душой… И бог весть, откуда все бралось?! «Бог дал!» – отвечал Фома встречным мужикам, возвращаясь из леса с кошиком боровиков где-нибудь в середине мая, когда и грибов-то в глаза ещё не видали, и держа по обыкновению под мышкой какой-нибудь старый сапог или новенькую шапку-ушанку чёрного барашка. «Бог дал, бог дал…» – смиренно кивал Фома удивленным односельчанам, как-нибудь июльским вечером возвращаясь с паствы: замахиваясь на коров своей пугой и привычно неся до хаты какой-нибудь ладненький, найденный где-то барашковый кожушок. И вскоре никто уже не удивлялся, что бог дал Фоме талант находить. Идет он, бывало, с кем-нибудь по дороге, не на свата смотрит или там соседа, и не ворон в небе считает, а под ноги себе глядит. И находит, чёрт его дери! То трешницу, а то грошик или золотой. Бредет с ним, бывалоча, какой-нибудь небарака с панской лесопилки, несет в кармане бережно завернутый в тряпицу заработок за целый день работы, и вытащит, решит похвастать: «Вось, зарабиу сёння, гляди, пятак»!», а Фома согнется – из-под ног у себя такой же пятак поднимет! А когда потеряла паненка в лесу дорогую серёжку с бриллиантом, о том сказано было Фоме и показано место. И нашел серёжку Фома! Принес пану, за что, по-видимому, и махнул рукой пан Червинский на ежегодное усыхание сосен в огороде Фомы. Правда, говорят, что вторую, точь-в-точь такую же серёжку продал Фома тайно поручику Козловскому, ухаживавшему за пани Зосей, а ещё одну купил у него купец Ферапонтов. И когда оказалось у паненки три одинаковых серёжки вместе с непотерянной четвертой, то бишь, две одинаковые пары серёг, речь зашла об искусной подделке, вышел скандал, и обоим женихам дали от ворот поворот. А потом вдруг заварилось такое!.. Никто даже и не заметил, как нашел себе Фома сына, да и не удивился этому уже никто. Ну, привёл откуда-то трехлетнее дитятко, родила какая-то бродячая божья странница и отдала Фоме. Бог дал! Чего не бывает?! Было чему удивляться и без Фомы: все только и говорили тогда об этой истории из-за наследства, которая вдруг заварилась и кончилась сама собой, потому что внезапно исчезла, пропала вдруг неизвестно куда сама наследница прекрасная пани Зося. Только, говорят, никуда она не пропала, а убежала в Америку со своим вторым любовником, каким-то молодым профессором-иностранцем, приезжавшим из-за границы читать лекции в самом Вильне, о чем даже в Поставах были расклеены афиши. А кто говорил, что был он вовсе и никакой не профессор, а индийский маг и факир, потому что видели их как-то раз потом с пани Зосей – и было это уже, когда в маёнтке хозяйничала пани Эльжбета, а кости русского князя лежали в золотом гробу в каплице над Долгим озером, и всё потому, что истинная наследница – старая княгиня, тетка пани Зоси – после пропажи любимой племянницы выжила из ума… Так вот, говорят злые языки, что видели красавицу Зосю вдвоем с любовником-индусом после как-то – уже поздней осенью: пани Зося была в роскошной дорогой шубке, а загорелый спутник ее босиком шагал по свежевыпавшему снегу в одном каком-то исподнем балахоне из кисеи. Другой раз будто бы видели пани Зосю одну в бальсане на могилке её первого любовника – того художника, что стараниями русского князя сошел, говорят, с ума в виленской тюрьме, когда заварилась вся эта история из-за наследства… А кто говорит, что была это пани Эльжбета, которая приходилась хоть и дальней родственницей пани Зосе, и была не такой раскрасавицей, но тоже любила виленского художника, бывшего Петинькиного учителя… Да! Была это точно пани Эльжбета, потому как, чего скрывать, была к тому времени пани Зося давно уже в Америке, куда увёз её вместе с младшим братом Петенькой сразу же после смерти их отца никакой не индиец, а законный муж – то ли сказочно богатый банкир, то ли некая скандальная по тем временам американская знаменитость. Всем он как снег на голову свалился! А виленский-то художник, вышел потом из тюрьмы, когда русского князя хватил удар, но вскорости умер от чахотки в Варшаве, где пани Эльжбета родила Софочку, которая тоже не дожила до трех лет, и сама бедная мать скончалась от такого горя. Их обеих похоронили в Маньковичах, в семейном склепе. Но было это уже накануне четырнадцатого года, потом пришли немцы и выкинули кости русского князя из золотого гроба прямо в Доуже, а на месте каплицы построили один из самых больших фрицевских дотов. С тех пор и почти до самой войны с фашистами хозяином всего маентка, как и имения в Маньковичах, был младший кузен пани Эльжбеты, тоже из обедневших Червинских…
Любил, ох любил об этом рассказывать покойный сосед Фомы, бывший портной Адам Казимирович, известный в округе как дед-балабол. Всю свою жизнь, сколько помнили его туристы, отдыхавшие на Воронце, ходил Адам Казимирович в своих офицерских, еще старой армии, штопаных-перештопаных штанах с заплатками на коленях, сделанными профессиональной рукой. И однажды на удивленное замечание Шурочкиной бабушки, что, мол, как же хорошо зашито, отвечал Казимирович с потаенной грустью, что шивал он и не такое. Была у него в Америке своя швейная мастерская, и дела шли хорошо! Останься Адам Казимирович в Соединенных Штатах, был бы теперь Ротшильдом или Макдональдсом в портновском деле. Ах, зачем, зачем не остался?! Но не за этим отправился за море Адам Казимирович, не хотел он делаться тамошним миллионером. Была у него мечта: заработать деньги и купить свой хутор, стать хозяином здесь, на родине – очень хотел иметь свою землю. И заработал, хорошо вдруг пошли дела, изобрел какую-то особенную швейную машинку и стал бы точно миллионером, останься ещё на год-другой… но всё получилось как задумал – с золотом вернулся назад и купил землю, и хутор завел на Светлом озере… Да только техникой для хозяйства обзавестись не успел, прикупил было скот и нанял работников – да тут пришли немцы в четырнадцатом году! Отобрали у него всё золото да «жывёлину» – всё, что заработал в Америке, и остался он на пустой земле, и опять всё надо было начинать по-новому без гроша. И начал Адам Казимирович с нуля во второй раз, был ещё молодой. Сам работал с утра до ночи, света божьего не видал – дела пошли на лад. Да только лишь он снова разбогател, встал, как говорится, на свои ноги, – и опять война! Теперь уже с немецкими фашистами. Ограбили его и эти немцы, и снова он – голь перекатная, хорошо – жив остался. Но прогнали и немецких фашистов. Вот тогда-то пришли советские большевики, и теперь уже, после победы, не стало никакой жизни. Отобрали у него землю, хутор взяли и отняли ни за что ни про что – и согнали их всех, таких же, как он, – жить колхозом в деревню Шабаны, где прежде селились одни только пришлые безземельные батраки, а пан Червинский выделял им у хаты землю для огорода.
Нет, в третий раз заново жизнь было не начать, начинать теперь было бесполезно. Да и старость пришла, долгую бог послал ему старость. Спал по дотам, в шалаше летом прятался, собирал ягоды и грибы, зимой тайно, втихую портняжил, шил кому-нибудь шубу или штаны, но в колхоз не вступил, не поддался – так и не простил большевикам отнятый хутор, не простил Адам Казимирович коммунистам, что отобрали у него его землю на Светлом озере… Как он теперь проклинал судьбу, что в Америке не остался! Купил бы себе землю там и стал фермером где-нибудь в Техасе… И никто бы у него его землю не отобрал! Все уши прожужжал он приезжавшим на озеро туристам своими байками, за что и кормили и поили его отдыхающие и очень его жалели. Никак не могли понять, отчего этот старикашечка, не получающий никакой пенсии и живущий тем, что продает собранную им самим землянику на поставском базаре, отчего предпочитает порой ночевать рядом с их палатками в каком-нибудь доте, наваливши на пол еловых лапок, но боится идти в заколоченную ныне хату, где коварные соседи и родичи «хотят у него всё отобрать»! Невдомек было городским отдыхающим, что ж такое отобрать можно у столь жалкого старика. Всё выяснилось, однако, не далее как прошлой весной, когда скончался Адам Казимирович в доме для престарелых, определенный-таки туда немалыми трудами Вереньковского председателя, и когда в профессионально сделанных заплатках на коленях царских офицерских штанов были найдены аккуратно зашитые золотые монеты.
Ох, и пожалели же многие – очень многие, кто не поверил в своё время старому Казимировичу, кого водил дед-балабол к старому кедру – а водил он туда всякого нового, свежего человека и трясущейся рукой старчески тыкая своей палкой в фундамент каплицы, шептал: «Здесь надо копать. Здесь… Только я знаю…»
Но охотников делить пополам обещанный клад скупого Фомы не находилось. Да и как было верить, когда истории о мифическом кладе, о тайном закапывании его здесь в одну из темных грозовых ночей четырнадцатого года, предшествовала та самая знаменитая байка о вознесении скупого Фомы на небо! Вредил, ох вредил сам себе Адам Казимирович! Ну, кто в наше просвещённое время поверит, что можно просто так вознестись на небо?
Вот, собственно, и подошли мы в нашем рассказе к тому, чем знаменит был скупой Фома, а точнее, Фома-сын, и чего, к сожалению, не знал наш поставский следователь Георгий Сергеевич Лихачев. А известен Фома был тем, что улетел к богу на небо за своим золотом.
«Бог дал, бог и взял!» – торжествовал покойный Адам Казимирович, подходя к кульминационному месту своего рассказа, не подозревая даже, какой тайный – второй смысл – имеется в его словах, и злорадненько поглаживал бородёнку. А рассказ заключался в следующем.
В последние годы своей жизни, за несколько лет до войны с фашистами, когда в имении вновь начали наводить свой немецкий порядок наследники мужа старой княгини – барона Беренгауза, Фома стал не только скуп, но и подозрителен. Глядя на опять выраставшие, как грибы, красильни, оборудованные машинами прядильные цеха, электрические мельницы и маслобойни, напоминавшие ему то легендарное время, о котором наслышан был от отца, прожившего, говорят, больше, чем двести лет, стал Фома очень уж опасаться за какую-то свою тайну и за золото, не закопанное в четырнадцатом году. А потому, говорят, сложил все свои монеты в столбик и зашил в черный чулок, а чулок тот всегда держал у себя за пазухой в шапке-ушанке чёрного барашка.
«Ну что, золото при тебе?» – хлопнет, бывало, дружески по груди кум или сват – и точно, чует: есть что-то твёрдое за пазухой у Фомы.
Очень злился Фома на подобные шутки и сторонился людей. Вот однажды, когда Фома храпел на печи, решил его меньший внук посмотреть на дедово золото. Размотал бабкину хустку, которой поверх телогрейки закутан был Фома зимой и летом, и, расстегнув все пуговицы, сунул руку деду за пазуху. Нащупал там шапку, а в шапке и впрямь столбик монет в чулке, да и вытянул весь чулок. Тут дед проснулся и только хотел отобрать у внука свое добро, как чулок этот, словно живой, изо всех сил стал вырываться из рук у мальца да и вырвался, наконец, сиганув с печи. На глазах у оторопевшего внука прыгнул с печки на пол Фома вслед за чулком и ухватил в самый последний момент у двери, когда тот в щель норовил пролезть. И потащило старика из хаты! В сени, потом на порог… А с порога, как есть, под крышу и вверх… Заголосили невестки с дочками, что на лавке у крыльца стирали. Руки в мыльной пене заломили – и кричат так, что в вёске услышали. Высыпали люди из хат. Держится за чулок Фома, не выпускает, а тот выше в небо из рук рвется. Вся деревня видела, как превратился Фома в маленькую чёрную точку за облаками… А золото, говорят, ярче солнца сверкало сквозь черный чулок. Нелюдское это было золото…
«Бог дал, бог и взял!» – удовлетворенно заканчивал свой рассказ Адам Казимирович, после чего желающих откапывать вторую половину «нелюдского» золота не находилось.
Но не знал всего этого Жора Лихачев… А многое, очень многое мог бы узнать молодой поставский следователь, интересуйся он хоть немного историей родного края… Ну, пусть, не родного, но той земли, где волей судьбы приходилось ему отрабатывать свой трудовой долг. Жора же только успел наспех выяснить, что на всю округу… (А округу эту, к слову сказать, неизвестно было никому, как и назвать-то, потому что сходились тут как на зло своими границами аж три соседние области. И хоть «округа» эта богата была, как раз, своими историческими событиями, обозначалась она на карте лишь изогнутой линией в виде буквы «Т», разделявшей три вышеупомянутые области. А что такое линия? Ряд точек, нечто в высшей степени абстрактное и неконкретное… Даже разрешение на порубку сосен, которые по-прежнему продолжали периодически усыхать на радость потомкам Фомы и приезжим туристам, не надо было спрашивать ни у какого председателя – ни у вереньковского, ни у лотвянского, ни у начальства из Манькович – потому что никто не знал, чья же это земля – Т-образная граница на карте… Та песчаная гряда холмов со старыми соснами за огородом Фомы, переходившая в высокий берег, где селились туристы…) Так вот, успел-таки выяснить молодой следователь, выезжая на место происшествия с потерпевшим, что на всю округу числилась лишь одна подозрительная личность – мелкий вор и тунеядец, единственный нарушитель спокойствия местного участкового – некий Константин Дубовец, специализировавшийся исключительно на крадении съестного. То есть, воровал он у соседних бабок, по свидетельствам потерпевших, копчёные окорока, подсыхавшие на заборе, крынки с молоком, банки с компотами и вареньями из погреба и прочую снедь, за что периодически попадался и отбывал срок, так как работать в колхозе не хотел, а есть-пить, как говорится, каждому надо. С виду же он был парень «кровь с молоком», а – с чего, спрашивается, как не с ворованного по соседству? Где, однако, добывал Константик, как любовно называли его сами потерпевшие, всё остальное, что требуется человеку в жизни, хоть и по самому минимуму запросов, – никто доказать не мог, ибо уличить Дубовца ни в каких других покражах, окромя варенья и окороков, начальству не удавалось. Да и обвинения, опять-таки, к слову сказать, не тянули: хиленькие они были, кволые – основывающиеся на неуверенных показаниях пострадавших и молчании самого Константика. «Откуда у тебя смородинное варенье? – спросит, бывало, со всею строгостью участковый. – Не из погреба ли соседки Яди?» Признает Константик, что из погреба, кивнет виновато головой и молчит, а что ему ещё ответить? Не сам же он это варенье варил…. А бабке-то и не вспомнить зимой, пять у неё на полке стояло или шесть пол-литровок этого самого черносмородинного варенья. Больше, кажись, сварено было летась из вишни да алычи…. Поэтому не сказать, чтоб доставлял он много хлопот участковому инспектору. Не возражал обвиняемый, когда его уличали, не возражал. Да и как было возражать? Идет, бывало, бабка к автобусу мимо Константиковой хаты, яиц в город дочери к Пасхе отвезти. Глядь – окорок на заборе сохнет! Её окорок! В еёной собственной пожелтевшей марлечке, раздобытой у фельдшерки в лотвянском ФАПе. Тот, зашитой чёрной махристой ниткой с треснувшей катушки. Из-за проклятущих узелков всё на свете прокляла, пока зашивала…. Забудет бабка про Пасху с яйцами – и спешит на другой автобус, не в Кабыльники, а в Латву – не к дочке уже, а к участковому что есть духу! И завертится очередная история!.. И найдет уж, бывало, бабка та окорок свой за печкой, куда сама подвесила на Коляды. По запаху найдет, протухший… И соберется уж каяться участковому, что напраслину на сиротку навела… Да пока соберется, пройдет по деревне новость: сидит Константик. Продал кому-то в Мяделе на базаре колхозное порося… И не отправится к участковому потерпевшая: «Всё равно ж у кого-то украл… а хоть бы и порося!» Только совесть одна ей не даст покоя, и помолится за сиротку, за мать покойницу – царство ей небесное, небарака, всю жизнь «на колхоз рабила», а без пенсии померла! Не дожила, бедная… И греха, может в этом нет, что у сыночка-сиротки телевизор в хате, али окорок на заборе? Может, ойтец-то наш, пан бог, по справедливости наконец судить начал!? И отправится в фэст да костелу, свечку купит: скоро, скоро уж конец свету… Да ещё подумает: а и то… у царкву, что ль, к православным пойтить – другую свечку поставить – за здравие дитятки обговоренного, сиротки бедного, сына божьего Константика?..
Потому-то и не мог понять участковый, почему это бабки, у которых ворует Константик, так любовно относятся к обвиняемому? Не было у него любовного отношения к тунеядцу. Откуда в хате у Дубовца и телевизор, и магнитофон, и газовая плита? Кто и как доставлял хотя бы те же баллоны с газом – оставалось величайшей загадкой. Было достоверно известно, что ни один местный шофер – ни «левый», ни из «мингаза» – никогда их ему не возил, а придет участковый воспитательную работу провести, поговорить о жизни – встретит радушный прием: выйдет Константик в сени, спичкою у конфорки чиркнет, чайничек вскипятит. И чайком угостит всегда хорошим… вроде как индийским, привозным. Не грузинским из Вереньковского сельмага. А к чаю всегда – какой-нибудь шоколад. Друг, говорит, из города угостил… В погребе у бабки Яди таким, ясное дело, не разживёшься. Ну ладно, вздохнет участковый. Друг, так друг. На следующий же вопрос участкового «А откуда у тебя газ в баллоне?» Дубовец неизменно отвечал, почёсывая затылок:
– А чёрт его знает, как это происходит, я и сам не знаю. От матери ещё остался. Не кончился вот ещё… Много ли мне одному надо?
И ответ этот, поражавший искренней задумчивостью, слышал не один участковый, навещавший за десять лет деревню Идалина, что мирно лежит на берегу Идалинского пруда через шоссейку от Шабанов. В ответ же на вопрос, откудова магнитофон и приёмник с чёрно-белым телеком, Дубовец говорил, что сам собрал из деталей в школьном кружке «умелые руки». Однако же, когда позапрошлым летом появился у него в хате цветной японский телевизор, подозреваемый рассказал историю про подарок минского друга. И впрямь, школьный друг Константика жил теперь в Минске, женившись на дочке директора «Столичного» гастронома, что возле ЦУМА в районе Комаровского рынка, а такой зять, сами понимаете, вполне мог бы подарить что-нибудь и покруче какого-то телевизора… Да и свидетели отыскались… Видели дачники-соседи, как выгружали из «Жигулей» с прицепом две большие картонки с какими-то иероглифами: одну тяжёлую, а одну пустую, а на следующий день рано утром, загрузивши обратно две тяжеленные коробки, увезли. На вопрос, почему было две коробки, а не одна, и зачем было коробки увозить, Константик уверенно отвечал, что во второй коробке была старенькая одежда, подаренная тёщей друга, а чтоб отблагодарить за подарки, нагружены были в коробки яблоки из собственного сада… И махал участковый рукой: «А, дьявол с ним…» – ибо даже у участкового вызывал Константик необъяснимую симпатию, а предпоследний участковый был к тому ж и порядочный человек… Не чета последнему, который засадил-таки Константика за этот треклятый телевизор. Больно завидовал, подлец. Формулировочку, правда, пришлось несколько изменить: «за тунеядство и аморальный образ жизни».
Но не знал, разумеется, всех этих подробностей молодой поставский следователь, шагая по дороге вдоль залитых солнцем рядков цветущей картошки.
«Не мог… Не мог он вчера там быть…» – думал Жора о местном воре, подразумевая под «там» место происшествия. Только вчера кончался срок пребывания Дубовца в лечебно-профилактическом учреждении за пределами Белоруссии, и только со дня на день ждали его в родной деревне. Все ж остальные жители окрестных хуторов и деревень были честными колхозниками, и заподозрить во вчерашней краже было просто некого кроме каких-нибудь сорванцов. Правда, был у Дубовца всё тот же единственный друг Мишка Кривой, младше пятью годами, но и того, кроме школьной дружбы с подозреваемым и совместного посещения кружка «умелые руки», заподозрить было совершенно не в чем. А в последнее время Кривицкий, как была его настоящая фамилия, и вовсе взялся за ум и кроме женитьбы поступил, говорят, в радиотехнический на вечерний факультет, работая днем где-то на непыльной работе при науке, а со слов старушки-матери и старших братьев, получал как будто бы даже деньги за какие-то рационализаторские изобретения… Сказать по правде, и приемник, и магнитофон могли быть сделаны Михасем Кривицким и подарены старшему другу, но старый пенсионер, бывший преподаватель математики идалинской школы, всегда сочувствовавший Косте Дубовцу и сокрушавшийся судьбой способного ученика, твердо свидетельствовал и подтверждал, что и приёмник и магнитофон были собраны из деталей, подаренных шефами с завода «Горизонт», приезжавшими каждый год копать в колхозе картошку. А собраны были они собственноручно Дубовцом, помогавшим ему проводить занятия в кружке, а частенько и заменявшим его самого во время болезни… ибо многое повидал в жизни руководитель кружка «умелые руки». Откуда, однако, в хате у Дубовца японский телевизор, оставалось и для него неразрешимой загадкой. Увы! За эту-то загадку и отбывал свой последний срок тот, кого местные потерпевшие любовно называли Константиком и, утирая слезу, говорили: «Сиротка… Да попроси он у нас, разве ж бы мы не дали? Мать-покойницу жалко, царство ей небесное!» Но Дубовец не просил. На вопрос, однако, «может быть, не он украл?», – ибо улик окромя факта пропавших яиц или загулявшей курицы не обнаруживалось никаких – бабки дружно кричали; «Он, он! Он – вор!», ибо нигде не работавший Дубовец продолжал есть, пить и по-прежнему существовать в деревне Идалина. «А посадите-ка его в тюрьму! Мать-покойницу позорит только!» – расходились вдруг пуще бабки, в которых неожиданно просыпалась злость и даже ненависть к ближнему-тунеядцу. Бывало, уж из лесу выйдет заблудившаяся курица, или узнает бабка, что внучка втихую яйца дачникам продавала, – да лежат уж жалобы на Дубовца… Жалобы эти накапливались, и приходилось участковому принимать меры… Зато как же радовались эти иудины дочки, когда у Константика кончался срок. «Слава богу!» «Нех бэнде! Нех бэнде пахвалёны…» «Нех бэнде пахвалены Езус Христус! Вышел наш Константик!» – только и слышалось через заборы из огородов.
«Не мог… Не мог он вчера вернуться!» – думал между тем Жора, не желая ступать на вроде бы лёгкий путь.
«Жорочка, не спеши! – говорила в таких случаях его родная мама, хорошо знавшая горячий характер сына. – Главное: не спеши! Прежде всегда подумай…» Дед же, коренной одессит, всегда твердил: «Что главное в жизни, молодой человек? Главное – не упустить момент!» И у Жоры выработался свой характер, основывавшийся на правиле: «Всегда подумай, и момента не упусти!» Поэтому и отбросил он версию Дубовца, шагая вдоль длинного картофельного огорода. Оставалась только версия пастушков-подростков, о семьях которых он тоже успел выяснить всё перед отъездом. Было-то их тут на деревню две семьи! «Думай, думай…» – твердил себе Жора, оставляя позади картофельные сотки и старый сад с выглядывавшим из яблонь гумном. Вот и заросшая сиренью хатка: на крыше – аистово гнездо в автомобильной покрышке, а вместо калитки – зияющий проход в заборе… А когда у самого дома дорогу ему перебежала полосатая кошка и, воровато оглядываясь с хищно зажатым в зубах любопытным предметом, шмыгнула в придорожные кусты на другой стороне улицы, Жора тотчас сказал себе: «Не упустить!..» Ибо то, что держала в зубах кошка, было ни чем иным, как утиной головой – при чем не какой-нибудь там, а изящной головкой самой настоящей дикой утки, обрезанной по самые шейные позвонки. Основываясь на этом неожиданном факте, Георгий Сергеевич Лихачев и решил строить своё расследование.
– Тра-та-та! – прошили его как нельзя кстати очередью из самодельного автомата.
Деревянное дуло выглядывало из продырявленной картонной коробки, валявшейся посреди дороги между домом и огородом, что вела на просторный двор. Коробка была большая. «Made in Japan», «Открывать здесь» – было написано сбоку, и рядом был нарисован китайский термос. Коробка приподнялась и побежала от Жоры на тоненьких ножках с грязными коленками.
Отбежав на безопасное расстояние, маленький замурзанный Лёник скинул с себя коробку и предстал перед следователем во всей красе, с автоматом наперевес и сверкая голым животом из-под задравшейся майки.
– Тра-та-та та-та! – ещё раз прошили автоматной очередью незваного гостя.
– Добра стреляешь! – похвалил Жора. – Батька на охоту берёт?
– Не-е… – обиженно протянул белобрысый Лёник и шмыгнул носом, вспоминая какую-то свою обиду.
– А сам-то ходит?
Мальчик кивнул. Насупившись, опустил автомат.
– Да тут… и леса-то, как погляжу, приличного у вас нет… – решил схитрить Жора.
– Лепш гляди! – насмешливо осадил ребенок. – За вёску, вунь, хадить трэба. На Чэцьверць… – и показал автоматом куда-то за свою хату.
Из-за зелёных раскидистых кленов виднелась ещё одна крыша. Деревья и впрямь скрывали синевшую вдалеке полоску леса.
– Да, разве, приносит что твой батька?
– Трёх качак заучора прынес. Падбиу болей… Але Рэкс, паскуда, не усих падабрау…
– Значит, и ружье у твоего батьки есть?
– Ё-о… – протянул Лёник. – Нех бэнде ён… паскуда… – Не разобрал дальше Жора, лишь смутно догадываясь, что опять было сказано что-то нехорошее про Рекса.
«Так держать!» – похвалил себя мысленно Жора, а вслух сказал:
– Что утки! Я, бывало, на кабанов ходил… – и, вздохнув, поглядел на крышу, где шумно вдруг замахал крыльями и затрещал в гнезде длинноногий аист.
– И утки добра, – сказал на это ребёнок. – Кабанов батька тольки в зиму бье… Кабаняты ящэ малые…
Аист ещё сильнее затарахтел в покрышке.
И опять похвалил себя мысленно Жора и хотел было задать следующий вопрос, но в глазах Лёника мелькнул испуг и начала формироваться какая-то запоздалая мысль… Малыш с подозрением исподлобья взглянул на Жору.
– Ну-ка, дай поглядеть! – поскорее заинтересовался тот автоматом, не давая сформироваться этой мысли, и снял с плеча у Лёника самодельное оружие на ремешке.
– Нет!.. С таким на танк не пойдешь! – с деланным сожалением заключил Жора и, резко замахнувшись правой рукой, сделал вид, будто бросает гранату… Ибо хорошо знал, что у каждого пацана в здешних местах есть, как минимум, припасённая где-то лимонка, доставшаяся по наследству от деда. Потом оглянулся и хитро подмигнул малому. – А?..
– Ё-оо! – засиял Лёник. – Айда покажу! – и, обрадовавшись, что догадался, лихо махнул автоматом, приглашая гостя за собой во двор.
Верный Рекс, лежавший под окном хаты, приподнял голову и зарычал. Лёник цыкнул на собаку по-хозяйски. Пёс умолк, лениво вытянулся на траве, виновато завилял хвостом. Выводок чёрных котят у порога, завидев Жору, бросился врассыпную. И пока он, едва поспевая за малышом, шагал вверх между хатой и огородом, поднимаясь к хлеву, что стоял в конце большого, выклеванного курами двора, на пути их то и дело попадалось и путалось под ногами несметное количество собак и кошек всех возрастов. Котята сигали в одну сторону и, выпустив цепкие коготки, ловко взбирались по стенке хаты, исчезали под крышей. Кошки бросались в другую сторону и шмыгали через плетень. Собаки, дремавшие у плетня в тени яблонь, вскидывали со сна морды и принимались рычать, пока Лёник не цыкал на них сердито, после чего они вновь устраивались в мирных позах.