Текст книги "Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович в письмах и документах"
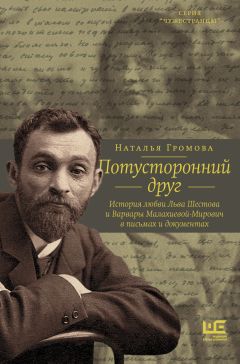
Автор книги: Наталья Громова
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Общий круг: Семён Лурье
С Семёном Лурье Варвара и Настя познакомились тогда же, в начале 1900-х, в Москве – он был близким приятелем Льва Шестова. Они подружились еще в конце 1890-х годов, когда тот ездил в Москву закупать товары для семейного дела и навещать своего незаконного сына Сергея Листопадова. Семён Лурье был не только богатым фабрикантом, у него была масса увлечений и талантов: философ, юрист, журналист, публицист, литературный критик, редактор, издатель (еженедельника “Еврейская неделя”), член редколлегии журнала “Русская мысль”.
Таня Лурье, дочь Семёна Владимировича, станет ученицей Варвары. Красивая голубоглазая девочка с пепельными волосами, по-ученически влюбленная в свою учительницу, будет часто появляться на страницах ее мемуарных записок. “Завтра пойду, например, на «пурим», – сообщает Варвара Леонилле в письме 1901 года. – Там будет детский маскарад – дитя, в которое я влюбилась со всем эксцессом стародевической страсти, будет в неаполитанском костюме [Татьяна Лурье]. Но дело не в том. Я пойду на Пурим, потому что там будут и взрослые [Семён Лурье]. И я лелею сумасшедшую мысль подойти к первому попавшемуся золотому и сказать: дай мне кусок золота величиной с твою голову. Я давно собиралась сделать это. Но почему, скажи мне, полевая маргаритка, законная жена, девочка Красная шапочка и Архангел Гавриил – скажи мне, почему я, которую еще «у наших» называли Эвтиждой, никак не соберусь сделать этого. И мало того – когда это золото – и телец подходят сами ко мне и мычат выжидательно – и стоит только протянуть руку – я вдруг всем существом предпочитаю ему нищету и отчаяние из-за пяти рублей”.
Настя тоже была под обаянием его личности и посвятила ему стихотворение.
еврейская мелодия
(Посвящаю С.В.Л.)
Лепечущих волн Иордана
Напевы смущают мой сон.
И гул иудейского стана
И тихий печальный Сион.
Волнуется сердце глубоко
С ресниц ниспадает роса
– О, благостный месяц востока!
Я славлю твои небеса.
Здесь арфа Давида звучала…
Я тень псалмопевца зову!
Хочу я, чтоб арфа рыдала
Во сне… Наяву…
1900-е
В эти годы состоялась общая поездка Варвары и Шестова в дачный дом Семёна Лурье в Тарусе на Оке, о которой она вспоминает в дневниках. Скорее всего, это было в 1904–1905 годах. Улеглись страсти. Все стало более определенным. У каждого было свое дело, но они все время были связаны – общим прошлым и новыми друзьями.
И вспомнилось, как много-много лет тому назад мы ехали с Львом Исааковичем из Тарусы в именье (забыла, чье), где снял на лето барский дом С.В. Лурье. Помню мост, его арки. Голубое, в перистых облаках небо, голубой простор Оки, лиловые дали. Стройные сосны по берегу. Щедрая, полнозвучная красота солнечного летнего дня. И вдруг Лев Исаакович спросил меня:
– А вам не кажется, что все это сон?
– Что – сон?
– Все, что вокруг. И то, что мы с вами едем к Лурье. И все, что с нами совершается. Вся наша жизнь на этом свете.
Тогда я лишь отчасти поняла, что он хотел мне сказать. Но после, в такие минуты, как сегодня на пороге ванной, понимаю ясно – исходя от ощущения близкого пробуждения.
Далее, продолжая свои воспоминания, Варвара писала:
…сказочно тепло вспомнилось вдруг Сенькино[126]126
Село Сенькино Тульской губернии Каширского уезда (до 1917 г.).
[Закрыть], именье на Оке, где гостили в семье Лурье, одновременно я и Шестов. То, что называют “личной” жизнью и у него, и у меня шло по отдельным руслам. Но было общее русло неизменного сопутничества душ. И каждая встреча, каждый разговор были проникнуты ощущением – теплым и нездешне – праздничным. Ко-гда он уехал (Шестов), осталось общество Тани Лурье и Лили (сестры М.В. Шика) – ученически в меня влюбленных и мною нежно любимых. Лев Шестов и Лиля в загробном мире. Таня – давно в загадочной стране, называемой безумие. В Париже в какой-то лечебнице. Может быть, и она уже прошла земной предел, хотя в сновидениях моих, какими общаюсь с миром потусторонним я встречаю только Льва Шестова и Лилю. Таню же, если и вижу – встречаю в аспекте, в каком вижусь с моими живыми друзьями. И вот – забыто почти все, о чем говорили они со мной под липами и елями огромного парка и на песчаной отмели Оки. Памятны лишь некоторые темы разговоров. Но помнится общий колорит устремленности друг к другу, бережного внимания и неослабного интереса. Помнится, как лестница, ведущая на какую-то ступень горного царства, куда мы вместе должны были войти.
И еще помнится овраг, который тянулся до самого поля через огромный, тенистый парк, где жили совы и белки. Какая-то большущая белая сова два раза прилетала к моему окну перед рассветом, садилась на соседнюю елку и стучала клювом в окно. И залетали несколько раз в мою комнату летучие мыши. Эти аксессуары средневековых ведьм дали повод девочкам и Л. Шестову и другим взрослым шутить надо мной, обвиняя меня в колдовстве[127]127
М.-М. В. Дневник. 16 июля 1943 г. С. 523.
[Закрыть].
Конечно, она колдунья в прежнем смысле. Лечит прикосновением рук, заговорами, постоянно видит вещие сны. Необычность ее мировосприятия, общение с потусторонним – притягивали к ней поэта Елену Гуро и прозаика Даниила Андреева.
Через Семёна Лурье Варвара войдет в семью Вольфа Мироновича Шика, который был коммерсантом, купцом первой гильдии и почетным гражданином Москвы, что давало семье право проживания в столице, а детям – возможность обучения в гимназии, а потом в университете. Варвара готовила к гимназии младшую дочь Лилю – будущую актрису театра Вахтангова. Знакомство с семьей Шиков станет началом огромной драматической истории жизни Варвары Григорьевны.
Ее отношения с Лурье не избежали сложностей и двусмысленности. Об этом она вспоминала годы спустя:
…переехала в Москву. Здесь я познакомилась с близким приятелем моего друга Л. Шестова, известным в Москве фабрикантом-философом Семёном Владимировичем Лурье и с его семьей. Жена была незаметная, ординарнейшая дама, круга золотой еврейской буржуазии, благотворительница и домохозяйка. От нее после многих лет знакомства осталось только впечатление чистенькой голубой эмалированной кастрюли то с теплым молоком, то с компотом из сухофруктов, то с прокисшим холодным супом. Она была маленькая, с большой головой и с большими выпуклыми глазами водянисто голубого цвета. И все, что она говорила, было водянисто и бледно. Хорош у нее был только смех, в котором была какая-то птичья свежесть, музыкальность и что-то неожиданно неудержимо веселое. Смех восточной женщины из гарема. Эстета высококультурной марки, фабриканта Семёна Владимировича, вероятно, этот смех ее и привлек к брачному с ней союзу. Просто на “богатой невесте” он бы не мог с его европейской утонченностью жениться. Этим всесторонним европеизмом он сразу привлек мое внимание, и скоро мы с ним не то, что подружились, но заинтересовались друг другом и стали часто видеться – то в его роскошно обставленной квартире, то в моей по-студенчески бедной комнате от жильцов в Замоскворечье. Меня привлекало в нем изящество мысли, красиво совпадавшее с изяществом манер и одежд. К тому же он был красив картинной и одухотворенной красотой. Напоминал “отрока Христа в храме” на картине Гофмана.
Я видела, что ему нравится мое общество, что его тянет ко мне. И очень ценила, что при всем этом он не спускался до так называемого ухаживанья, каким в тот период нередко меня окружали и этим отталкивали мужчины, с какими я знакомилась. Помешивая алюминиевой ложечкой остывший чай на моем письменном столе, он часа два подряд чаровал меня своими рассказами о Египте, о Риме, о Байарете – где он только не был! Заграницу он ездил часто и как-то запросто – редко на какую-нибудь подмосковную дачу. Не видимся дней 10–12, и вдруг приходит письмо из Парижа, из Вены с его почерком, который уже начинал меня притягивать и волновать – может быть потому, что в письмах были вкрадчиво нежные тона вопросов. Помню одну открытку, где была изображена женщина, уснувшая сидя за столом – голова ее с печальным профилем молодого и прекрасного лица покоилась на руках, скрещенных на столе. Он подписал под ее изображением строчки из сонета Микеланджело к его статуе “Ночь”. (Я потом перевела этот сонет: “Мне сладко спать, но слаще умереть во дни позора и несчастья. Не видеть, не желать, не думать, не жалеть – какое счастье! Для этой ночи нет зари. Так не буди ж меня – ах. Тише говори”.) А на другой стороне открытки, вложенной в конверт, были строки, где говорилось, что эта женщина похожа на меня, и что от какого-то горя я сплю. И печальна невозможность, и была бы счастьем возможность разбудить меня. (О горе, в какое была погружена моя душа, он догадался сам, я в такой степени интимности не дружила с ним.) Такие, как это письма, такие разговоры о красотах природы, о великих произведениях искусства, о музыке, которую он хорошо знал, понимал и любил, незаметно окружали меня тонким очарованием – еще бы немного, и я вошла бы в заколдованный круг. От этого меня предостерегала полюбившая меня поэтическим поклонением его родственница – она не жалела красок живо рисуя его как опасного сердцееда, и не Донжуана, а ловеласа и прожигателя жизни. Но я не верила ей: победы его над женскими сердцами казались мне естественными, но сам он оставался в моих глазах безупречно изящным и романтичным в историях этих побед… до одного часа, когда застала его лицо с таким выражением, какое не могла предполагать в нем. Он подымался ко мне по лестнице и не видел, что я смотрю на него из полутьмы верхней площадки – он же был на свету. И было у него такое хищное, чувственное и жадное лицо, что я испугалась и сразу насторожилась всеми фибрами души. Действительно: в этот же вечер он повел более открытую атаку – хоть и по-прежнему с осторожным и поэтическим видом. Предлагал не ехать к Тарасовым, остаться на лето в Москве, и когда семья его уедет заграницу, начать вместе и сделать до осени литературную работу – пьесу или что-нибудь еще… Но я уже была как Брунгильда окружена недоступным для него кольцом пламени после этой встречи на лестнице, о которой он никогда потом не узнал, хотя “дружить” мы не перестали. Но это было уже в поверхностных слоях, без нарастания и без интимных нот в дружбе[128]128
ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 67-я тетрадь. 24 сентября 1943 г.
[Закрыть].
Но все-таки они не только “дружили”, как пишет Варвара, именно Лурье поставит ее заведовать литературно-критическим отделом журнала “Русская мысль”, где она проработает около двух лет.
И еще одна страничка воспоминаний Варвары:
“Все течет, все изменяется”. “Panta rei”[129]129
Все течет (гр.).
[Закрыть] – помню, как 40 лет тому назад поразило меня это слово в устах давно умершего С.В. Л<урье>. И самая мысль (она же в послании ап. Петра – “проходит образ мира сего”), и звук слова “Pantarei”. И странно: говоря о предметах философского порядка, этот очень умный, всесторонне развитый человек, по природе своей властный, эксцентричный и гордый – всегда делался робким, как бы бесправным. Он был очень богат, всегда модно и по заграничному одет, самоуверен и самонадеян, – а цитируя какого-нибудь мыслителя, казалось, стоит на пороге его жилья, в бедном, дешевом – с толкучки – платье, не смеет войти и застенчиво созерцает золотые монеты, зная, что из всех этих богатств ему дадут двугривенный.
Однажды я спросила писателя Льва Шестова – друга этого “философа” (увы! Семён Владимирович был философом в кавычках): Отчего Семён Владимирович, при его данных, за всю жизнь написал две философские статьи? Лев Исаакович со своей тонкой, доброй улыбкой ответил с юмористической интонацией:
– Трудно верблюду войти в игольное ушко. И прибавил: Творчество, особенно там, где человек ищет истину, всегда жертвенно. Во-первых – это горение, “муки творчества”, во-вторых – сосредоточение интересов не на том простом, легком, непосредственно приятном, в чем привыкли жить такие баловни судьбы. А в-третьих, чего доброго, найдешь такую истину, как Франциск Ассизский – разденься донага и живи всю жизнь голяком…[130]130
М.-М. В. Дневник. 3 января 1941. С. 429.
[Закрыть]
Болезнь Насти
…но он за год заграничной жизни встретился с женщиной, которая с величайшей простотой и безо всяких с обеих сторон обязательств, привела его на свое ложе. Она стала его женой. Он стал крупным писателем. Сестра заболела душевно и окончила свои дни в психиатрической лечебнице. А я по какой-то унизительной живучести осталась жить и без него, и без сестры, и “без руля и без ветрил”.
Из дневника Варвары Малахиевой-Мирович
Видимо, несчастье случилось в сентябре.
Из письма Варвары Леонилле в Киев:
[3] октября 1902
…Настя заболела тяжелой нервной болезнью, сложной, причин и течения которой врачи не понимают. Предполагается консилиум, предполагается и то, что она может не выздороветь. Это случилось месяц тому назад и за это время не было улучшения.
И через несколько недель продолжение истории недуга Насти:
25 октября 1902
…Скажи Костичке, чтобы пока не заботился ни о чем. Настю необходимо месяца на два оставить еще в Мещерске. Я сейчас только оттуда. Мне дали в два дня четыре свидания. Не знаю, было ли в жизни что-нибудь тяжелее, неправдоподобнее, ужаснее. Все, впрочем, было тихо. Она не говорила с нами. Но ее нельзя узнать – страшная худоба, прозрачные руки и ничего Настиного – ни взгляда, ни голоса. На вопросы она отвечала почти сознательно, но странно. Большую часть часов проводит в религиозном экстазе. Остальные в полной угнетенности, от пищи отказывается. Не ела пять дней, отчего меня и вызвали. Удалось уговорить ее съесть яйцо и выпить стакан какао. Моментами она сознательно и многое помнит, но многое и забыла. Говорят, что она рассуждала совершенно логически, исключая некоторые пункты. Но я этого уже не застала. Не застала, к счастью, и того периода, когда она была буйной. На вопрос, хочет ли она уйти оттуда, она отвечает: Нет, мне здесь хорошо. Да и неудивительно, отношение к ней прекрасное. Сам директор больницы навещает ее через день. Все сослуживцы директора и фельдшерицы принимают участие – но потом будет печальным осложнением отсутствие близких и родных и домашней обстановки. Для этого я и хотела бы перевести ее в Москву и постараюсь сделать это. А если сама все порву с Москвой – буду хлопотать о Виннице или о чем-нибудь киевском и перееду в Киев.
Вскоре Настю решают отправить в киевскую Кирилловскую больницу, ту самую, где лечился Врубель и где работала сама Настя.
[Ноябрь 1902]
…Настю отправляют в Кирилловку. Земство, а главным образом директор Мещерской больницы, грубы со мной и вряд ли дадут знать, когда ее отправят. Я, конечно, помимо них это узнаю, но, возможно, что это будет позже на несколько дней. Поэтому очень прошу тебя, справься по телефону, как получишь это письмо – не привезли ли ее в больницу.
О состоянии Анастасии становится известно Ремизову. Он пишет 8 ноября 1902 года: “Анаст<асия> Мирович – в сумасшед<шем> доме (также и Врубель, – сообщал он П.Е. Щёголеву[131]131
См.: письма A.M. Ремизова П.Е. Щёголеву. Часть I. Вологда (1902–1903). Вступ. ст., под. текстов и комм. А.М. Грачевой. С. 151, а также комментарий к публикации: Мирович Анастасия Григорьевна – писательница. В альманахе “Северные цветы на 1901 год” (М., 1901) были помещены два ее стихотворения (с. 102–103), в “Северных цветах на 1902 год” (М., 1902) – рассказы “Ящерица”, “Эльза” (с. 80–83). См. письмо С.М. Соловьева А.А. Блоку от 23–24 ноября 1903 г.: “Я узнал, что одна из наиболее талантливых сотрудниц «Северных цветов» Анастасия Мирович находится «в доме сумасшедших»” (Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. C. 350 (Литературное наследство; Т. 92, кн. 1)). http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/ROPD/EROPD_1995/05_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_121.pdf.
[Закрыть])”. Об Анастасии Мирович, скорее всего, он знал от Брюсова.
Выезд в Кирилловскую больницу откладывался. Настю держат в Мещерском.
Варвара пишет Леонилле:
[Декабрь] 1902
Нилочек мой дорогой! Пишу из Мещерска, куда приехала навестить Настю. Здесь хороший лес, парк, снежные сугробы, а с больными я не только свыклась, но и сдружилась. Запросто беседую с буйными помешанными, хожу к смирным, изолированным во время припадка, позволяю “искать” у меня в голове, обнимать и толкать, бить они не смеют того, кто их не боится. С тихими пью чай – нахожу все это общество мало отличающимся от, так называемых, здоровых людей.
Только слабоумных не люблю. Давно уже назревали у меня мысли, что все одинаково в мире – жизнь и смерть, радость и страдания, здоровье и болезнь. Настю через неделю могут отпустить в Воронеж. Из Воронежа постараюсь заглянуть к вам, если денег хватит.
Видимо, Настю отпустили с Варварой домой на Рождество 1902–1903 года. Они вместе поехали к матери в Воронеж. В дневнике Варвара вспоминает об этом:
…Страшная ночь, когда выпущенная из психиатрической больницы сестра Настя, казалось уже совсем выздоровевшая, закричала ужасным голосом: “А! Мертвые? Мертвые!” – в то время, когда я убирала елку. Это было в Воронеже. У Насти сделался буйный приступ. Ее связали, и брат Николай остался с ней, мать забилась в нервном припадке в чулан, а я помчалась под звездным сверкающим небом в больницу за врачом. Сверкал и серебрился снег пустынной площади, жалобно перекликались паровозы у вокзала. И душа силилась совместить трагическую сторону мира – жребий безумия, гибели, невознаградимой утраты – с звездным небом рождественской ночи[132]132
М.-М. В. Дневник. 6 января 1941 г. С. 429.
[Закрыть].
Александр Соболев приводит в своем исследовании отклики литераторов на болезнь Анастасии Мирович. “Слух о ее помешательстве распространился в литературной среде: несмотря на скромность вклада, имя ее было небезызвестно. <…> Для русских модернистов, равно чувствительных к смерти и безумию, ее имя могло стать одним из каноничных (как рано погибшие Коневской или Виктор Гофман) – но не стало. В 1908 году умный и наблюдательный А.А. Кондратьев, заканчивая статью «Голоса юных», где поминались его покойные литературные соратники, писал: «Вас, о девушки, на которых была пролита священная кровь Киприды, вы, чья душа полна была ее неутолимою скорбью, – вас хотел бы я оживить моей братскою любовью. Я свято храню ваши стихи, где подражаете вы божественной Мирре [Лохвицкой] или другой, столь же рано и подобно ей в безумном бреду кончившей дни Анастасии Мирович, этой единственной талантливой из всех поэтесс декаденток»”[133]133
https://lucas-v-leyden.livejournal.com/276370.html.
[Закрыть].
“Покойная сестра моя, – вспоминала Варвара – перед тем, как заболеть психически (в последние свои здоровые годы жила в большом напряжении богоискания), говорила однажды: «каждый сумел бы написать “свой” апокалипсис, если бы умел удалиться на Патмос с разъезженных дорог». У нее была полоса мрачного безверия. Во время одного припадка она повторяла в отчаянии: «если бы был Бог! Хоть бы какой-нибудь Бог!» Потом перед тем, как совсем погас в ней разум, уже в больнице на несколько дней, она засветилась таким светом, что совсем не мистически настроенная фельдшерица говорила мне: «Я никогда не видела больных в таком сиянии». В этом сиянии я видела ее несколько раз. Лицо было светящегося белого цвета (как просвечивает белый абажур на лампе). Из глаз шли снопы лучей. «Подойди ко мне, – сказала она, – я скажу тебе очень важное. Для тебя. Не думай, что я больна. Я была больна. Во мне была тьма. То, что называют дьявол. А теперь во мне Бог». И через минутку просветленно-торжественное лицо ее вдруг потускнело, изменилось до неузнаваемости, и резким движением она схватилась за цепочку на моей груди, как будто хотела задушить меня ею. Тут вошла надзирательница и увела ее[134]134
М.-М. В. Дневник. 27 июля 1930 г. С. 25.
[Закрыть]”.
Варвара написала после смерти сестры стихи.
сестре а.г.м.
“Должна быть шпага,
на которой клянутся”
(Слова бреда)
Твой озаренный бледный лик,
Твой голос, дико вдохновенный,
В пожар души моей проник,
Как перезвон набата медный.
“Должна быть шпага. На клинке
Ее начертаны обеты.
Не здесь. Не в мире. Вдалеке,
В руках у Бога шпага эта”.
Как белый саван облекал
Тебя, наряд твой сумасшедший,
И неземным огнем сиял
Твой взор, в безумие ушедший…
Мой дальний друг, моя сестра,
Я эту шпагу отыскала,
И знаю, как она остра —
Острей, чем самой смерти жало.
1921. Сергиев Посад
Снова и снова в поздних дневниках своей старости Варвара возвращалась к тому, что говорила ей сестра. Словно до нее доходил подлинный смысл произошедшего с нею:
Есть добрые желания. Есть совесть. Есть тоска (увы, чеховская!) “о жизни чистой, изящной, поэтической”. Благие порывы. Но нет крепкой воли. Нет в моменте выбора “шпаги, на которой клянутся”. “Должна быть шпага, на которой клянутся!” – так, заболевая душевно, закричала однажды сестра Настя, поднявшись во весь рост на кровати: “Все насмарку, если нет шпаги, на которой клянутся!” И еще раз, больше 40 лет тому назад, мы обменялись с ней жуткими словами в концертной зале. Помнится – это был “Реквием”. Настя сказала мне на ухо: “А что, если все, что мы и что с нами – все написано мелом. На пробу. И проба не удалась”. И мне показалось тогда, что приближается к этим меловым строкам огромная влажная губка и сейчас начнет стирать все написанное. И меня, конечно, вместе с ними.
Я сказала об этом сестре. Она посмотрела на меня с любовью и сказала: “Нет, Варочек, губка этого не посмеет”. Какой большой любовью она меня любила! Как много любви на меня излилось и другими людьми. И посейчас этот бальзам, эта живая вода не перестает меня врачевать и поить. Какая задолженность! Вовек мне не расплатиться. Но об этом потом, потом. Это можно отложить (расплаты) и до “жизни будущего века”. Неотложно необходимое – нырнуть в бездны подсознания и достать там “тайные тьмы” свои, и спросить своего даймона, как быть с ними сегодня, сейчас. И как укрепить рычаги, какими управляется жизнь в днях, в делах, в тех или иных запретах – в сторону помыслов и поступков, пропыляющих и оскорбляющих образ Божий в человеке[135]135
ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 55-я тетрадь. 21 июня 1942 г.
[Закрыть].
Настя когда-то ответила Варваре на все времена настоящие и будущие.
посвящается В. Мирович
В тебе не отразилось ничего,
Что было мудростью создавшего тебя
И мнится мне, что ты слеза Его,
Упавшая в стихию бытия.
В его слезе сверкают отраженья,
Сверкают рощи, солнце и цветы,
Безумный круг земного сновиденья
– И это ты, и это ты.
Вот почему тебя я так любила,
Тебя проклясть была не в силах я.
Мне было сказано, мне откровенье было,
Что ты слеза в стихии бытия.
Анастасия Мирович окончательно ушла от всех в свой мир душевной болезни, откуда так и не возвращалась до самой смерти от голода в Мещерской больнице в 1919 году.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































