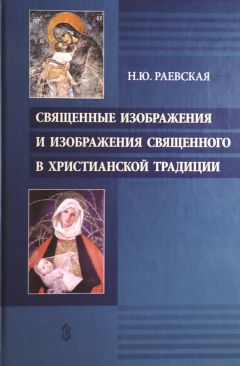
Автор книги: Наталья Раевская
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Церковь в Дура-Европос является единственным сохранившимся с III в. примером наземного сооружения, предназначавшегося для богослужений, и единственным примером изобразительного искусства, не связанного с катакомбами14. Баптистерий, входящий в состав церкви, украшен росписью в манере, похожей на сохранившиеся фрагменты в храмах других исповеданий. Вероятно было нанято несколько художников, и все использовали схематический импрессионистический стиль. Фигуры предстают в застывших позах, лица направлены к наблюдателю, ощущается недостаток непринужденности. На западной стене находятся два объекта. Миниатюрные фигурки Адама и Евы, стоящие с двух сторон дерева, рядом – змей, ползущий по земле. Пилястры обозначают земной рай, который они потеряли. Над этой сценой написанный в большем масштабе – Добрый Пастырь, несущий огромного барана на плечах, стоящий в центре стада схематически набросанных 17-ти овец (рис. 8). Неофиты могли видеть, что грехопадение Адама взывает к приходу Спасителя в надежде найти и восстановить утраченное. На северной стене находятся три примера могущества Спасителя. Первая сцена показывает исцеление паралитика. Большинство катакомбных изображений на эту тему в характерном сжатом, почти стенографическом стиле раннехристианского искусства представляет больного, идущего с кроватью на спине, показывая его исцеление, в то время как сам исцелитель либо отсутствует в сцене, либо стоит в стороне. Здесь же Спаситель на переднем плане и протягивает руку в сострадательном жесте над человеком, еще лежащим в постели. Это старейшее из известных изображений Христа, как безбородого молодого человека (рис. 9). Следующая картина иллюстрирует попытку св. Петра ходить по воде. Петр, хотя его ноги видны над водой, изображен так, что чувствуется неуверенность и небезопасность его положения. Он простирает свою правую руку, чтобы схватить протянутую руку Христа. Апостолы, одетые в яркие одежды, стоят в позе удивления на палубе корабля. Еще одна сцена показывает трех женщин у гроба, которые идут с факелами и чашами благовоний в руках по направлению к саркофагу. Две звезды сияют над ними, символизируя, вероятно, возможность надежды и спасения (рис. 10). На южной стене живопись плохой сохранности показывает сцену победы Давида над Голиафом, идентифицированную по написанным именам. Для неофита она могла являться напоминанием того, что жизненный путь христианина, вопреки всем сложностям и страданиям, ведет к победе. Последняя картина является наиболее изящной, и показывает самаритянку, склонившуюся над колодцем, чтобы набрать воды. Сам Христос здесь не показан.
М. Ростовцев, руководивший раскопками, считал, что отобранные семь сюжетов были предназначены для того, чтобы учить доктрине Церкви. По его мнению, росписи баптистерия показывают единство плана, единство идеи, единство композиции, за которыми видна долгая традиция, схема, которая была известна во всем христианском мире. Если единство идеи не вызывает сомнения, то о присутствии какого-либо плана или композиции, традиционной и единой для разных мест говорить сложно. Как в Риме, так и в Дура, фрески не обнаруживают циклической связи, неизменной иконографии и упорядоченного изображения15. Это показывает, что в обоих случаях речь шла о локальных изображениях, несвязанных с принятым и традиционным циклом. Сходство тем обуславливалось скорее общеупотребимостью среди христиан того времени определенных символических типов, отражавших проблему греха и спасения. Убедительные параллели, в частности, могут быть прочерчены между типами катакомбных фресок и молитвами, которые были принятыми в раннехристианской литургии. Исследователи отмечают, что сцены фресок, выбранные для погребального использования, не пришли непосредственно из Библии, но скорее из ранних молитв и погребальной литургии, которая все еще используется в римской церкви16. Более того, не только погребальные, но и не имеющие непосредственного отношения к погребальному обряду, молитвы цитировали ветхозаветные и новозаветные чудеса как иллюстрации спасения, и упоминаемые чудеса часто совпадают с изображенными в катакомбах. Наиболее известными среди этих текстов являются молитвы Псевдокиприана. Эти молитвы, собранные и оформленные к концу IV в., являются просьбами к Богу о помощи в сохранении духовной чистоты, о защите от демонов и ловушек земного мира. «Как Ты преодолел смерть, дал зрение слепому, научил говорить немого, ходить хромого, очиститься прокаженного, так помоги Твоим слугам, которые со всей силой их сердец верят в Тебя, и в то, что Твой Сын, Который был казнен, придет, чтобы судить живых и мертвых» – пример молитвы, использующей евангельские чудеса. Другой текст использовал «спасения» Ветхого завета: «Услышь мою молитву так же как тогда, когда Ты освобождал отроков из печи огненной, спас Даниила во рву со львами…»17 Еще одним важным источником для сопоставления является «Короткая речь» Филиппа Гераклийского IV в., в котором он апеллирует к примерам Ноя, Исаака, Лота, трем отрокам в печи, Ионе, Даниилу, Сусанне, Юдифи и Эстер. Статистические данные показывают, что из 56-ти сюжетов, упомянутых в молитвах, 36 могут быть обнаружены в живописи или рельефах христианских саркофагов IV в. Общее количество объектов, используемых авторами фресок и скульпторами саркофагов, около 78-ми, так что ранние молитвы упоминают не менее чем половину раннехристианских погребальных тем. Кристаллизованные в литургии не ранее IV в., они, тем не менее, наследовали практику, которую имела более ранняя церковь. В связи с этим можно высказать предположение о влиянии упоминаемых в литургии типов спасения на выбор «декораций» мест погребения христиан. Фрески не были, очевидно, иллюстрацией к литургии, но отражали те же мысли, чувства и надежды. Представляется, что живопись ранних христиан ни в катакомбах, ни в Дура не предназначалась, как полагал Ростовцев, для обучения основам вероучения, ее символы вряд ли могли быть понятны тем, кто их не знал заранее. Искусство было выражением горячей надежды на спасение и радости от того, что оно возможно. Оно было искренним проявлением чувств, взывало к Богу, подобно молитве (недаром самым распространенным типом катакомбной живописи является Оранта), то есть было настроено на связь с трансцендентным, но другим способом, нежели в средневековье. Причем раннехристианское искусство не было лишь молитвой за мертвых, а служило также выражением стремления обрести при жизни освобождение от греха и гарантию будущего воскресения. Ведь спасение – тема молитв и фресок, связанных не только с погребением. Мы встречаем примеры, иллюстрирующие спасение не только в погребальной литургии и росписях катакомб, но и в молитвах, не имеющих непосредственной связи с погребальным обрядом, и во фресках баптистерия в Дура.
Вопрос, который дискутируется различными исследователями – почему христианское искусство в первые века его существования не шло по пути создания «прямых» изображений, а пользовалось символами, косвенно указывающими на религиозные идеи? Самая распространенная точка зрения состоит в том, что главной причиной были те внешние условия, в которых существовала Церковь в II–III вв. Христиане «зашифровывали» основные положения своей веры, т. к. боялись преследований и осквернения язычниками своих изображений. Между тем известно, что до середины III в. места погребения пользовались покровительством закона о похоронных обществах. Такие общества в Римской империи, как правило, организовывали бедняки, которые не в состоянии были иметь семейных кладбищ. Участок, выделенный им для погребения, становился частной собственностью и переходил под защиту закона, охранявшего неприкосновенность участка от посягательств посторонних18. Хотя были случаи, когда во времена крайних общественных беспорядков и народного возбуждения, кладбища подвергались разрушению и разграблению со стороны толпы, но такие вспышки ненависти народа против христиан обычно сдерживались римскими властями19, так что изображения могли, по всей видимости, создаваться достаточно спокойно, без боязни их осквернения. Причины символизма раннехристианского искусства, лежали, вероятно, гораздо глубже, чем простая необходимость скрывать от преследователей свои святыни. Существуют попытки объяснить крайнюю редкость изображений повествовательного и портретного характера в ранних фресках невозможностью изображения духовного прототипа, на которой настаивали все христианские писатели II–III вв. Как известно, апологеты сходились в том, что не может быть конкретно-чувственного образа у того, что не имеет внешней формы, то есть любое изображение Христа было бы изображением человека, но не изображением Бога. Примечательно, что отцы Церкви очень долго отрицали возможность существования вообще какого-либо изобразительного искусства в христианстве. Следует отметить, что все ранние апологеты (сер. II в.), как и большинство более поздних (III в.), еще не проводили в своих рассуждениях четкой границы между понятиями «искусство» и «искусство языческое». Искусство как таковое в их представлениях неразрывно было связано с политеизмом и идолопоклонством. Поэтому, не мысля себе иной изобразительности кроме языческой, которая была «деланием идолов», они полностью отвергали ее проявления. Согласно представлениям христиан, Бог трансцендентен, недоступен для понимания, он не похож ни на что в мире, нематериален, невидим, абстрактен. «Вид Бога неописуем и неизъясним, ибо не может быть виден плотскими глазами»20, поэтому его не возможно «выразить никаким искусством»21. Нельзя изобразить то, что не имеет образа. Поэтому все апологеты настаивали на том, что единственно правильным является внутреннее общение человека с Богом, почитание Бога «в духе и истине». «Не лучше ли содержать его в нашем уме, святить его в глубине своего сердца», писал Минуций Феликс22. К III в. взгляды большинства отцов Церкви по этому вопросу не претерпели практически никаких изменений. Так Киприан в своем трактате «О суете идолов» высказывает мысли, которые практически совпадают с рассуждениями Иустина, Татиана, Минуция Феликса23. Здесь, по-прежнему, понятия «искусство» и «языческое искусство» не разделяются. Нет такого разделения и у Тертуллиана, который с наибольшей нетерпимостью выражая общее мнение об искусстве и связанном с ним идолопоклонстве, называет его «злодеянием, включающим в себя все другие злодеяния»24. По его словам «всякую форму или формулу, всякое изображение большое или малое следует считать идолом»25. Таким образом, по его мнению, можно считать источником идолопоклонства любое искусство26.
Лишь у Климента Александрийского впервые сталкиваемся мы с изменением представлений об искусстве. С одной стороны, он продолжает, как и его предшественники, осуждая идолопоклонство, считать изображение Бога, являющегося высшим духовным существом, в «чувственном образе», невозможным и кощунственным. В своих «Строматах» он пишет: «Законодатель хотел возвысить наши умы в содержательные области, а не останавливать их на материи… Поклоняться существу бестелесному, примечаемому лишь оком духовным, изображая его в чувственном образе, значит только унижать его…»27 С другой стороны, у него уже звучит и другое: «Пусть прославляется искусство, но да не вводит оно человека в заблуждение, будто бы оно само является истиной»28. Он первый, кто признает, что искусство может достигать высокого совершенства и иметь большую ценность независимо от тех целей, которым служит. Из этого вытекает, что если таковые цели не будут совпадать с языческими, то есть произведения искусства не будут рассматриваться как объекты поклонения, то искусство имеет право на существование в христианской среде. «Все что содержится хорошего в искусстве, – поскольку это искусство, – исходит от Бога. Художественное выполнение какого-либо произведения искусством зависит от теории искусства»29. Искусство может иметь ценность для христиан, если в нем воплощается правильная идея. Рассматривая вопрос о том, какая линия по отношению к искусству была более характерной для той эпохи, следует отметить, что Тертуллиан сознательно становился на позиции вчерашнего дня христианства, а Климент Александрийский шел навстречу требованиям времени30. Причем изменение взглядов официальной Церкви на искусство шло позади реальной практики изобразительной деятельности. Как в первые века христианства, так и позднее, отцы Церкви, вынуждены были мириться и оправдывать то, что изначально появлялось к жизни и распространялось без их ведома и согласия31. Поэтому неверно было бы указывать на «запрещения» Церкви в качестве причины отсутствия прямых изображений. Как известно, запрещались не только прямые изображения, но изображения вообще, но это никого не останавливало.
Представляется, что отсутствие изображений в христианстве I – нач. II вв., их появление в середине II в. и широкое распространение в III в. преимущественно с использованием символов, выражающих определенные идеи, но не направленных на воспроизведение священных объектов; постепенное нарастание к IV в. реализма изображений, связанное с внесением элементов портретного и повествовательного характера32 (рис. 11), было обусловлено, прежде всего, спецификой раннехристианского религиозного сознания и его трансформацией, происходившей начиная с сер. II в. Изначальное христианское мироощущение исходило из убеждения в абсолютной трансцендентности Бога по отношению к миру, согласно которому две части реальности, физическую и сверхчувственную, разделяла пропасть, преодолеть которую должен был сам Христос, обещавший вернуться, чтобы соединить Бога и человека. Иные способы соединения представлялись ненужными и невозможными. Вероятно по этой причине изображения в христианстве отсутствовали до середины II в. Начиная с этого времени в христианской мысли стало заметным стремление к сближению «земли и неба», которое к началу III в. нашло свое выражение в учении о Церкви как мистическом теле Христа, соединяющем человека и Бога в реальности настоящего времени. Такому стремлению, вероятно, соответствовало и появление изображений, которые, воплощая христианскую надежду на спасение, служили выражению и подъему религиозного чувства. Согласно отрицающему возможность взаимопроникновения чувственного и сверхчувственного, демифологизированному мировоззрению, преобразование которого только начиналось в это время, «реалистические» изображения священных предметов представлялись все еще невозможными и ненужными, но в то же время существовало стремление приблизиться к Богу здесь и теперь, выражением которого и служило искусство. Чем более утверждалась идея Церкви, соединяющей две стороны реальности, тем более «мифологизированным» становился христианский взгляд на мир. Соответственно утверждалось новое «церковное» понимание сущности и назначения изображений, которое способствовало появлению наряду с изображениями, выражающими христианские чувства и надежды, все большего числа изображений, воспроизводящих священные предметы.
Становление и развитие иконопочитания в V–VII вв
Раннюю икону можно рассматривать как позднеантичное живописное изображение, которое наследовало прежде всего традиции изображений императоров и погребального портрета. Восточные и западные воззрения и практика вначале имели сходный характер. Ранняя икона еще не выражала четко сформулированного учения об образе. Устойчивые типы изображений и нормы отсутствовали, так что каждая икона создавалась сама по себе и следовала своим собственным прототипам.
Иконопочитание, предположительно, начиналось с портретов святых и имело свои истоки в погребальной сфере. Христианство в IV в. допускало изображения усопшего у его гробницы33. Так изображение молящейся женщины в катакомбах Тразона уже не есть анонимный символ спасения, каким являлись Оранты III века. Здесь налицо стремление передать личностные черты. Женщина одета в нарядное платье, на ней украшения. Изображение является образом – воспоминанием об усопшей, который вероятно использовался для частного почитания34 (рис. 12). Росписи в неаполитанских катакомбах Сан-Дженарро (V в.) свидетельствуют о том, что родственники украшали гробницы гирляндами цветов и зажигали свечи перед погребальным портретом, надпись под которым гласит: «Здесь покоится Прокул». По одежде можно предположить, что он был пресвитером, гробница которого, вероятно, чествовалась не только его семьей, но и другими членами общины35 (рис. 13). Первый шаг к культу был тем самым был сделан. Превращался ли образ-воспоминание в культовый образ, зависело теперь от личности поминаемого. Из частного чествования умерших возникало всеобщее почитание святых. Это было во власти общины и могло быть оправдано чудесами, если усопший не почитался еще и как мученик. Изображение вместе с изображенным становилось объектом поминального почитания, которое способствовало культу. Поминальный портрет святого можно было копировать. Он не был больше привязан к собственной гробнице, но мог даже появляться у гробниц других усопших, чтобы способствовать их спасению. Перед образами святых открывались новые возможности: изображения восполняли те же ожидания, с которыми обращались к живому святому, а именно – помочь или сотворить чудеса. Не только реликвии, но и иконы святых создавали уверенность в их физическом присутствии. В церкви, возведенной в Салониках над гробницей святого Димитрия, можно увидеть многократно повторенное изображение святого. Здесь одно поминальное изображение более не связано с одним погребением. Образ Димитрия, которого почитали как святого получил новую функцию. Хорошим примером этого является мозаика VI в. на западной стене церкви. Там изображен молящийся Димитрий, по обеим сторонам от него изображены фигуры, которые просят у него защиты36 (рис. 14). Это ходатайство получает конкретное воплощение в изображении. Прежняя фигура молящегося меняет свой смысл. Если раньше она воплощала молитву о собственном спасении, то теперь она обозначает молитву о спасении других.
Икона Христа, как показывают многочисленные свидетельства, являлась наследницей культа образа императора. Почитание изображений императоров существовало и в христианский период. Те почести, в которых первые христиане отказывали языческому божественному императору, они охотно оказывали христианскому представителю государства. Когда император узаконил себя как слуга Божий и «наместник Христа на земле», государственная иконография сменила свою имперско-античную тональность на направленность религиозноцерковную. Икона Христа теперь ставится выше образа императора.
Так, в IV в., на знамени появляется медальон с изображением Христа, где он занимает место, на котором раньше был император. Оно также вытесняет с лицевой части монет на ее оборотную сторону образ императора, который в это время преображается из солдатского в церемониальный. При Юстиниане I щит и копье заменяются державой с крестом, символом вселенского императора. Исчезает также шлем, вместо него появляется корона37(рис. 15). С другой стороны, поскольку император представлялся современникам «земным образом Небесного Царя», складывающаяся христианская иконография с легкостью усваивала в качестве образца изображения императоров, с их пышным и торжественным стилем. Главная тема ранней иконографии – торжество Господа. Эта тенденция, как отмечает А. Грабар, объясняется не только желанием выразить идею торжества христианской религии после обращения императоров, но и влиянием особенностей имперской иконографии. Официальное искусство с III в. было триумфальным. Если христиане представляли себе власть императора, как проекцию власти Бога, то и изображения Бога должны были представлять цикл, где акцент также сделан на темах победы и триумфа Христа38.
Формы почитания изображений Христа, очевидно, также были унаследованы из имперского культа. В IV в. Афанасий Александрийский «в уста» императорского портрета вложил такие слова: «Я и император едины. Я есмь в нем и он во мне. То, что вы видите на мне, вы видите на нем»39. Иными словами, через сходство изображение становится тождественным оригиналу и предполагает то же поклонение40. Изображения монарха имели значение священных предметов и потом в течение долгого времени требовали поклонения. При некоторых обстоятельствах такие изображения даже заменяли самого монарха и приобретали в этом качестве высокую юридическую ценность41. В IV в. граждане Византии предлагали дары, кадили и даже молились изображениям императоров. Для византийского христианина IV–VI вв. эти способы были естественным выражением почтения к тем, кто был выше их в гражданском и политическом положении. Символам, которые имели отношение к этим лицам, воздавали относительные почести, которые были объективно адресованы прототипам. Поэтому для них было естественно оказывать те же знаки почтения кресту, образам Христа и алтарю. Таким образом, в первые византийские века возникла традиция, которая затем закрепилась, стала фиксированной, как и весь церемониал. Такая практика распространилась в некоторой мере и на Запад, но «ее домом был двор Константинополя»42. Хотя западная Церковь была согласна с восточной в необходимости почитания икон, но оставалась далека от использования таких знаков уважения, как на Востоке. Много позже (в VIII в.) франкские богословы все еще были неспособны понять формы почитания изображений, которые на Востоке были естественны и очевидны, а германцам казались унизительными.
Первые высказывания об образе относятся к IV в., когда христианство возвысилось до государственной религии мировой Римской империи. Они содержатся в послании Евсевия Кесарийского, который был богословом императора Константина Великого. Его сестра спрашивала, может ли Евсевий достать для нее портрет Христа. В ответном послании он ставил перед ней вопрос: какую из двух природ богочеловека она надеется увидеть в образе? Если божественную, то она не может быть изображена, если человеческую, то она недостойна изображения. Тот же Евсевий отнял у одной женщины изображения Павла и Спасителя, чтобы не возникло впечатление, что христиане подобно идолопоклонникам носят образ своего Бога43. Епископ Епифаний из Саламина (умер в 403 г.) так же выражал беспокойство, связанное с почитанием изображений: «Поставьте иконы для поклонения, и вы увидите, что обычаи язычников сделают остальное»44. Соображения Евсевия и Епифания были тогда не единственными – церковный Собор, заседавший в 306 г. в Эльвире, сформулировал в своем 36-ом каноне: «Размещение живописных изображений в церкви должно быть запрещено, так как предмету поклонения и почитания не место на стене»45. Но в том же веке святые отцы в своей аргументации уже ссылаются на изображения, как на нечто очень важное, имеющее большое значение для Церкви. Так Григорий Нисский, в похвальном слове великомученику Феодору, говорит, что «живописец…, изобразив на иконе доблестные подвиги мученика…, начертание человеческого образа подвигоположника Христа, все это искусно начертав нам красками, как бы в какой объяснительной книге, ясно рассказал подвиги мученика… Ибо и живопись молча умеет говорить на стенах и доставлять величайшую пользу»46.
Из западных авторов особенно много писал об изображениях Павлин, епископ Ноланский (ок. 353 – ок. 431 гг.). Построив несколько церквей, он велел расписать их священными изображениями и подробно описывал эти росписи в своих посланиях и стихотворениях. Епископ видел, что изображения гораздо больше, чем книги, привлекают внимание верующих, особенно же оглашенных и новообращенных. Поэтому он прилагал все усилия к тому, чтобы в храмах было много изображений47.
К началу V в. относится очень характерное свидетельство одного из величайших древних подвижников, святого Нила Синайского, ученика святого Иоанна Златоуста. Некий префект Олимпиодор, построив церковь, хотел изобразить на стенах средней ее части с одной стороны землю и на ней сцену охоты с множеством зверей, с другой стороны – море и сцену рыбной ловли, заботясь главным образом, как он говорил, о чисто зрительном наслаждении. Олимпиодор спрашивает совета св. Нила. Тот, отвечая ему, называет его намерение «детским» и «делом, приличным маловозрастным, обольщать око верующих». Далее он дает указание: «Пусть рука превосходнейшего живописца наполнит храм с обеих сторон изображениями Ветхого и Нового Завета, дабы те, кто не знает грамоты и не может читать Божественных Писаний, рассматривая живописные изображения, приводили себе на память мужественные подвиги искренне послуживших Христу Богу и возбуждались к соревнованию достославным и приснопамятным доблестям, по которым землю обменяли на небо, предпочтя невидимое видимому»48 Эти высказывания свидетельствуют о том, что в IV–V вв. в Церкви признавалось высокое значение изображений. Причем, как на Западе, так и на Востоке отмечалась, прежде всего, их дидактическая и воспитательная ценность.
Начиная с VI в. уже нельзя говорить о единой «средиземноморской» культуре, примерно с этого рубежа резко разграничивается история двух культур, Византии и западной Европы49. Византийская живопись VI–VII вв. уже стремится быть «отражением Царства Божия на земле»50, свидетельствует о том, что ее целью является не только воспитание и просвещение верующих, но и их «освящение». По словам Л. Успенского, в это время в общих чертах уже сформирован «византийский стиль», в котором образ «несет в мир и проповедь, и реальное присутствие освящающей этот мир благодати»51. В то же самое время на Западе оставались на прежней «просветительской» точке зрения. К 600-му г. относится основополагающий документ, на который в дальнейшем ссылалась как на авторитет и под который подстраивалась в этом вопросе римская церковь. Это письмо папы Григория Великого, написанное марсельскому епископу Сирениусу, который велел разрушить и уничтожить все образы в своем городе. По этому поводу папа направил ему следующее увещевание: «Одно дело – поклоняться картинам, а другое – узнавать через изображенное на картинах то, чему следует поклоняться. Тому, чему написанное учит тех, кто умеет читать, картина сообщает безграмотным (idiotis), которые на нее смотрят, поскольку эти невежи видят, чему им следует подражать. Живопись – это чтение для тех, кто не знает букв, и выполняет роль чтения, особенно для язычников»52. По мнению Григория, образ выполняет педагогическую функцию для безграмотных, для тех, кто редко берет в руки Библию. Кроме того, образ обращается к памяти, к прошлому, к жизни великомучеников и Христа. Наконец, образ пробуждает чувство и способствует покаянию души, которой открылась ее греховность. Согласно духу этого послания, образ приближен в своем достоинстве к письму и отдален от трактовки его как предмета священного.
Вместе с тем к концу VI в. не только на Востоке, но вслед за ним и на Западе, все чаще об определенных образах стали утверждать то же, что обычно утверждалось о святых и гробницах: они источают целебное миро или свершают чудеса, а тот, кто их не уважает и совершает против них преступления, подвергается наказанию53. Восприятие таких икон, ожидания, связанные с ними и формы их почитания были сходными на Востоке и Западе. Иконы, сохранившиеся, как доказательство культа Марии в Риме (рис. 16 и 17), такие же древние, как и те, что можно обнаружить в Византии: здесь с первой половины V в. существуют церкви Девы Марии, в которых уже до 600 г. может быть доказано присутствие ее икон54. Иконопочитание, достигшее ок. 600 г. в Константинополе своей первой кульминации, вскоре активизируется и на Западе, и не только в Риме. Так, например Григорий Турский рассказывает у себя на родине о чудесах, творимых иконами. К VII в. общественный культ реликвий и образов был окончательно принят Церковью в обеих частях христианского мира.
Вместе с тем не все образы почитались в одинаковой степени, потому что не все обладали одинаковой силой. Фресковая живопись воспринималась как имеющая декоративный и исторический характер не только на Западе, но в ранний период и на Востоке. Любая из икон обладала несравненно большим значением и почиталась как место возможного проявления благодати55. Отдельное изображение создавало впечатление физического присутствия и возможности непосредственного контакта. Такое восприятие усиливалось благодаря перемещению образа, то есть когда он менял свое местонахождение, как живое лицо, или когда его по праздникам освобождали от обычно скрывающей его завесы, и он являлся во всем своем величии. Кроме того, в практике демонстрации почитаемых образов существенную роль играли процессии с иконами. Во время праздничных процессий особо почитаемую икону несли под балдахином, бывшим уже в дохристианской античности эмблемой верховной власти. Иконы, участвовавшие в процессиях, как культовые образы античности, украшались венками, венцами или их даже одевали как реальных персон56. В такой культовой «инсценировке» образ обретал как бы собственную жизнь, действовал как индивидуум, который нельзя было перепутать с другими списками образов. Легенды о его происхождении и чудесах придавали ему ореол. Те иконы, которые уже проявили себя, воспринимались как реликвии и становились объектом особого культа. Как показали события VIII в., культовые изображения на Западе имели значение именно потому, что они являлись реликвиями – как и мощи святых, они обладали возможностью сообщать благодать, которая была доказана чудесами, но все остальные образы, сила которых не была проявлена прежде, воспринимались лишь как напоминание об оригинале. В Византии VI–VII вв., где культ икон также начинался с чудотворных образов, еще не было учения, которое разъясняло бы сущность иконы и оправдывало ее почитание, но уже существовали представления о том, что любой образ, правильно воспроизводящий оригинал, является местом присутствия божественной благодати и энергии, даже если его сила еще не была доказана. В представлениях об иконах здесь изначально существовало предпочтение, отдаваемое определенным спискам. Онтологические отношения между оригиналом и его отображением должны были придавать изображению критерий подлинности. Было важно не насколько художественно изображен святой, а насколько правильно, так что не могло существовать множества правильных портретов, а только один. Классическим доказательством подлинности являлось чудо. На Востоке к началу VIII в. значение, приписываемое иконе, находилось на такой высоте, что изображение Христа в человеческом облике воспринималось как свидетельство его реальности. Эта мысль, получившая теоретическое обоснование и законченную форму в процессе иконоборческих споров, содержалась уже в 82-м каноне Вселенского Церковного Собора, заседавшего в 692 г. в Константинополе (так называемого Трулльского), который определил отношение Церкви к условносимволическим изображениям, практиковавшимся с раннехристианской эпохи: «На некоторых святых иконах изображается агнец, на которого Иоанн Креститель указывал перстом, агнец, избранный образцом милости и заранее указывавший на нашего Истинного Агнца и нашего истинного Бога Христа согласно ветхозаветному закону. Мы отклоняем древние прототипы и тени, как они были переданы Церкви в качестве скрытых указаний на истину. Мы предпочитаем милость и истину, так как мы воспринимаем их как исполнение закона. Если закон на глазах у всех будет изображен, то мы устанавливаем, что Агнец, взявший на Себя грехи мира, отныне должен изображаться на иконах как наш Бог Христос в Его человеческом облике (вместо изображения как древнего агнца), ибо мы тем самым познаем меру унижения божественного Логоса и потому что мы далее через это приходим к воспоминаниям о Его деяниях во плоти, о Его страданиях и о Его избавительной смерти, то есть о тех событиях, которые принесли миру избавление от древнего проклятия»57. Смысл этого постановления в том, что изображения, косвенно указывающие на Христа, подвергают сомнению реальность его воплощения в человеческом теле и действительность его искупительной смерти. Если истина провозглашается во всеуслышанье, то намеки на истину неприемлемы и служат лишь ее уничижению. Эта точка зрения, которая во время иконоборчества была опять подхвачена, относится к определению реальности изображения.









































