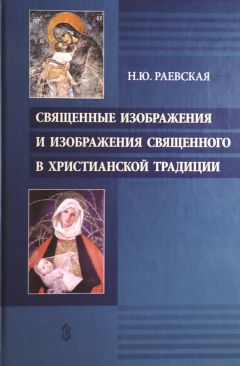
Автор книги: Наталья Раевская
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Запад, пройдя через иконоборчество, признал почитание икон, но так и не воспринял чуждые ему воззрения восточного богословия о сакральном смысле изображений. Поэтому, вроде бы и согласившись с положениями VII Вселенского Собора, западная церковь и в последующие столетия фактически оставалась на позициях «Libri Carolini», подтверждавших провозглашенное еще в 600 г. Григорием Великим декоративное и дидактическое предназначение икон. Эта позиция подтверждается документами последующих столетий. Так Собор в Аррасе 1025 г. провозглашает: «То, что не могут увидеть посредством письма, пусть созерцают посредством неких очертаний живописи»88. В XII в. Ганорий Оттенский пишет: «Живопись создается по трем причинам: первая, потому что она литература мирян; вторая, чтобы здание изрядно украсить; третья, чтобы прошедшую жизнь в памяти воскресить»89. В XIII в. Гийом Дуранд в своем трактате излагает представления о церковном искусстве и его предназначении: «Картины и украшения в церкви суть учение и писание мирян… Потому что те кто не учен, видят то, чему они должны следовать: и вещи бывают понятны и прочтены, хотя бы и буквы были не известны. Мы поклоняемся образам, как постоянной памяти и напоминанию о вещах, совершенных давным-давно…»90
Культовое изображение в христианских церквах
Культовое изображение в православииИтогом иконоборческого кризиса на Востоке явилась жесткая формула – кто не почитает иконы, тот не верует в Христа и его воплощение. Настаивая на обязательности иконопочитания, Церковь стала предписывать строгие изобразительные программы в храмах, осуществляя тем самым контроль над той сферой, которая ранее развивалась без ее ведома и согласия. Церкви с иконами имелись с давних пор, но со времени иконоборчества оформление их внутреннего пространства было приведено в систему, которую можно рассматривать как практическое учение об образе.
Одним из главных итогов стало то, что иконы представлялись теперь не только как средства личного благочестия – они стали литургическими изображениями. Литургическое действо и литургическое изображение выполняли одинаковые задачи и обладали одинаково устойчивыми каноническими чертами. В период, непосредственно последовавший за иконоборчеством, не только оформляется канон церковного искусства, но и происходит «унификация» богослужения. Именно с Торжеством Православия в Константинополе окончательно утверждается, так называемый, византийский богослужебный чин91. Вырабатывается единое гармоническое целое архитектуры, поэзии, живописи, пения, направленных совместно к общей цели: воссозданию единства божественного и человеческого, то есть выражению и утверждению самой сути православной церкви.
С точки зрения эстетического подхода к православным изображениям форма и стиль изображений во внутреннем пространстве византийских церквей были призваны осуществлять своего рода иллюзию включения человека в восстановленное единство земного и небесного92. С точки зрения подхода церковного, храмовые декорации были призваны создать целостный образ, но не для того только, чтобы оказывать эмоциональное воздействие на верующих, а для того, чтобы реально осуществлять объединение всех существ в Боге. Архитектура, роспись, иконы «осмысляются объединением Церкви Небесной и земной в лице ее членов, собранных воедино духом любви в живом общении Тела и Крови. В них и через них осуществляется всеобщее единство…»93. Согласно византийским литургическим толкованиям, храм, обретающий полноту своего выражения в единстве с литургией, есть образ Церкви, и как таковой он есть частица грядущего царствия божия на земле.94 Культовые изображения в храме служат утверждению этой идеи. Они не просто показывают иную реальность, но осуществляют ее.
Византийское богословие провозгласило онтологическую значимость художественного образа. Икона – это не просто символ, указывающий на священный объект и напоминающий о нем. Она является «реальным» символом, который одновременно обозначает и являет обозначаемое. Для тех, кто верит в истинность и божественность изображенного, она есть фактически само изображенное. Образ хотя и не является «по сущности» архетипом, но обладает его святостью и силой. Иоанн Дамаскин, первый теоретик иконопочитания, писал, что «поскольку человеческое тело Христа свято и содержит в себе благодать, то также и образ тела Христа становится по причастию носителем благодати»95. Таким образом получается, что икона по своему значению приближается к таинству. Утверждение о том, что икона «исполнена энергии и благодати», сами богословы признают за «достаточно двусмысленное и сопряженное с опасностью фетишизма речение»96. Феодор Студит, в творчестве которого православное богословие иконы достигло своей вершины, отмечает, что икона не входит в круг таинств и невозможно уподобить ее евхаристическому Хлебу. По его мнению, икона приобщает к Христу не благодаря тому, что в ней пребывает божественная энергия, а благодаря пребывающей в ней ипостаси Христа97. Феодор подчеркивает, что приобщение к Богу через икону осуществляется «ведением христианина», то есть путем его индивидуального духовного общения с личностью, представленной на иконе. Большинство православных авторов продолжают эту мысль, утверждая необходимость духовных усилий со стороны того, кто с помощью иконы хочет приблизиться к Богу. Надо отметить, что икона в православном богословии, как византийском, так и современном, чаще всего предстает как идеализированный феномен, ее виденье не вполне отражает действительное положение дел. «Посвященная иконе литература становится идеологией иконы, фанатизмом иконы, препятствующими измерению ее естественных границ»98. Практика Православной Церкви свидетельствует о том, что во взаимодействии человека с Богом посредством иконы, человеческая личность зачастую является пассивной стороной. По словам П.А. Флоренского, икона – окно в другой мир99. Однако не совсем подобное тому, через которое можно что-то увидеть. Напротив, она являет собой присутствие, воздействующее на того, кто пассивно его принимает. Поэтому ей и подходит обратная перспектива, направляющая напряжение на цель, которой является глаз созерцателя. Созерцание иконы, духовное прозрение ее посредством иного мира не является единственным путем, который ведет к нисхождению благодати от нее. Не обязательно самому подниматься к Богу через образ. Достаточно просто «верить в икону», в реальность изображенного, и тогда она сама по себе есть источник святости. Через нее божественное само являет себя и преобразует среду, в которой она находится. Именно поэтому в послеиконоборческий период икона в православии утверждается не только как молитвенный, но и как литургический образ, и как таковая служит необходимым элементом православного храма. Как отмечает П.А. Флоренский – она не есть вещь, случайно помещенная в храме и могущая с успехом быть перенесенной в какое-нибудь другое место. С точки зрения эстетики, храм это место, где происходит синтез искусств. Здесь «все сплетается со всем – от архитектуры до движений священнослужителей и переливов складок драгоценных тканей»100. Синтез не ограничивается сферой изобразительных искусств, но вовлекает в свой круг вокальное искусство и поэзию. Литургия, которая является музыкальной драмой; архитектура и живопись, ее обрамляющие, все здесь подчинено общей цели – воссозданию единства вселенной, объединению твари и Творца. Каждый элемент храмового действа способствует действенности православного культа101. Божественное присутствие обеспечивается многими средствами, в том числе живописью и мозаикой икон и фресок.
Люди, находящиеся в храме и участвующие в литургии, обретают здесь мир, «собранный воедино», а не тот «греховный, хаотический, распавшийся на части», в котором мы существуем102. Поэтому здесь важен сам факт присутствия икон. Какие именно иконы находятся в храме и как они выполнены, является вопросом второстепенным. «Подлинность» изображений как посредников между тем и этим миром, гарантирует Церковь. Отсутствие личного молитвенного контакта со святым не обесценивает икону, ведь она является значимой сама по себе. Даже вне общения она есть источник божественного. Сложность символического изобразительного языка иконы требует высокого уровня просвещенности для прочтения и делает его недоступным для основной массы верующих. Но представляется, что в этом и нет необходимости. Присутствие благодати дается самим наличием иконы, а не знанием ее «содержания» или молитвенным общением, которое может и не зависеть от правильности прочтения. Об этом же свидетельствует и характер надписей на иконах. Так, на житийных иконах имеют место тексты не механически взятые из тех или иных житий, а особым образом обработанные. Эти тексты незакончены, сокращены и лаконичны103. Очевидно, что их прочтение не было обязательным и необходимым. Важно было само наличие этого текста, а не получение информации от него. Расположение и форма надписей диктовались каноном, и текст превращался в один из символов иконы, которые не сообщали о личностях или событиях, а являли их. Согласно средневековым представлениям, в имени божьем присутствует божественная энергия, а через нее – божество. Поэтому написание имени было одним из условий, обеспечивающих присутствия божественного в иконе104. Таким образом символический язык иконы предназначен в первую очередь не для диалога с верующим, а для явления образом себя. То, что изображено на иконе, существует объективно и не зависит от зрителя. Икона овеществляет, делает зримыми невидимые лики. Причем так же, как была обожена плоть Христа, Богоматери, святых, так и их материально запечатленные на иконах образы обожены, обладают святостью, способностью изливать божественную энергию и благодать. Образ святого, «овеществленный» иконописцем, обладает истинным бытием и посредством иконы преображает пространство, в котором находится. Если в храме есть иконы – зримо присутствующие свидетели «мира иного», то через них (в том числе через них; это не достаточное, но необходимое условие) этот божественный мир присутствует в храме.
Как мы видим, для церковной практики оказывается не столь важным то, каким образом написана икона, но, с другой стороны, Церковь убеждена, что ни техника иконописи, ни применяемые материал, ни тем более композиция не могут быть случайными. Символ совпадает с реальностью только тогда, когда он адекватно ее воспроизводит, поэтому не может быть произвола в изображении. Святые образы воплощаются «не какими угодно приемами и не в каких угодно вещественных средах»105. Недаром иконописные руководства дают точные наставления относительно всего хода создания иконы. И не только насчет расположения и внешности изображаемых персонажей, но и жестов, цветовой гаммы, а также изготовления гипса, клея, красок и т. д. Даже такие «мелочи» имеют принципиальную важность и не могут быть случайными. Ведь как сам храм, с его архитектурой и внутренним устройством, так и икона (даже если на ней изображен только лик святого) есть тоже «модель мироздания», в которой снимается противоречие между «горним и дольним» мирами. Поэтому от того, как воспроизведен в иконе идеальный мир, от того насколько вещественные, материальные элементы отражают высшую действительность, зависит, достигает ли она своей цели. Сами вещества, применяемые в иконописи, символичны и «каждое имеет свою метафизическую характеристику, через которую оно соответствует с тем или иным духовным бытием»106. С точки зрения православия процесс создания иконы не есть просто набор оправданных технологических операций, но, в известной степени, – священнодействие, недаром в русских иконописных подлинниках можно встретить сравнение иконописца со священником: подобно тому как священник «божественными словесы» составляет плоть, так и иконописец «вместо словесы начертает и воображает и оживляет плоть»107. Во время изготовления иконы осуществляется процесс преобразования материального в духовное, поэтому создание иконного изображения может быть сопоставлено с евхаристическим пресуществлением. Отсюда следует и вывод о необходимости одинакового образа жизни для священника и для иконописца. В иконописи не должно быть места любой субъективности, психологизму, следованию земным моделям. Главное в иконе – реализм по отношению к тому объективно существующему, истинному миру, который она изображает, а точнее сказать ее «бытийственность». Изображаемое дается здесь не как «эстетический идеал» и не как «натура», но как сущее108. Неважно «хорошо» или «плохо» изображен персонаж, а важно, в самом ли деле это он. Икона действенна, если она истинна, то есть если художник смог увидеть и воплотить в красках реальность того или иного образа. Живописец, воссоздающий божественную реальность на иконе, объединяющий материю и дух в изображении, не есть творец в полном смысле этого слова. Его роль также, как у созерцающего икону, скорее пассивная. Он только «овеществляет» незримые образы, закрепляет в линиях и красках то, что ему явлено. Его цель уловить и запечатлеть максимально достоверно то, что скрыто от обычных глаз. Православный иконописец не создает образы, а только свидетельствует об увиденном. Святые, Богоматерь, сам Христос во плоти есть «свидетели мира невидимого», «живые символы соединения горнего и дольнего»109. Иконы же – закрепленные красками видения, духовные образы святых. Они есть некий «костыль духовности», необходимый из-за немощности духовного зрения верующих. Иконы обозначают в вещественной форме то, что скрыто от обычных глаз. Для того, чтобы святые являлись посредством живописцев на иконах, иконописцы должны соответствовать самым высоким религиозным и нравственным требованиям, «быть смиренны и кротки, соблюдать чистоту и духовную, и телесную, пребывать в посте и молитве, и часто являться для советов к духовному отцу»110.
Православное богословие настаивает на том, что все подлинные иконы – явленные. В основе иконы всегда лежит духовный опыт, реже собственный, чаще церковный, соборный. В деяниях VII Вселенского Собора утверждается, что ведению художника должна принадлежать одна техническая сторона, сочинение же икон предоставляется святым отцам111. Икона в православии действительно воспринимается как предмет, не подлежащий произвольному изменению, Епифаний же, автор этих слов, доводит этот взгляд до крайности, рекомендуя репрессивные меры, которые в реальности никогда не применялись. Строгого контроля над иконами со стороны Церкви не было даже после иконоборчества. Церковная власть не только не предлагала каких-либо руководств по иконографии, но и не протестовала против нововведений. По словам Н.В. Покровского, византийские богословы были далеки от того, чтобы к каждому отдельному изображению прилагать точно определенный масштаб вероучения и подвергать изображения критике. Иконографическое единообразие в Византии поддерживалось не внешними мероприятиями со стороны Церкви, но характером воспитания художников, общим установившимся складом понятий о церковном искусстве, уважением к преданию, общим принципом консерватизма восточной церкви112. Правда соборные решения устанавливали, что с догматической точки зрения может быть изображено, а что нет, но сами подлинники не утверждали. То, как изображать, было по существу делом художников. Иконографические правила, так называемые каноны, возникали на основе постепенно сложившейся практики. Образцы иконописи создавались художниками, церковные власти же призывали к следованию этим единым образцам для предотвращения искажений предания. Иконография создавалась историей, а контроль Церкви за иконами (как в Византии, так и на Руси) не был организован. Подлинники в обоих случаях появились тогда, когда традиция оказалась под угрозой113. Таким образом, было бы ошибочно считать, что весь процесс создания иконы устанавливался и контролировался официальной Церковью. Ее представители только настаивали на сохранении накопленного опыта в неизменном виде.
Начиная с XII в. в Византии представления о сущности и назначении культовых образов постепенно трансформировались. Хотя основная масса изображений до самого конца византийского периода не выходила за рамки традиционных форм, вместе с тем появлялось стремление к передаче настроения персонажей, внесению бытовых, повествовательных и аллегорических элементов, которые достигли своей кульминации в «палеологовском возрождении». Если до этого эстетическая сторона церковных образов не представлялась существенной, и их ценность определялась прежде всего культовым значением, то в XII в. впервые появляется эстетический интерес к изображениям. Михаил Пселл, описывая в своей «Хронографии» храмы, построенные византийскими императорами, ставит на первое место гармонию, отмечая единство частей, составляющих целое: «Глаз нельзя оторвать не только от несказанной красоты целого, из прекрасных частей сплетенного, но и от каждой части в отдельности, и хотя прелестями храма можно наслаждаться сколько угодно, ни одной из них не удается налюбоваться вдоволь, ибо взоры к себе приковывает каждая, и что замечательно: если даже любуешься ты в храме самым красивым, то взор твой начинают манить своей новизной другие вещи»114. Поздневизантийские представления о назначении культовых изображений выходили за рамки их понимания как средств причастия к сверхчувственной реальности, теперь они все чаще рассматривались как средства пробуждения религиозного чувства и интеллектуального познания божественных истин.
В русском православии, начиная со второй половины XV в., наблюдались сходные тенденции в отношении изображений, характеризующиеся нарастанием декоративизма, повествовательности и аллегоризма, рассчитанные на эмоциональное и интеллектуальное воздействие. Именно поэтому Церковь на Стоглавом соборе 1551 г., пытаясь противостоять нововведениям, настаивала на необходимости контроля за иконописанием. «Епископы и архиепископы призваны лично следить за живописцами, коим они доверили слежение за другими живописцами и проверять их со всей строгостью… Каждый настоятель в своем монастыре должен неусыпно и неустанно следить за тем, чтобы иконописцы воспроизводили древние образцы и воздерживались ото всяких домыслов, и не изображали Господа по своему усмотрению»115. Это постановление было закреплено многочисленными иконописными подлинниками, которые содержали в себе предупреждения иконописцам: «Кто станет писать иконы не по преданию, но от своего измышления, повинен будет вечной муке»116. Но эти меры не смогли исправить положение дела, поскольку требование Церкви «следовать образцам» было обусловлено скорее консерватизмом, чем пониманием подлинного значения православного культового образа, которое к тому времени было фактически утрачено, о чем свидетельствует аргументация самого митрополита Макария, руководившего Собором117. В XVII в. продолжается и достигает своей кульминации процесс внедрения элементов чуждых классическому православному пониманию образа. XVIII в. приходит к полному забвению и непониманию значения иконы. Лишь на рубеже XIX–XX вв. наступает переоценка ценностей, связанная с общим возрождением Православной Церкви, возвращающейся к своим истокам. Появляется тяготение к подлинно православным традиционным архитектуре и иконописи, а вместе с ним возрождается и богословие иконы, восстанавливающее ее значимость в качестве священного изображения.
Культовое изображение в католицизмеНа Западе культ образов, в первую очередь, не икон, а распятий, статуй Девы Марии и святых, получает особенное распространение начиная с IX в.118 Распространение культовых изображений совпадает с распространением культа реликвий на Западе. Сдержанность по отношению к почитаемому образу, которую провозгласили «Каролинговы книги», исчезла, как только произошло соединение образа и реликвии. В этом соединении реликвия была на переднем плане, ей приписывалась несравненно большая ценность, чем образу, которому она придавала все его достоинства. С одной стороны, реликвия явилась катализатором почитания образа, с другой стороны, образ был катализатором воздействия реликвии, почитание которой было главной целью. Образ не был предметом созерцания, эстетическая сторона или историческая правильность изображения не играли большого значения. Он лишь представлял реликвию и привлекал фантазию верующих. Новые скульптурные типы, которые сформировались в течение IX в., были сходны с сосудами реликвий своим крепким, объемным обликом и похожи на них своими окладами из листового золота с драгоценными камнями119 (рис. 19). Пластическое произведение искусства возвращало телесной реликвии человеческую внешность, которую она утратила, и создавало уверенность в реальном присутствии святого.
В соединении реликвии и образа, правда, возникала трудность в отношении изображений Христа и Богоматери, от которых не осталось телесных реликвий. Предполагается, что пластические изображения впервые появились именно в форме Распятия (рис. 20) и тронной статуи Мадонны (рис. 21). Образ распятого Христа продолжал по-своему более древний культ креста, который, как таковой, был реликвией. В данном случае сам крест служил источником святости для изображения, но со временем и в фигуре распятого Христа, и в тронной статуе Мадонны стали хранить их второстепенные реликвии, дополненные главными реликвиями других святых120.
В X–XI вв. официальное церковное понимание назначения и сущности изобразительного искусства находилось еще в русле григорианской традиции и каролинговых книг. Вместе с тем объединение изображения и реликвии привело к распространению почитания культовых образов, которые воссоздавали физический облик святых, реликвии же, находящиеся внутри фигур, обладали святостью и способностью творить чудеса. В сознании мирян, вероятно, значения образа и реликвии сливались, главным было впечатление телесного присутствия святого, творящего чудеса, сама статуя при этом казалась носительницей божественной энергии. Официальная же Церковь, признавая священные изображения, утверждала, что их святость определяется не изображением как таковым. Не идентичность образа персонажу делала его источником благодати, почитание таких образов оправдывалось наличием в них реликвий, святость которых не вызывала сомнения. Таким образом, не всякое изображение, даже максимально достоверно воспроизводящее прототип, могло иметь культовое значение, а только то, которое было связано с реликвией.
Описание Бернара Анжерского, рассказывающего о своем путешествии в аббатство Конк к знаменитой статуе св. Веры в 1013 г., демонстрирует представления клириков и богословов об «источнике» святости изображения, как и их отличие от народного восприятия. Как человеку просвещенному, в начале ему представлялась суеверием традиция создавать «статую своего святого из золота, серебра или другого металла», прятать в нее реликвии и обращать свои молитвы к «предмету без языка и души». Но после посещения аббатства, он вернулся успокоенным, так как понял, что сама статуя служит лишь благочестивым напоминанием, являясь не более чем реликварием, которому «ювелир придал на свой манер человеческую форму». Убедившись в чудесах, он пришел к выводу, что чудотворная сила обусловлена не статуарной формой, а могуществом реликвии121.
В XII-XIII вв., популярность собственно образа возрастает. Если раньше реликвия была центром, а изображение – обрамлением, то теперь возникали изображения на досках, в рамах которых находились реликвии. Впоследствии возникали легенды о происхождении и чудесах, становившиеся все более смелыми и не чуждавшиеся даже подложных документов. Авторитет таких великих чудотворных изображений, как Плат Вероники; Мадонна, написанная Лукой; Распятие из Лукки, по преданию сделанное человеком, лично присутствовавшим при распятии Христа, заключался не в их идентичности с личностью, а в их истории. Вопрос о сходстве и различии между изображением и личностью мало занимал теоретиков Запада. В обычае доверять «подлинным» иконам не видели философской проблемы. Форму икон, имеющих славу достойного происхождения, канонизировали, и канон в этом случае соблюдался достаточно строго122. Жесты и позы предписывались схематически. Это был метод, использовавшийся для того, чтобы сообщить славу и действенность восточных образцов их точным копиям.
XII–XIII вв. были отмечены мощным всплеском живописи в виде крестов, алтарей и чудотворных икон, стимулом для развития которой являлись живописные иконы, которые начали прибывать на Запад во время крестовых походов123. В написании икон здесь в это время придерживались «двойного подхода» в зависимости от того, хотели или нет воспроизвести определенный подлинник с Востока. Во втором случае, то есть в собственных творениях, не ставили границ изменениям, благодаря чему живописные изображения уже в первом столетии их укоренения в Италии так сильно изменили свой вид, что утратили общую почву с восточной иконой. Изображенные личности выступали со страдальческим выражением или с жестом любви, обращались с просьбой к другому лицу или смотрели приветливо на зрителя (рис. 22 и 23). Такие живописные изображения приобретали особые качества для индивидуального воздействия и толкования. В это время старый культовый образ являлся одним полюсом религиозной жизни, а частный образ – другим. Вместо того чтобы ждать чуда, люди все чаще стремились осуществить диалог в воображении, предполагая, что образ ему в этом поможет. Поэтому от изображения ждали изобразительного акта говорения, который был либо изнутри образа направлен на созерцающего, либо происходил между партнерами изображения. При этом образ утрачивал традиционную дистанцию и замкнутое существование124. К XII в. за воспитательно-дидактическим и культовым применением начинает проявляться личностное отношение к изображениям, которое соединяется с новыми формами религиозной жизни и созерцания, которые развиваются сначала в бенедиктинских, затем в цистерцианских монастырях, затем в движении нищенствующих орденов и в среде мирян. В это время созерцание считается истинным смыслом посвященной Богу жизни. Приобретение мистических навыков во многих случаях начинается молитвой перед образом, следующая ступень мистического совершенствования состоит в создании собственных внутренних образов, последняя ступень – в исключении чувственного опыта и безобразном созерцании Бога душой. Таким образом, изображение – прежде всего Распятие, являлось посредником «визионерского экстаза». На протяжении XIII в. экстаз перед Распятием становится обязательным топосом мистики и агиографии, особенно женской. Начиная со второй половины XIII в. все более многочисленные свидетельства указывают на распространение таких форм религиозности в женских монастырях, особенно в среде нищенствующих орденов. Даже если не каждой монахине дано было испытать экстаз, все они были призваны совершать содействующие этому духовные упражнения. В XIV в. многочисленные письменные свидетельства подтверждают первостепенную роль почитаемых образов в визионерских образах мистиков, речь идет прежде всего о распятиях, об образах Богородицы с Младенцем, Пьеты, Мужа Страждущего и даже Младенца Христа в люльке125.
В эту эпоху возрастает значение личной религиозности и в среде мирян. В течение столетий Церковь функционировала как «инструмент духовной компенсации». Священнослужители и монахи молились за всех мирян и создавали памятники церковного искусства, имевшие всеобщее значение. Теперь все больше проявлялось стремление верующих молиться самим, самостоятельно произносить слова священных текстов и проникать в их смысл, иметь собственные моленные образы126. Такие образы не были священными изображениями, сам факт наличия которых обеспечивал нисхождение благодати, они были изображениями, посредством которых можно было подняться к Богу. Молитва перед образом становилась теперь общей практикой, для которой мистика являлась идеалом. Мирянин, который в городском обществе был занят своей работой, обращаясь с молитвой к образу, едва ли мог рассчитывать на мистическое созерцание Бога, но общение с образом способствовало проявлению и подъему религиозного чувства. Вместе с тем подобные изображения безусловно были открыты как для мистической практики, так и для обычной молитвы-прошения: они служили как мистическому переживанию, так и прагматической религиозности и домашнему воспитанию детей.
Возрастающее значение потребовало четкого осознания смысла и значения изображений, а также создания соответствующей теории образа. Учение, распространившееся во всей западной церкви, начиная с XII в., продолжало традицию Григория Великого, переработав ее на основе новых веяний. Стимул развитию теории дала полемика – это верно и для Св. Бернарда, полемизировавшего с клюнийцами, и для клириков и монахов, выступавших против двух основных противников изображений – еретиков и иудеев.
У св. Бернарда не было категорического осуждения всех изображений. Полемику порождал только вопрос об украшении монастырских церквей. Одновременно о декорации городских соборов он писал следующее: «Одно дело – епископское, другое дело – монашеское. Ведь мы знаем, что епископы, призванные печься и об умных, и о неразумных, вызывают благоговение в плотском человеке посредством красы телесной, ибо не могут достичь того посредством красы духовной»127. Таким образом, настаивая на необходимости чисто духовного контакта с Богом для людей просвещенных, он признавал полезность использования изображений для воспитания и просвещения мирян. В некотором смысле он стоял на позициях вчерашнего времени, т. к. признавал только дидактическую ценность искусства и отказывал ему в анагогической функции, важность которой отстаивали его противники128.
Отрицание изображений еретиками было куда более радикальным, чем у Бернарда. Оно объяснимо из их общей идеи отказа от всякого посредничества между Богом и верующими, установленного Церковью. В 1025 г. епископ Гаррард Камбрейский читает проповедь против еретиков Арраса. Перед лицом угрозы, которую они представляли для общественного и идеологического порядка, он предстает одним из первых теоретиков идеальной схемы трех сословий христианского общества129. В то же время он объясняет значение креста, Распятия и изображений. Оба аспекта его проповеди неразделимы – выступать против изображений отныне значит выступать против общественного порядка и власти клира. Крест – это знак креста, в котором он почитаем; изображения Богородицы и святых, следуя Григорию Великому, позволяют неграмотным помнить священную историю, воспитывают добродетели, но у них есть и другая функция: они «возбуждают внутренний дух человека». Наконец, изображение Распятия позволяет действительно уподобиться страдающему Христу, поскольку, посредством взгляда, оно «запечатлевается в сердце». Таким образом, можно четко видеть, как в начале XII в. традиция, идущая от Григория Великого, не будучи отброшенной, изменяется и адаптируется для оправдания новых изображений, чтобы дать место более прочувствованному личному отношению к ним, в то же время укрепляя с их помощью иерархию христианского общества130.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































