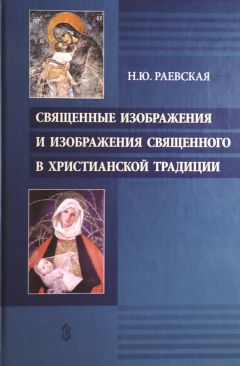
Автор книги: Наталья Раевская
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В полемике, которую вызвало выросшее значение изображений, немалую роль играла и критика со стороны иудеев. Среди авторов антииудейских трактатов наибольшее внимание обоснованию назначения культовых изображений уделял Руперт Дойцский (1126 г.). Он выделял три типа изображений. Во-первых, это орнаментальный ансамбль церкви, направленный на восхваление Бога: ангельские мотивы, растительные орнаменты, скульптура, живопись, резьба по камню и дереву. Эти изображения не обязательно были фигуративными, но «вводили в церковь своего рода музыку – визуальное сопровождение ангельского хора»131, способствуя общему эмоционально психологическому подъему. От этого общего фона отличаются изображения, рассказывающие о деяниях Христа и святых. Их функция состоит в репрезентации, призванной закрепить и воспроизвести в памяти всю Священную Историю от пророков до святых. Это функция христианских изображений как «учебника для неграмотных», которая была закреплена Григорием Великим. Наконец, из всех изображений выделяется Распятие. Оно есть не только «искусство памяти», но и предмет культа и мистического созерцания. «В форме креста мы изображаем страдание Христово, которое следует почитать… Показывая смерть Христа на внешнем подобии креста, мы горим внутренним огнем любви к Нему. Мы постоянно преклоняемся перед Ним, и благочестиво размышляем о Нем, Который умер, чтобы искупить наши грехи»132. Распятие поддерживает в христианине чувство сосредоточенного покаяния и почитания святыни. Дух человека, созерцающего Распятие, соединяется с Христом «по благодати приемничества», совершающегося через уподобление Христу. Правда, для мирян Распятие выполняет скорее воспитательную функцию, и лишь для клириков – мистическую. «Мистичекое содержание изображения Распятия ведет к переходу, transitys, к тайным истинам, к почти сакраментальному восприятию, “усыновлению” верующего Христом, к его уподоблению Ему, как это испытал Руперт в собственных экстазах»133. Таким образом, представления о назначении образа претерпевают трансформацию по сравнению с каролингской эпохой. Изображения служат не только для украшения, просвещения и воспитания или же являются предметом почитания, сходного с почитанием реликвий. Теперь они воспринимаются как медиаторы между человеком и Богом. Это же понимание назначения образа отразилось в теоретических трудах по эстетике. Материальный образ, созданный художником, обладает отдаленным подобием с прототипом, неся в себе, как и все земное, отблеск божественного света. Поэтому посредством образа возможно восхождение от материального к божественному, его созерцание может стать «лестницей в небо». Живописные и скульптурные символы, в частности Распятие, становятся опорой религиозного опыта. Рост значения изображений поддерживался растущим влиянием Дионисия Ареопагита из центра его распространения – аббатства Сен-Дени. Св. Дионисий открывал для Запада «ступенчатое» виденье мира, уровни которого распространяются от сверхбытия вплоть до бесформенной материи. Изображения обладают ценностью, поскольку «они поднимают нас от чувственного к познаваемому, от священных символических образов к простым вершинам небесной иерархии»134. Это восхождение от материального мира к нематериальному Псевдо-Ареопагит описывает как «анагогический подход», то есть в дословном переводе «метод постепенного восхождения». Это то, что провозглашал и применял на практике аббат Суггерий из Сен-Дени. В одном из стихотворений он объясняет назначение дверей, сияющих позолоченными бронзовыми рельефами, представляющими Страсти и Воскресение Христово. Эти стихи выглядят как сжатое изложение всей теории «анагогического» озарения:
«Кто бы ты ни был, стремясь воспеть эти чудные двери,
Ты подивись не на злато, а больше умелым трудам.
Светел тот труд благородный; но, будучи светел и благороден,
Должен тот труд озарить и направить тебя через истинные светы,
К свету Истины через врата Иисуса.
Что подобает в сем мире, поведают то позлагценые двери:
Спячкой объятая мысль воспаряет к истине через то, что материально,
И, узревая сей свет, из хлябей земных восстает»135.
Усваивая слова св. Дионисия, Суггерий не только воздавал дань покровителю своего аббатства, но и обретал авторитетное подтверждение своих взглядов. Он обнаружил в словах Дионисия христианскую философию, которая позволяла ему приветствовать материальную красоту как источник духовного блаженства, а не вынуждала бы бежать от нее как от соблазна.
Чрезмерная роскошь убранства многих церквей, породила в XII в. и противоположную позицию, правда не слишком распространенную. Цистерцианцы, представителем взглядов которых являлся св. Бернард Клервосский, не одобряли присутствие произведений искусства в храмах, поскольку ощущали опасность от него исходящую. «Столь велика, в конце концов, столь удивительна повсюду пестрота самых различных образов, что люди предпочтут читать по мрамору, чем по книге, и целый день разглядывать их, поражаясь, а не размышлять о Законе Божием, поучаясь… Когда реликвии закрыты золотом, очи наслаждаются, а кубышки отверзаются. Изображают святого или святую как можно краше, и считают их святыми тем более, чем положено красок. И больше удивляются красоте, чем поклоняются чистоте»136.
Поначалу западноевропейское средневековье, хотя оно и рассуждало о прекрасных вещах и красоте всего сущего, довольно пассивно относилось к идее развития специальных категорий на этот счет. В этой связи интересно, каким образом переводчики греческого текста Псевдо-Дионисия передавали понятия kalon (прекрасное) и kalos (прекрасный). В 827 г. Илдуин, первый переводчик Дионисия, обращаясь к 7 разделу IV главы трактата «О божественных именах» и понимая kalon как онтологическую благость, дает следующий перевод: «Но доброта и благо не разделяются в причине, все сополагающей в единое… Мы называем добрым то, что причастно благому». Три столетия спустя Иоанн Сарацин переведет тот же отрывок следующим образом: «Прекрасное и красоту не должно разделять в причине, которая все вбирает в единое… Мы называем прекрасным то, что причастно красоте…»137 Новое мировосприятие, постепенно приходившее к утверждению ценности материального мира, способствовало, начиная с XI в., развитию интереса к эстетическим феноменам и стремлению упорядочить эти представления в рамках богословского вероучения.
Значительный вклад в развитие эстетической мысли внесло учение философской школы монастыря Св. Виктора в Париже. Теория созерцания, разработанная спекулятивной мистикой и рассматривающая ряд ступеней созерцания, включала и представление об эстетическом созерцании и удовольствии от созерцания прекрасного, сообщающих ей особый эмоциональный оттенок. В сочинениях Гуго Сен-Викторского размышления об эстетическом характере созерцания и формальной красоте приобретают особенно большую важность. Внимание Гуго к зрительно воспринимаемой красоте и попытка понять и определить ее структуру заставили современных исследователей видеть в нем первого теоретика красоты в Средневековье138. Эстетические теории Гуго, а так же других представителей этой школы – Ришара Сен-Викторского и Фомы Верчеллийского, оказали огромное влияние на представления о красоте XII в. Связь и взаимодействие этих теорий с художественной практикой этого времени предстает в трудах заказчиков произведений искусства, в частности аббата Суггерия.
В XII–XIII вв. эстетические представления, до тех пор находящиеся в сфере метафизических спекуляций и осмысливаемые в этическом плане, начинают сознательно связываться не только с материальным, вещественным миром, но и с произведениями искусства. Происходит очевидное сближение и соприкосновение философской концепции красоты и художественной практики. Представления о ценности света, весьма ярко характеризующие эстетическую мысль XIII в., о пропорциональности, очертании, форме, находят конкретное воплощение и аналогии в готическом искусстве139. Нельзя сказать, что изображения были возвеличены благодаря теологам, но и они внесли в это свой вклад, разрабатывая теорию прекрасного. Св. Фома раскрывает эту тему, говоря, по преимуществу, о Сыне, рассматриваемом как образ. Христос прекрасен, потому что он – образ Отца, а образ – это форма, перенесенная во что-либо из чего-либо иного. Как образ, Сын обладает тремя атрибутами красоты, каковы суть целостность, соответствие и ясность. Аквинат, касаясь теории культа изображений, не цитирует письма Григория и к вопросу об образах подходит не с пасторской, а с теологической точки зрения. Его метафизика позволяет видеть мир как бесконечную череду образов, соответствующих друг другу в строго определенном порядке, освещенных единым светом. «Образ Христа как изделие из крашеного или вырезанного дерева не заслуживает никакого почитания, почитание может быть отнесено только к разумным существам. К образу Христа проявляют почтение именно как к образу»140.
Теологическая мысль в лице Фомы Аквинского, Бонавентуры, Альберта Великого приходит к «пан-иконству»: все соучаствует в божественном бытии в разновидностях красоты. Богословское достоинство изображения оказывается в естественной зависимости от его художественных свойств. Св. Бонавентура ясно формулирует два основания, заключенной в изображении, красоты – она может иметь место, даже если в той вещи, которой художник подражает, никакой красоты вообще нет. Изображение красиво тогда, когда оно выполнено должным образом и верно передает оригинал. «Изображение дьявола называется «красивым» тогда, когда хорошо показывает его мерзость и посему само мерзостно»141. Изображение безобразного прекрасно тогда, когда оно убедительно передает это безобразие: таким образом, могут быть оправданы многочисленные изображения дьявола в средневековых соборах и критическое обоснование того неосознанного удовольствия, о котором свидетельствовал и которое осуждал Бернард Клервосский.
Эстетические представления представителей схоластики служили обоснованием возможности свободной интерпретации религиозных тем в изобразительном искусстве, которая появляется в это время. Св. Фома утверждал, что в любом искусстве, поскольку оно есть изобретение человека, скрывается только тот смысл, который имеет в виду автор, то есть буквальный смысл142. Самое большее, что может искусство, так это создавать поверхностные отпечатки материи, которые являются только знаком, который указывает на определенную реальность. Изображение поэтому не обладает онтологическим значением и призвано оказывать только субъективно-психологическое воздействие. Соответственно надежды, возлагавшиеся на культовое изображение, все больше опирались на личность художника, на его творческую индивидуальность. Образы зависели от личных размышлений художника, от синтеза религиозного и эстетического, который он совершил в процессе его созидания.
Западная церковь, признавая важность изображений для религиозной практики, всегда отмечала, что они только изделия, нечто, произведенное мирскими искусствами и не могущее иметь мистического предназначения. Они не подвластны какому бы то ни было сверхчувственному влиянию, никакой ангел не водит рукою художника. Само по себе искусство нейтрально, в изображении нет ничего такого, чему надо поклоняться, что надо чтить: красота его возрастает или умаляется в зависимости от дарования художника. Изображение ценно не потому, что на нем изображен какой-нибудь святой, а потому, что оно хорошо выполнено и к тому же из ценного материала. Таковы были представления, изложенные в «Каролингских книгах» – представления об автономности художественного изображения, согласно которым образы могут иметь только самоценную значимость, источником которой не является их связь со сверхчувственным бытием. Когда к XII–XIII вв. значение образов возрастает, то речь идет о возрастании значения именно так понятого образа. Его важность возрастает, но не потому что в нем начинают усматривать связь с первообразом, а потому что он красив сам по себе, сделан искусно, а значит, с одной стороны, может, по словам Бонавентуры, «возжечь дух простецов и возвысить сердца бесчувственных»143, а с другой стороны, поскольку во всякой красоте есть отблеск божественной красоты, то созерцание любых ее проявлений способствует восхождению души к Богу.
В XIII в., в эпоху распространения частных образов, Церковь, терявшая монополию на управление почитанием образов, возмещала потерю посредством увеличения количества изображений и представляла себя либо такими образами, каких частные лица не могли себе позволить, либо такими, которые были прославлены из-за их древности и подлинности. Утверждением алтарных изображений, увеличением их количества и размера, стремились подчеркнуть, что господствующее положение в этой области остается за Церковью, осуществляющей, в том числе с помощью образов, посредническую связь между человеком и Богом. Реликвии и чудотворные изображения, находящиеся во владении Церкви, входили в арсенал «освящающих» средств, через которые «транслировалась» божественная благодать. Даже в том случае, если это были не образы-реликвии, через которые божественное проникало в мир, а образы-напоминания, при помощи которых человек поднимался к Богу, их наличие в храме служило утверждению посреднической роли Церкви. Недаром в последующем, в глазах реформаторов, изображения представлялись олицетворением присвоенной Церковью монополии на связь с Богом, против чего они выступали с большим рвением, чем против самих образов.
Чудотворный культовый образ был редким исключением. Зато каждая более или менее значительная церковь обладала живописным или скульптурным алтарным образом. В XII–XIII вв. еще шли споры о том, могут ли у алтаря находиться образы и какими именно они должны быть. В отличие от изображений на внутренних и внешних стенах, образы у престола попадали в контекст реликвий, место расположения и почитания которых находилось именно здесь. В этом случае было возможно возникновение культа, аналогичного почитанию реликвий, поэтому спор из-за алтарных изображений был спором из-за почитания образов, которое хотели ограничить, так как считали его неправомерным. Так в Магдебургском сборнике ритуальных предписаний у алтаря допускались только кресты, которые указывали на жертвоприношение: «Ибо образы суть тени и не принимают истинного участия в том, что они изображают»144. Это противостояние алтарным образам было не слишком решительным, так как в конце-концов они получили повсеместное распространение.
Интересно, что когда алтарь оказался местонахождением икон, возле него стали собирать все образы, в которых нуждались. Он должен был, если в одном месте почитали нескольких патронов, увеличиваться в размере и вмещать все их фигуры. Иконы-кресты по заполнению их плоскости и по ее членению вмещали в себя целый комплекс различных образных тем в сложном иерархическом расположении. Если крест больше не удовлетворял требованиям, то проектировали новые носители образов и другое их расположение. Примером является алтарь-складень. Каждое свободное место здесь заполнено фигурами, так как этот единственный носитель изображений должен был раскрыть в образах всю ежегодную культовую программу. Позднее нашли более удобное решение этой задачи, когда целые ряды изображений соединяли с алтарем и превращали их в малые живописные витрины или фасады с образами (рис. 24). Представляется, что такая «концентрация» образов в самом сакральном месте храма была не случайной – размещение в непосредственной близости от алтаря должно было придать образам значение, которым сами по себе они не обладали. Характерно, что на Востоке алтарный образ был неизвестен – здесь изображения были значимы не в силу связи с реликвиями или особенного положения в храме, а в силу их собственной внутренней связи с прототипом.
Несмотря на то, что в силу особенного местоположения их значение повышалось, алтарные изображения, если это не были образы особого рода, имеющие характер реликвий, не рассматривались как «священные», не обладали самостоятельным значением, их не почитали ради них самих и ожидали от них не чудотворного, но и не сугубо «дидактического», а скорее психологического воздействия, помощи, в качестве чувственной опоры, возвышающей до общения со сверхчувственным. Отстаивая свою посредническую монополию, Церковь с помощью алтарных образов стремилась достичь того, что искали в общении с частным образом, то есть подъема души к Богу. Они должны были воспламенять религиозное чувство, возвышать человека и тем самым способствовать его будущему спасению, доступ к которому хотели удержать в своих руках. Кроме того, алтарный комплекс изображений являлся «репрезентацией» Церкви, в них Церковь «представляла» саму себя. Так жертва Христа являлась одним из объектов алтарного изображения, которое не только напоминало и побуждало прочувствовать важность этого события, но и представляло Церковь, как учреждение, которое управляет «таинством жертвоприношения». С другой стороны алтарный образ мог представлять местное учреждение, отражая культ определенных святых, почитаемых в данной церкви. В целом можно сказать, что, алтарные изображения служили выражению главной идеи католической церкви, как организации, осуществляющей посредническую связь с Богом. Кстати сказать, аналогичное значение имели иконы, росписи и в особенности иконостас в православной церкви: так же как и на Западе, они отражали идею Церкви, которой в данном случае являлось соединение Бога и человека, «обожение» тварного мира.
В XIV в. негласная обязательность наличия алтарных изобразительных комплексов окончательно утверждается, а сами они принимают более упорядоченную форму, хотя и остаются достаточно вариативными при относительно небольшом составе тем, в которых, так или иначе, преобладает Мадонна. Одновременно сами изображения становятся более психологичными. Образы Христа и Богоматери становятся «человечными», они трогают сердца, ведь религиозность того времени виделась как некая «мягкость сердца, легко вызывающая слезы»145. В XV–XVI вв. дело заходит так далеко, что религиозные изображения становятся только поводом для самовыражения художника, для передачи чисто человеческой красоты и чисто человеческих качеств. Страдающие пресонажи новой живописи заставляют задуматься «не о муках Христа, распятого на Кресте, а о человеке, распятом на собственной судьбе»146 (рис. 25). В эту эпоху новые течения создают вскоре встречные контртечения. Когда возникает все больше новшеств, старое испытывает нужду в защите оплотом традиции. Чтобы предотвратить утрату авторитета, прославляют определенные древние типы образов. Старое теперь выступает «как желанный архаизм на фоне распада прежних изобразительных форм»147. Искусство могло развиваться дальше, от образов «нового типа» не отказывались в Церкви, но в центре культового опыта находились старые образы или старые формы, с которыми связывались притязания сакрального. Не случайно культ знаменитых икон достигает апогея именно в эпоху Ренессанса – он служит сохранению религиозной традиции, которой угрожает исчезновение. В это время, как и прежде, Церковь рассматривает изображения как часть программы, утверждающей ее привилегию быть посредником в спасении человеческих душ, что и явилось, несомненно, главной причиной протестантского иконоборчества.
В ответ на события, связанные с Реформацией, в 1563 г. Тридентский Собор католической церкви, занявший в целом оборонительную позицию, подтвердил верность традиции и в отношении культовых изображений. «Нужно иметь и хранить, в частности, в церквях, образы Христа, Девы Марии, Богородицы, и святых, воздавая подобающее им почитание и поклонение. Не потому, что мы верим, будто в них заключена божественность или какая-либо добродетель, оправдывающая их культ, или что-то, что нужно просить у них, или что нужно твердо полагать свою надежду в этих образах, как иногда происходило у язычников, возлагавших свою надежду на идолов, но потому что почитание, воздаваемое им, восходит к первообразам, которые они представляют. Так, через образы, которые мы целуем, перед которыми мы обнажаем голову и преклоняем колена, мы поклоняемся Христу и почитаем святых, подобие которых они несут в себе»148. Соборное постановление ярко демонстрирует церковный взгляд того времени на назначение культовых изображений: если в XIII в. они рассматривались как средства, помогающие подняться к Богу, то теперь они должны были, как и весь культ, служить для поклонения, благодарения, восхваления Бога. Отправление человеком такого культа считалось предпосылкой для достижения спасения149. Подобные представления были господствующими в католицизме в течение всего нового времени. Наглядным примером их воплощения являются алтарные барочные композиции, пышные и грандиозные, не нуждавшиеся ни в прочтении, ни в узнавании. Они должны были лишь создавать иллюзию неземного великолепия и возносить хвалу Творцу150.
В целом можно сказать, что, несмотря на изменяющееся на протяжении веков понимание назначения культовых изображений, на Западе всегда настаивали на их субъективно-ассоциативной значимости, отрицая онтологическую связь образа с первообразом. Хотя изображения и служили тем же целям, что и литургия, они не являлись необходимой составляющей храма, поскольку образ как таковой занимал скромное место среди средств освящения. Но именно поэтому ему была предоставлена возможность выполнять порученную воспитательную роль всеми эффективными способами. От образа, сведенного к простому материальному предмету, не требовалось строгого соответствия богословской истине. От него, в отличие от восточной иконы, не ждали подчинения застывшим схемам. Образ должен был быть убедительным, а, значит, его создатель мог пользоваться всеми возможными средствами – разнообразием, изобретательностью, способностью изумлять. Для этого использовали широкий спектр возможностей – от скульптуры до эффекта цветов, перспективы, света (витражи), способных тронуть, понравиться, наставить. Здесь разнообразие произведений, пестрота форм и тем всегда были несравненно богаче, нежели на христианском Востоке. Как писал в XIII в. Гийом Дуранд, «художникам, как и поэтам, всегда предоставлялось некоторое право дерзания»151. Если на Востоке творческий художественный акт носил безличный характер – творцом иконы в полном смысле этого слова считалась Церковь с ее соборным опытом, то в то же время на Западе, уже в «романский» период, появилось стремление к индивидуализации художественного творчества. Художники не избегали субъективности в трактовке религиозных тем и даже подписывали свои произведения. В своем творчестве они выступали, с одной стороны, с личным переживанием религиозных и нравственных проблем, а с другой стороны, как выразители идеи официальной Церкви, придающей наибольшее значение дидактической, воспитательной и анагогической функции образов.
Западная специфика понимания назначения культовых изображений обусловила возможность использования Церковью даже таких образов, которые были весьма далеки от традиционных форм. Когда Тридентский Собор говорил о том, что «иконы не должны быть ни написаны, ни украшены по образцу мирской вызывающей красоты», это означало лишь, что они не должны быть слишком вызывающими и непристойными, но не предполагало строгого следования традиционным образцам.
Современный католицизм, во многом обновивший свои позиции, в отношении к изображениям следует прежним курсом, что подтверждается признанием возможности использования в Церкви произведений современного искусства. Уже в энциклике папы Пия XII «Медиатор Деи» (1947 г.) был намечен курс на его активное использование католической церковью. «Современные произведения искусства, которые используют новейшую композицию, не следует всюду презирать и отвергать вследствие предубеждения. Современным искусствам надо предоставить свободу в надлежащем и благоговейном служении Церкви и священным ритуалам при условии, что они сохранят правильное равновесие между стилями, не склоняясь ни к крайнему реализму, ни к излишнему “символизму”»152.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































