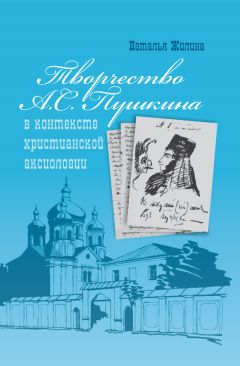
Автор книги: Наталья Жилина
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Утвердившаяся в советское время мысль о центральной в сюжете поэмы антитезе природы и цивилизации, воплощением которых являются черкешенка и Пленник, в аксиологическом контексте обнаруживает свою несостоятельность. В свое время Г. А. Гуковский обратил внимание на то, что «черкешенка – общеромантическая героиня (идеал любви), слабо связанная в своем поведении и психике с характером и бытом ее народа: она ведет себя, скорее, как условно-романтическая дикарка или как руссоистская героиня культа свободы чувства, чем как восточная женщина» [Гуковский: 1965, 324]. В ходе событий становится очевидным, что разные, казалось бы, по своей этнической принадлежности и уровню развития, представляющие различные «цивилизационные модели» центральные персонажи обнаруживают сходство в главном: мировоззренчески они принадлежат к одной аксиологической системе – той, где наивысшей ценностью безусловно признается любовная страсть. Примечательно, что в финале событий они как будто «меняются местами» и ее разочарованность еще ярче оттеняет оживление его души.
Таким образом, конфликт в пушкинской поэме не исчерпывается только внешним уровнем, главной становится его внутренняя составляющая. Новые ценности, избранные героем взамен прежних и определяющие его жизнь, в конечном итоге не выдерживают испытания. Романтический идеал исключительной личности, в поисках абсолютной свободы вознесшейся над миром и противопоставившей себя ему, в художественном мире пушкинской поэмы показывается как несостоятельный и полностью отвергается. Основная суть конфликта, таким образом, состоит в противопоставлении двух аксиологических систем, а центральная концепция пушкинской поэмы может быть воспринята и прочитана не только как антируссоистская, но и в целом как антипросветительская. Отход Пушкина от просветительского мировоззрения подтверждается и биографическими сведениями. Описывая состояние поэта в пору его пребывания в Одессе во время южной ссылки, после разгрома кишиневской группы «Союза благоденствия», ареста В. Ф. Раевского и отстранения Орлова от командования полком, Ю. М. Лотман замечает: «Измена и предательство становятся теперь постоянным предметом размышлений Пушкина. ‹…› Просветительская идея врожденной доброты и разумности человека подвергалась сомнению в целом» [Лотман: 1995а, 86]. Однако глубокое несогласие с просветительскими идеями, как видим, обнаруживается гораздо ранее, уже в пору написания «Кавказского пленника».
Конец событий в поэме связан с образом реки, которую преодолевает герой, возвращающийся из плена. Этот образ появляется в самом начале поэмы, в «Черкесской песне», которая исследователями обычно воспринималась как не очень удачный вставной фрагмент условно-этнографического плана. Характерно, например, высказывание Д. Д. Благого: «Пушкин, почти с самого начала своей литературной деятельности живо интересовавшийся народным творчеством… вводил в качестве атрибута романтического „местного колорита“ национальные песни: „Черкесская песня“ в „Кавказском пленнике“; „Татарская песня“ в „Бахчисарайском фонтане“. Но обе эти песни и очень отдаленно связаны с фабулой данных поэм, и очень далеки от подлинного национального фольклора: носят (в особенности „Черкесская песня“ в „Кавказском пленнике“) условно-литературный, „романсный“ характер» [Благой: 1979, 99]. Однако именно в «Черкесской песне» возникает заключающий в себе особую семантику образ реки-границы, разделяющей своей чужое пространства. Как известно, в мифопоэтических представлениях река является границей, отделяющей мир живых от мира мертвых [Мифы, 2, 374]. Однако в пушкинской поэме два противоположных пространства не имеют определенной и однозначной маркировки: каждый берег таит в себе и ту и другую возможность. То, что вначале представлялось Пленнику несомненной свободой (= жизнью), обернулось пленом (= смертью). Неожиданно для него самого впоследствии оказалось, что эта безусловная, с его точки зрения, «смерть» таит в себе глубинную возможность возрождения к истинной жизни.
Рабство как состояние физической неволи заканчивается для героя с момента возвращения домой:
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел…
[Пушкин, 4, 128]
Но тем более трудной остается проблема духовного плена, найти Путь из которого – не только для пушкинского героя, но и для каждого человека – значит обрести Истину и Жизнь.
§ 2. Христианские мотивы в поэме «Братья разбойники»
Замысел поэмы «Братья разбойники», работа над которой велась в период южной ссылки, в 1821-1822 годах, не был реализован в полной мере, а основной ее текст, по признанию самого поэта сожженный им, не дошел до читателя. Сохранившийся отрывок был напечатан Пушкиным в 1825 году в «Полярной звезде», а в 1827-м издан отдельной книжкой [Пушкин, 4, 555] – это обстоятельство дает основания полагать, что сам автор считал его цельным, вполне законченным произведением. В. Г. Белинский назвал поэму «престранным явлением», увидел в ней «не более, как ученический опыт» и не уделил ей отдельного внимания, лишь выразив удивление: «…как произведение, современное „Цыганам“, эта поэма – неразгаданная вещь» [Белинский, 6, 321-322]. Последующая критика XIX века также осталась к поэме равнодушной, посчитав с легкой руки П. В. Анненкова (принимавшего на веру все замечания Пушкина), что это рассказ, «основанный на истинном происшествии, случившемся в Екатеринославле в 1820 году» [Анненков, 123].
Тема разбойничества, как заметил В. М. Жирмунский, именно Пушкиным введенная «в поэзию высокого стиля и, в частности, в русскую байроническую поэму» [Жирмунский, 284], имеет две ассоциативные параллели: евангельский сюжет о раскаявшемся и нераскаявшемся разбойниках и пьесу Шиллера «Разбойники», к этому времени хорошо известную в России. В художественном образе, открывающем пушкинскую поэму, использован фольклорный по происхождению прием, получивший название психологического параллелизма. Суть его заключается в создании прямой или обратной «параллельной формулы», где «картинка природы протягивает свои аналогии к картинке человеческой жизни» [Веселовский, 122]. Принцип поэтического, или психологического, параллелизма в композиционной организации народных лирических песен был открыт и подробно описан А. Н. Веселовским, который обратил внимание на употребление Пушкиным отрицательного параллелизма в поэме «Полтава» [Веселовский, 143]. Подобный же случай мы видим и здесь:
Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
[Пушкин, 4, 167].
Излишне подчеркивать, что выбор природного образа для сопоставления с человеком является семантически небезразличным: именно он определяет коннотативную направленность всей символической фигуры, и в данном случае это особенно отчетливо видно. Дело в том, что ворон в славянских народных представлениях – нечистая (дьявольская, проклятая) и зловещая птица, связанная с миром мертвых. «Хтоническая природа этих птиц проявляется в их связи с подземным миром – с мертвыми, душами грешников и преисподней» [СД, 1, 434]. «Народные представления отчетливо выявляют дьявольскую природу птиц семейства вороновых. Так, ворона считают черным оттого, что он создан дьяволом. ‹…› Черт может принимать облик черного ворона. ‹…› Души злых людей представляют в виде черных воронов» [СМ, 116]. Так уже в самом начале поэмы, в первых ее стихах возникает аксиологическая установка, определяющая дальнейшее восприятие всего изображаемого.
Поэма имеет двухчастную композицию: исповедь главного героя, занимающая основной объем в общем сюжетно-композиционном пространстве, предваряется вступительной частью, где рассказ ведется от лица повествователя, который дает «собирательный портрет» – не столько разбойников, сколько разбойничества как явления. В описании разбойничьей шайки прежде всего бросается в глаза, что, составленная из людей самых разных народностей и вероисповеданий, она выглядит как модель целой страны (или даже всего человечества):
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Меж ними зрится и беглец
С брегов таинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей,
Калмык, башкирец безобразный,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган!
[Пушкин, 4, 167]
Стремление к свободе без каких-либо внешних ограничений, привлекшее сюда таких разных людей («Здесь цель одна для всех сердец – // Живут без власти, без закона»), оборачивается другой стороной: этической вседозволенностью, полным отрицанием каких-либо моральных принципов. Повествователь отмечает самое главное, что связывает их всех:
Опасность, кровь, разврат, обман –
Суть узы страшного семейства.
[Пушкин, 4, 167].
В традиционных взаимоотношениях между людьми нормальной и естественной психологической основой должны служить любовь, доверие и взаимопонимание; здесь же ситуация обратная, чем и определяется «формула» повествователя – «страшное семейство». Отвергнув юридические законы, участники шайки выпадают и из системы нравственных ценностей, что выражается в нарушении важнейших библейских заповедей: не убий, не укради, не пожелай того, что принадлежит ближнему твоему [Исх. 20: 13, 15, 17]. Десять заповедей ветхозаветного пророка Моисея, составляющие основной этический закон человечества и обычно включаемые в так называемые общечеловеческие нормы поведения, называют также «естественным нравственным законом», считая его присущим самой природе человека, универсальной основой нравственной жизни. Необходимо подчеркнуть, что теме разбоя в Библии уделяется особое внимание: так, в самом начале Притч Соломоновых содержится своеобразное предостережение, обращенное к юноше, вступающему в жизнь: «Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и – целых, как нисходящих в могилу; наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею; жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас, – сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им» [Притч. 1:10-19].
Мотивы, которые могли бы послужить оправданием или хотя бы объяснением действий разбойников, не указываются, и в сознании читателя остается лишь изображение того, на что способны члены «страшного семейства»: объектом их нападений становятся самые слабые, беспомощные и беззащитные:
Тот их, кто с каменной душой
Прошел все степени злодейства;
Кто режет хладною рукой
Вдовицу с бедной сиротой,
Кому смешно детей стенанье,
Кто не прощает, не щадит,
Кого убийство веселит,
Как юношу любви свиданье.
[Пушкин, 4, 167].
В этом обобщенном «психологическом портрете» важнейшую роль играет метафора каменной души, непосредственно связанная с христианской антропологией, где раскрывается ее глубинное значение. Когда человек совершенно отходит от духовной жизни и тем самым отдаляется от Бога, углубляется пленение его души страстями, в сердце – главном «органе» души – иссякает любовь, результатом чего становится ожесточение и окамененное нечувствие, или паралич духа. Вот как это объясняется в книге современного греческого ученого-богослова, рассмотревшего медицинскую проблему с религиозных позиций: «По библейско-святоотеческому преданию известно, что сердце человека, если оно прекращает отвечать воле Божией и начинает исполнять желания диавола, заболевает и мертвеет. ‹…› Болезнью сердца является ожесточение и окаменение» [Иерофей, 172-173].
Важнейший и главный принцип взаимоотношений человека с миром, лежащий в основе разбойничества как явления, напрямую соотносится с тем представлением о личности, которое характерно для романтического мировоззрения. Личность здесь «присваивает себе права судьи и исполнителя правосудия, она сама при этом решает, что справедливо и что несправедливо, и сама формулирует кодекс возмездия. Искусство романтизма не случайно выдвигает образ благородного разбойника, мстителя-одиночки („Жан Сбогар“ Ш. Нодье, „Корсар“ Байрона, „Аммалат-бек“ Бестужева-Марлинского, „Девица Скюдери“ Гофмана)» [Тураев, 239].
Шиллеровский герой, благородный Карл Моор, ставший атаманом разбойников для защиты обездоленных, в ходе событий пьесы постепенно приходит к пониманию того, что его высокая цель не может быть достигнута; главным же препятствием к ее осуществлению, как становится понятно из всего хода событий, являются особенности человеческой натуры, изуродованной низменными страстями. Среди разбойников Шиллера можно выделить различные психологические типы – от высокодуховных до самых низких. Пушкин же не оставляет читателю никаких сомнений в вопросе о нравственной природе своих персонажей – именно с этим было связано замечание Белинского: «Его разбойники очень похожи на Шиллеровых удальцов третьего разряда из шайки Карла Мора» [Белинский, 6, 322]. В пушкинской поэме читатель ясно видит, что не социальный протест лежит в основе поведения «удалых», не стремление восстановить справедливость и покарать общественное зло, а совершенно иные причины, среди которых и аномалия чисто психического свойства – у тех, «кого убийство веселит». Так происходит разрушение традиционного образа благородного разбойника, привычного в произведениях мировой литературы и фольклора.
В той прямолинейности и одноплановости, с которой рисуется собирательный портрет пушкинских персонажей, проявляется со всей определенностью нравственно-этическая позиция повествователя, в сознании которого абсолютно безусловна четкая граница между стороной добра и стороной зла. Вся «деятельность» разбойников однозначно определяется повествователем как злодейство, а сами они – как преступники:
И сны зловещие летают
Над их преступной головой.
[Пушкин, 4, 168].
Такая характеристика разбойников как «особого племени», данная в одном – негативном – изобразительном ключе, проецируясь на вторую часть поэмы, высвечивает прежде всего «низкое» начало и в главных героях поэмы. В черновых набросках к сохранившемуся плану причина ухода братьев в разбойничью шайку выглядит традиционно – это «алчная страсть»:
Нас было два брата – мы вместе росли
И жалкую младость в нужде провели…
Но алчная страсть овладела душой,
И вместе мы вышли на первый разбой
[Пушкин, 4, 511].
Окончательный вариант поэмы представляет читателю аналитически беспощадную исповедь старшего брата, в которой вскрываются глубинные причины, – главной из них становится зависть к людям, награжденным лучшей долей, и желание хотя бы и ценою преступления изменить свою судьбу:
Уже мы знали нужды глас,
Сносили горькое презренье,
И рано волновало нас
Жестокой зависти мученье.
[Пушкин, 4,168].
Мотив зависти в европейской литературе традиционно возводится к известной библейской притче о Каине и Авеле. Старший сын Адама и Евы, первый человек, родившийся на земле, позавидовав своему брату и не в силах вынести его превосходства, полученного от Бога, становится и первым убийцей [Быт. 4: 1-22]. Именно через этот мотив в поэме Пушкина разбойничество как явление психологически соотносится со страшным грехом братоубийства, запечатленным в Библии. Так тема греха и нравственного закона, возникающая уже в самом начале поэмы, находит свое воплощение и во второй ее части.
Важнейшую смысловую нагрузку в этом плане имеет образ леса. Обращая внимание на двузначность этого образа, Ю. Манн пишет: «То „лес“ соотносится с „волею“, „воздухом полей“ и противостоит „душным стенам“ тюрьмы, „цепям“ – то оказывается в одном ряду с „опасным промыслом“, „ночью“, „убийством“, „пляской мертвецов“ и противостоит „мирным пашням“. То лес – убежище от погони, то – источник кошмарных видений. То страстная мечта „алчущего“ воли, то – мучительное видение больной совести. „Лес“ двузначен, как двузначна „разбойничья вольность“» [Манн, 61]. Учитывая уже сказанное ученым, необходимо обратить внимание на еще одну немаловажную деталь: в мифопоэтических представлениях древних, «лес – одно из основных местопребываний сил, враждебных человеку… через лес проходит путь в мир мертвых» [Мифы, 2, 49]. Не случайно в сознании младшего брата лес связан с соблазном, а в его болезненных грезах образ «дремучего леса» противопоставлен «мирным пашням». В тюрьме, во время болезни, думая, что брат покинул его, он высказывает упреки и жалобы:
Не он ли сам от мирных пашен
Меня в дремучий лес сманил
И ночью там, могущ и страшен,
Убийству первый научил?
[Пушкин, 4, 170]
Мотив соблазна, увлечения чистой, неопытной души и склонения ее ко греху имеет свое соответствие в Евангелии, запечатленный в известных словах Христа: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» [Мф. 18: 6-7].
В художественной системе поэмы лес противопоставлен тюрьме как воля – неволе, но если обычно «тема тюрьмы входит в биографию романтического героя… всегда в связи с мотивом побега или жаждой его» [Лотман: 1995а, 65], то в данном случае образ тюрьмы оказывается напрямую связанным еще и с мотивом раскаяния. Один из исследователей, сопоставляя эту пушкинскую поэму с «Шильонскимузником» Жуковского, замечает: «…это тоже была поэма о гибельности несвободы, вновь ключевым образом становилась темница, вновь гибель брата, не перенесшего ужаса неволи, падала тяжелым ударом на душу исповедующегося героя. Жуковский задал связь двух важных мотивов: „тюрьма“ и „исповедь“. Пушкин связь эту в „Братьях разбойниках“ закрепил» [Немзер, 9].
Самое мучительное воспоминание из разбойничьей жизни, возникающее в болезненном бреду младшего брата, – убийство старика. В символико-метафорическом плане этот образ может быть интерпретирован как воплощение отца, утерянного братьями-сиротами в раннем детстве. В таком случае становится понятно, почему это преступление более других отягощает душу юноши, – речь идет о грехе отцеубийства. Больное воображение снова и снова воспроизводит образ старика, «давно зарезанного» братьями. Обращаясь к старшему брату с просьбой его пощадить, юноша объясняет: «Не мучь его… авось мольбами // Смягчит за нас он Божий[1]1
Здесь и далее написание строчной и прописной букв в словах с религиозной семантикой сверено по изданию: Пушкин A.C. Сочинения: [в 7 т.] / под ред. и с объяснит, прим. П. О. Морозова. – СПб.: Тип. A. C. Суворина, 1887.
[Закрыть] гнев!..» [Пушкин, 4, 171]. Так обнаруживает себя мотив совести, напрямую связанный с темой греха.
В научной литературе уже высказывалось мнение, что «проблематика поэмы определена двумя мотивами – стремлением разбойников к свободе в самом общем смысле слова и забвением совести, т. е. нравственной испорченностью». Продолжая свои размышления, исследователь пишет: «Свобода и своеволие в их связях с человечностью – вот драматический узел поэмы» [Коровин, 223]. Принимая эту мысль, невозможно, однако, не учитывать, что и свобода, и своеволие воплощаются в поэме не безотносительно к их этическому содержанию, не в качестве абстрактных величин, а именно и прежде всего как категории христианской философии. Согласно словарю Даля, где это понятие определяется в точном соответствии с христианскими представлениями, «совесть – нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития». В качестве одного из примеров Даль приводит пословицу «Добрая совесть – глаз Божий (глас Божий)» [Даль, 4, 256-257]. «Докучной совести мученья» [Пушкин, 4, 170], овладевшие юношей в тюрьме во время болезни, становятся проявлением высшего нравственного закона, в свое время отвергнутого им. Однако понятие совести обладает реальным содержанием в сознании не только младшего, но и старшего брата: вспоминая, как решили они переменить свою долю, он замечает: «Забыли робость и печали, // А совесть отогнали прочь» [Пушкин, 4, 168].
Рассматривая мировоззренческие особенности античных, ветхозаветных и христианских представлений о нравственности, современный ученый-психолог указывает в своем исследовании на то, что «во всех феноменологических описаниях совесть рассматривается как внутреннее нравственное ядро личности» [Веселова, 146]. Но только «в христианских религиозных концепциях совести онтологический вопрос решен однозначно. В совести человеку непосредственно дан Божественный нравственный закон, это закон всеобщий». И только здесь «дается указание на то, какое влияние грех оказывает на ум и совесть. Он оскверняет их, уродует, извращает совесть, делает ее злой, лукавой» [Веселова, 143]. Определенно и точно указывается на это и в святоотеческой литературе: «Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто Божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе, подобно искре, и свет, и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое, – сие называется совестью, а она есть естественный закон», – писал св. авва Дорофей [Добротолюбие, 196]. Таким образом, христианская философия исходит из того, что человеку непосредственно дан Божественный нравственный закон, который и призвана контролировать совесть. Отсюда ее метафорические названия – «законодатель», «судья», «мздовоздаятель». Осознание преступности своих поступков и есть то действие, которое производит в сердце человека совесть, пробуждающая в душе страх не столько юридического наказания, сколько Божьего гнева. Об этом же пишет и B. C. Непомнящий: «Величайшим открытием христианства как учения о свободе человека было открытие феномена совести. Ранее это свойство, присущее человеку, не было осмыслено: то жгучее чувство, что терзает нас в определенных случаях, древние греки понимали как боязнь позора и тщеславия; Сократ первым сказал, что в человеке есть некий дух, подсказывающий ему, что должно и что не должно. Христианство осмыслило со-весть как безотчетное, но общее всем людям со-знание, со-ведение о существовании Высшей Правды, как проявление знания человека о его богосыновстве, как память о его грехопадении – память, предостерегающую каждого человека от повторения и укоряющую за него. Говоря иначе, совесть была осмыслена как принадлежность человеческой свободы, орудие никем и ничем извне не принуждаемого выбора» [Непомнящий: 2001, 2, 32].
Первоначальное отчуждение главных героев от мира, вызванное как социальными, так и психологическими причинами, не было абсолютным – окончательный разлад в душе старшего брата наступает после смерти младшего, внешне проявляясь в полном равнодушии к прежним радостям: «Пиры, веселые ночлеги // И наши буйные набеги – // Могила брата все взяла» [Пушкин, 4, 173]. Потеря любимого существа, единственного в мире родного человека не только лишает главного героя той жизнерадостности, которая была присуща ему ранее («Влачусь угрюмый, одинокий» [Пушкин, 4, 173]), но и ставит перед ним проблему смысла жизни, поднимая его сознание на иной уровень мировосприятия, осмысления действительности. Именно теперь, уже в признании героя, вновь появляется метафора окаменения: «Окаменел мой дух жестокий, // И в сердце жалость умерла» [Пушкин, 4, 174]. Но нравственный закон продолжает жить в его сердце, воплощенный в представлении о грехе: «…грешную молитву // Над братней ямой совершил…» [Пушкин, 4, 173].
Рассматривая гибель младшего брата как центральное событие поэмы, М. Каган приходит к заключению: «Все дано в поэме так, будто покаяние требуется от нас, – покаяние за отсутствие братства как основы исторической жизни» [Каган, 109]. Этому верному по своей сути выводу предшествует другая мысль, с которой трудно согласиться: «Погибший – уже не разбойник, а жертва. С него снимается обвинение: так снимается обвинение со всей стихии разбойничества, и требуется раскрыть причины того, что ее питает» [Каган, 108]. Излишне доказывать, что к героям Пушкина неприменимо представление о тотальной социальной детерминированности, это свободные и внутренне сильные личности, совершающие свободный выбор и поэтому в полной мере несущие за него ответственность. Причастность младшего брата греху убийства (главным свидетельством чего становится его больная совесть) заставляет рассматривать его не только как жертву, но и как преступника.
Анализируя понятие границы между внутренним и внешним – в мировосприятии человека – пространством, Ю. М. Лотман пишет: «Если внутренний мир воспроизводит космос, то по ту сторону его границы располагается хаос, антимир, внеструктурное иконическое пространство, обитаемое чудовищами, инфернальными силами или людьми, которые с ними связаны. За чертой поселения должны жить в деревне – колдун, мельник и (иногда) кузнец, в средневековом городе – палач. „Нормальное“ пространство имеет не только географические, но и временные границы. За его чертой находится ночное время. ‹…› В антипространстве живет разбойник: его дом – лес (антидом), его солнце – луна („воровское солнышко“, по русской поговорке), он говорит на анти-языке, осуществляет анти-поведение (громко свистит, непристойно ругается), он спит, когда люди работают, и грабит, когда люди спят, и т. д.» [Лотман: 19966, 189]. Границей между пространством и антипространством, миром и антимиром, космосом и хаосом является в сознании человека нравственный закон, по библейским представлениям заложенный в него в момент создания и реализуемый в душе через совесть.
Авторская позиция, отчетливо проявляющаяся в изображении разбойничества, становится доказательством того, что Пушкина интересуют, прежде всего, не социальные причины этого явления (они лежат на поверхности), а нравственно-психологические. Весь художественный строй поэмы, все ее сюжетное развитие подводят к определенному итогу: разбойничество (даже как противодействие человека социальному злу и несправедливости) обрекает его на отступление от нравственного закона и в конечном итоге приводит к духовной гибели.
В черновом варианте поэма имела другой финал, не включенный автором в окончательную редакцию. После окончания своей трудной и печальной исповеди
Умолк и буйной головою
Разбойник в горести поник,
И слез горючею рекою
Свирепый оросился лик.
Смеясь, товарищи сказали:
«Ты плачешь! полно, брось печали,
Зачем о мертвых вспоминать?
Мы живы: станем пировать,
Ну, потчевай сосед соседа!»
И кружка вновь пошла кругом;
На миг утихшая беседа
Вновь оживляется вином;
У всякого своя есть повесть,
Всяк хвалит меткий свой кистень,
Шум, крик. В их сердце дремлет совесть:
Она проснется в черный день.
[Пушкин, 4, 512].
В этом варианте финала (исключенном Пушкиным, видимо, по причине излишней дидактичности) еще отчетливее проявляется идейно-нравственная направленность всего произведения. Общий контекст поэмы дает ясное представление о том, что «черный день» для человека – это время, когда ему суждено будет предстать перед Высшим Судией для ответа за все содеянное. Судьба пушкинских героев является ярким свидетельством того, как, в поисках внешней свободы отвергнув нравственный закон и став пленником своих страстей, человек ввергает себя в рабство греху, а «пространство воли» в реальности оказывается для него прибежищем духовной смерти. Невозможно не увидеть, что в этом поэма Пушкина предвосхищает проблематику романов Достоевского, являясь в то же время ярким свидетельством того, что «своеобразная христианизация сознания Пушкина, которая выражается в понимании совести как небесного голоса в человеке» [Тарасов: 2006, 14], происходит уже в это время.
Символика смерти (воплощенная в образах ворона, леса, каменной души) имеет самое непосредственное отношение к явлению разбойничества, которое предстает в поэме как грех братоубийства. Слово брат имеет в русском языке не только значение прямого, кровного родства («каждый из сыновей одних родителей, друг другу»), но и другой, общечеловеческий смысл – «ближний, все мы друг другу» [Даль, 1, 124]. Рассматривая под этим углом зрения заглавие произведения, можно обнаружить в нем новые, скрытые ранее смысловые грани. Если первый семантический уровень заглавия ограничивается непосредственно сюжетно-фабульным ядром произведения, обращая внимание читателя прежде всего к его главным героям – кровным братьям, ставшим разбойниками, к их жизни, их судьбе, то на следующем семантическом уровне происходит расширение диапазона до масштабов всего человечества. Именно на этом уровне заглавие приобретает оксюморонное звучание (братья – родные люди, разбойники – враги), в котором обнаруживается «колебание» смыслов: изначально будучи друг другу братьями, люди превращаются в «разбойников», становятся врагами.
Своеобразное воплощение в заглавии находит и центральная оппозиция жизнь – смерть. Понятие братства, как тождественное жизни и неразрывно связанное с нравственным законом, противопоставлено в поэме разбойничеству, несущему забвение нравственного закона и равнозначному безусловной духовной гибели. Так создается в поэме образ человечества, зараженного всеобщим смертельным недугом, исцеление от которого возможно лишь при одном условии: отказе от рабства греха и возвращении к высшему нравственному закону – закону любви, заповеданному Спасителем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































