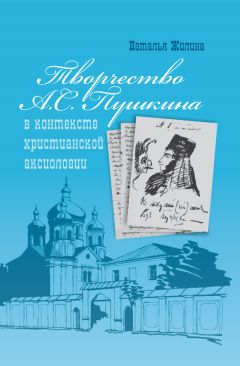
Автор книги: Наталья Жилина
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
[Пушкин, 4, 235-236].
Как своеобразный поэтический итог всему ранее изображенному дается здесь авторское определение цыган – „природы бедные сыны“. В словаре Даля приведено несколько значений слова природа:
1. Естество, все вещественное, вселенная, все мирозданье, все зримое, подлежащее пяти чувствам; но более наш мир, земля со всем созданным на ней; противополагается Создателю.
2. Все земное, плотское, телесное, гнетущее, вещественное; противоположи. Духовность.
3. Все природные или естественные произведенья на земле… в первобытном виде своем. Противоположи, искусство, дело рук человеческих.
4. Врожденные свойства, прирожденные качества, естественное состоянье, стремленье или наклонности [Даль, 3, 439].
Из всех перечисленных в наибольшей степени соответствуют данному контексту второе и третье значения, в которых актуализируется семантика естественности, прирожденности, а также телесности. Необходимо заметить, что у Даля в один ряд с такими качествами, как земное, плотское, телесное, вещественное, ставится и гнетущее. В этом же стихе („Природы бедные сыны“) привлекает к себе внимание контекстуально странный, даже, казалось бы, не совсем уместный эпитет – бедные. Слово это функционировало в русском языке в двух основных значениях: 1) убогий, неимущий, скудный, недостаточный, нуждающийся; о человеке – небогатый; 2) несчастный, бедный счастием, долей, достойный сожаления, возбуждающий сострадание [Даль, 1, 152]. В пушкинском употреблении, видимо, оба значения совмещаются, приводя к своеобразному „семантическому колебанию“. В то же время метафорический план, отчетливо проявляющийся в приведенном выше стихе, способствует новому смысловому наполнению – так сугубо земное, плотское, „вещественное“ начало, определяющее самую сущность цыган, их жизнь, их душевную организацию, получает в авторском сознании вполне определенную оценку. Духовная скудость, никак не совместимая с тем богатством, которое было изначально заложено в человеке Создателем, восполняется в „сынах природы“ своеволием, ограниченным лишь властью судьбы, покорно и смиренно принимаемой ими. Но в таком смирении не может быть счастья, потому что нет истинной свободы.
Обращаясь к попытке соединения „сына цивилизации“ с „детьми природы“, можно отчетливо увидеть главную причину неудачи: в стремлении к свободе один принцип своеволия здесь сталкивается с другим. Несмотря на огромные мировоззренческие различия „конфликтующих сторон“, их объединяет и безусловное сходство: в каждой из них по-своему обнаруживает себя определенная форма безрелигиозного сознания. Богатый личностный потенциал интеллектуального героя разрушается под влиянием страстей, из-под власти которых он не может выйти. С другой стороны, и предельная психологическая элементарность, первобытная примитивность душевной организации, какую мы видим у цыган, не может принести избавления: личность „естественного“ человека оказывается также подверженной страстям, овладевающим ею. И с одной, и с другой стороны – „повсюду страсти роковые“…
Оспаривая мнение П. А. Вяземского, который заметил, что последний стих поэмы как будто „взят из какого-нибудь хора древней трагедии“ и „что-то слишком греческий“ [Вяземский, 78], В. Г. Белинский писал: „Греческого в этом эпилоге нет ничего, а осуждения он заслуживает. В нем рефлексия поэта взяла на минуту верх над непосредственностью творчества, и вследствие этого он пришелся совершенно некстати к содержанию поэмы, в явном противоречии с ее смыслом“ [Белинский, 6, 334]. Таким образом, для критика остался скрытым глубинный смысл финальных пушкинских стихов. Необходимо заметить, что в самом слове роковой различаются два значения: „1. Предопределенный… роком, неотвратимый, неизбежный. 2. Решающий, предопределяющий судьбу кого-либо, чего-либо“ [СРЯ, 3, 728]. Таким образом, словосочетание страсти роковые (то есть „предопределенные судьбой“ и одновременно „предопределяющие судьбу“) показывает прямую зависимость страстей и судеб, предельно обнажая причинно-следственную связь между ними. Важно заметить, что финальные пушкинские стихи абсолютно точно и в полной мере выражают христианско-догматические представления о неразрывной взаимосвязи состояния души человека и его будущей участи. Хотя наличие страстей (вследствие первородного греха) в любой человеческой душе признается в христианской антропологии непреложным законом, их действие не является фатально предопределенным, поскольку личность, обладая свободой воли и следуя нравственному закону, в состоянии противодействовать им. В случае же отдаления от Бога и склонения ко греху именно страсти становятся главным фактором, предопределяющим дальнейшую судьбу человека. События поэмы ясно показывают, что для любой души неминуема гибель под напором страстей, если, утверждая свою волю, человек отвергает нравственный закон, а с ним и само понятие греха, тем самым отдавая себя полностью во власть судьбы. Духовное начало, полученное человеком от Творца при его создании, напрямую связано с той уникальной возможностью свободы, которая принципиально отличает его от всей остальной природной твари. Будучи высшим и неотъемлемым даром человеку от Бога, истинная свобода не может быть осуществима в форме утверждения своей воли.
Эпилог поэмы вновь ставит перед читателем проблему устроения человеческой жизни. Возвращаясь к таким важнейшим понятиям, как воля, слава, страсти, судьба, счастье, вокруг которых и шел спор, автор выдвигает на первый план центральную для человека Нового времени проблему обретения истинной свободы, всем художественным строем своей поэмы убедительно показывая, что без свободы для личности нет и не может быть счастья, а „свобода там, где Дух Господень“ [ср.: 2 Кор. 3: 17].
§ 5. Структура художественного конфликта в поэме «Полтава»
Поэма «Полтава» (1829) вызывала интерес как в современной Пушкину критике, так и у исследователей более позднего времени прежде всего своим национально-историческим содержанием. После высказанной В. Г. Белинским мысли о том, что «в „Полтаве“ видны какая-то нерешительность, какое-то колебание, вследствие которых из этой поэмы вышло что-то огромное, великое, но в то же время и нестройное, странное, неполное» [Белинский, 6, 337], надолго утвердилось мнение о поэме как произведении нецельном, двойственном, с неорганичным соединением двух главных сюжетных линий, что повлекло за собой неоправданное совмещение различных жанровых признаков: героической эпопеи и романтической поэмы. «„Полтава“ осуществляет, – писал В. Μ. Жирмунский, – новый для Пушкина замысел героической поэмы… однако не в традиционных рамках героической эпопеи классического века, а в утвердившейся под влиянием Байрона композиционной форме лирической поэмы эпохи романтизма. Отсюда – двойственность в сюжете „Полтавы“» [Жирмунский, 200]. По мнению Г. А. Гуковского, «полного равновесия между сюжетом, в центре которого стоит Мария и ее любовь, и сюжетом Петра, в центре которого стоит картина Полтавского боя, Пушкин не достиг» [Гуковский: 1957, 85]. Оспаривая это замечание, Д. Д. Благой утверждает: «„Полтавой“ Пушкин создавал… дотоле отсутствовавший в литературе синтетический вид исторической поэмы. Причем сама на первый взгляд действительно странная и совершенно необычная композиция „Полтавы“… перерастание узколичной любовной драмы Мазепы и Марии в героическую патетику Полтавской битвы – явно не случайна, а наоборот, соответствует глубокому идейному смыслу произведения» [Благой: 1979, 172]. Эту мысль дополняет и развивает Ю. М. Лотман, видя новаторство в характере пушкинского историзма: «Конфликт романтического эгоизма, воплощенного в поэме в образе Мазепы… и законов истории, „России молодой“, персонифицированной в лице Петра, безоговорочно решен в пользу последнего» [Лотман: 1995ж, 199]. В то время как главным действующим лицом в поэме является Мазепа, центральным героем, выполняющим, по мнению исследователей, самую важную роль в замысле автора, единодушно признается Петр I, с чем невозможно не согласиться, если при рассмотрении конфликта ограничиваться лишь одним его уровнем. Однако в таком случае остается действительно необъяснимым огромный объем центральной сюжетной линии (Мазепа – Кочубей – Мария) и то внимание, которое уделяется в поэме образам Мазепы и Кочубея. Сопоставляя «Полтаву» с поэмами Байрона, В. М. Жирмунский отмечал: «Романический сюжет „Полтавы“ развивается по обычному типу сюжетных построений „восточных поэм“: герой любит героиню и встречает препятствие в третьем лице, отце или муже героини: Мазепа – герой, Мария – возлюбленная, Кочубей – его антагонист, отец героини» [Жирмунский, 200]. Таким образом, первый уровень конфликта воплощен в сюжетной линии романтического плана и реализуется в противоборстве Кочубея и Мазепы.
Выдвигая в качестве препятствия для любовников фигуру отца, Пушкин оставляет в стороне другую, казалось бы, гораздо более выигрышную сюжетную линию (Мазепа – Мария – влюбленный в Марию молодой казак), намеченную, но не разработанную в поэме. Появившись в начале поэмы, Кочубей не отходит затем на второй план, а продолжает оставаться в центре событий наряду с другими главными действующими лицами – это позволяет предположить, что он важен Пушкину как самостоятельная в сюжетном и психологическом плане величина, а не только как вспомогательный персонаж. Уже начало поэмы представляет собой описание того, как «богат и славен Кочубей», чтобы затем антитетически обозначить то, что для него в мире имеет самую большую ценность, является сокровищем всей его жизни:
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами.
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
[Пушкин, 4, 255].
Побег Марии, забывшей под влиянием Мазепы «и небо и закон» [Пушкин, 4, 264], из родного дома, беззаконное соединение ее с Мазепой превращает двух друзей и единомышленников во врагов; наметившееся же сюжетное их противостояние неожиданно обнаруживает сходство в характерах и самом поведении персонажей. Мстительность и коварство оказываются присущими Кочубею, кажется, не меньше, чем Мазепе: стремясь отплатить врагу, он выбирает не прямую схватку с обидчиком, а предательство и донос. Тем не менее поступки Кочубея не подвергаются осуждению, а авторские симпатии оказываются целиком на его стороне. Кочубей по натуре не изменник и не предатель, логика его действий по-человечески понятна: им движут не ревность или родительский эгоизм, не стремление уничтожить удачливого счастливца, не собственнический инстинкт, а естественное желание воздать врагу за свой позор. Поэтому не только самим героем, но и автором и читателями его поступки воспринимаются как «святая месть». Немаловажно также, что его внутренний мир, открывающийся читателю, не остается на протяжении событий застывшим и неизменным, а в его мировосприятии происходят огромные изменения. В душевной эволюции Кочубея можно отметить несколько этапов.
1. Лишившись в жизни всего, что составляло важнейшую ее ценность, потеряв самое главное свое сокровище, опозоренный, Кочубей решается на все, чтобы врага настигло справедливое возмездие.
2. Притворяясь смирившимся с происшедшим, он отказывается от прямого и открытого удара, избирая более изощренный способ – донос царю на врага.
3. Стремясь самочинно покарать Мазепу руками московских палачей, Кочубей сам оказывается в темнице. Ночь перед казнью становится переломной для героя. Внутренний монолог, переданный в формах несобственно-прямой речи, обнаруживает его тревогу, возмущение, его смятение и негодование:
Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? Желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. Но, Боже правый!
К ногам злодея, молча, пасть
Как бессловесное созданье,
Царем быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье.
Утратить жизнь – и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть,
Над гробом слышать их проклятья,
Ложась безвинным под топор,
Врага веселый встретить взор
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому
Вражды к злодею своему!..
[Пушкин, 4, 278]
Не умея подавить в себе отчаяние и гнев, он в ожидании священника мысленно обращается к Богу:
Несчастный думает: вот он!
Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь!
[Пушкин, 4, 278-279]
Итогом внутренней душевной работы становится покорность перед неизбежным и то смирение, с которым Кочубей восходит на плаху «с миром, с небом примиренный, // Могущей верой укрепленный» [Пушкин, 4, 287]. Не только в собственном представлении, но и в изображении автора он предстает несчастным, безвинно принимающим страдания и жертвенную гибель, что подчеркивается употреблением эпитета безвинный сначала в размышлениях самого героя, а затем и в авторской речи. Мотив жертвенности, возникающий в связи с Кочубеем, закрепляется в последующем описании его сподвижника и друга Искры:
С ним Искра тихий, равнодушный,
Как агнец, жребию послушный.
[Пушкин, 4, 287].
Душевная эволюция Кочубея, происходящая на глазах у читателя, обозначена следующим образом: от гордости – через унижение позора, через желание мести, через гнев и возмущение – к смирению и покорности воле Высшего Судии.
Образ Мазепы, на первый взгляд, создается в рамках традиционных представлений о романтическом герое. Он мрачен, озлоблен, угрюм, одинок, им владеют страсти, единственные ценности для него, по-видимому, – свобода и любовь, проявление которой выглядит как вызов Небу. Однако в привычный портрет героя, воплощающего в себе романтический эгоизм, неожиданно добавляются краски совершенно иного, противоположного свойства. Пушкин настойчиво подчеркивает, что переход гетмана в решающий момент войны на сторону шведского короля, измена России вызваны не стремлением его к национальной и личной свободе (составляющей, как известно, высшую ценность для романтического сознания), а мелким чувством мести царю Петру за полученное когда-то оскорбление. Мазепой движет не столько благородное чувство собственного достоинства, сколько мелкое самолюбие, желание отомстить за перенесенное унижение, что хорошо видно из его монолога, обращенного к своему сподвижнику:
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Под Азовом
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые…
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.
Тогда, смирясь в бессильном гневе,
Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее – как мать во чреве
Младенца носит. Срок настал.
[Пушкин, 4, 294]
Исследователи сходятся в том, что Мазепа в пушкинской поэме предстает не бунтарем, борющимся за свободу своей отчизны, а банальным изменником и предателем. В его противостоянии Петру угадываются амбиции человека, ощущающего свою малость и даже ничтожность перед величием другого. Отвергая упреки в искажении исторической действительности, Пушкин в «Опровержении на критики» писал: «Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь как и в истории, а речи его объясняют его исторический характер. Заметили мне, что Мазепа слишком у меня злопамятен, что малороссийский гетман не студент и за пощечину или за дерганье усов мстить не захочет. ‹…› Мазепа, воспитанный в Европе в то время, как понятия о дворянской чести были на высшей степени силы, – Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при случае. В этой черте весь его характер, скрытый, жестокий, постоянный» [Пушкин, 7, 191]. В полном противоречии с романтическими установками оказывается и то, что пушкинский Мазепа корыстолюбив, рассудочен и расчетлив. Входя в сговор с врагами Петра, гетман действует не бескорыстно, что находит свое отражение в недвусмысленной авторской оценке:
Во тьме ночной они как воры
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов,
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
[Пушкин, 4, 267]
Так за внешним демонизмом и романтической мятежностью Мазепы проступают мелкие притязания человека, охваченного жаждой самоутверждения. Сама мотивировка отчуждения героя от мира, занимающая в романтических поэмах важнейшее место, у Пушкина опущена, снята, отнесена «за рамки» текста. Отпадение Мазепы от Бога свершилось еще до начала описываемых событий, и то, что причины его автором не указываются, наталкивает на мысль, что отчуждение Мазепы от мира объясняется не разочарованием его в Божьем творении, не поисками идеала, а натурой самого героя. Как будто для того, чтобы исключить какие-либо сомнения, уже в начале поэмы дается авторская характеристика, содержащая своеобразную «формулу» личности гетмана:
Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор как жив не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.
[Пушкин, 4, 262]
В «Предисловии к первому изданию „Полтавы“», объясняя свой подход к изображению украинского гетмана, Пушкин писал: «Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи. Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения: память его, преданная церковию анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества.
Некто в романтической повести изобразил Мазепу старым трусом, бледнеющим пред вооруженною женщиною, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мелодраме, и пр. Лучше было бы развить и объяснить настоящий характер гетмана, не искажая своевольно исторического лица» [Пушкин, 4, 519].
Если в аспекте историческом пушкинский Мазепа противопоставлен Петру, что позволяет выделить в поэме второй уровень конфликта, то с Кочубеем он сопоставлен как частный человек. Противостояние этих героев выявляется не только фабульно, но и идеологически, что акцентируется и организацией системы образов, где каждому из центральных персонажей сопутствует второстепенный, образуя контрастные пары: рядом с Кочубеем находится Искра, Мазепе помогает Орлик. Противоположность ценностных установок Кочубея и Мазепы ярко просматривается в следующем эпизоде. В ночь перед казнью к измученному истязаниями Кочубею, ожидающему священника, приходит «наперсник» Мазепы «свирепый Орлик». Угрожая пленнику новой пыткой, он требует признания о спрятанных кладах, поясняя:
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имение сполна
В казну поступит войсковую –
Таков закон.
[Пушкин, 4, 280].
Преступив нравственный закон, Орлик вслед за Мазепой требует соблюдения закона юридического, не осознавая всей кощунственности своего заявления. В ответе Кочубея звучит горькая ирония:
И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла;
Другой был клад невозвратимый
Честь дочери моей любимой.
Но сохранил я клад последний,
Мой третий клад: святую месть.
Ее готовлюсь Богу снесть.
[Пушкин, 4, 280].
Диалог Орлика и Кочубея передается в различных стилистических ключах: высокий стиль пленника еще резче оттеняется грубой и нарочито сниженной речью подручного Мазепы («Старик, оставь пустые бредни» [Пушкин, 4, 280] и т. п.). Вопросы Орлика отражают низменное материальное начало, доминирующее в его натуре, а в «злом холопе», как в зеркале, отражается личность самого Мазепы. Раздумывая о шведском короле Карле и своем переходе к нему, гетман признается:
Расчет и дерзкий и плохой,
И в нем не будет благодати
[Пушкин, 4, 293].
Если для Орлика (неразрывно связанного в сознании читателя с самим гетманом) понятие закон ограничивается лишь чисто юридическими рамками, то Мазепа столь же узко и однопланово воспринимает слово благодать, из нескольких его значений выбирая то, в котором воплощается сниженно-бытовой, сугубо житейский смысл:
1) дары Духа Святого;
2) наитие свыше;
3) помощь, ниспосланная свыше, к исполнению воли Божьей;
4) любовь, милость; благодеяние, благотворение;
5) преимущество, польза, выгода; обилие, избыток, довольство (курсив мой. – Н. Ж.) [Даль, 1, 92].
Само сочетание слов закон – благодать в русском сознании проецируется на известное произведение митрополита Илариона «Слово о Законе и Благодати» (XI век): употребленное в чисто религиозном смысле, оно обозначает здесь соотношение Ветхого Завета и Нового. Так авторская оценка скрыто проявляется на интертекстуальном уровне, формируя в читательском сознании характеристику персонажей, для которых эти понятия существуют лишь в определенном, сугубо низменном плане.
Душевный путь Мазепы отмечен теми же, что и у Кочубея, этапами, но имеет противоположный финал: от гордости – через унижение позора, через «бессильный гнев» и чувство «стесненной злобы», через стремление отомстить – к утверждению верховенства своих желаний, главенства своей воли, то есть к самой непомерной гордыне, неизмеримо большей, чем в начале. Так за первоначальным внешним сходством характеров персонажей просматривается принципиальная полярность их этических позиций. Противоборство Кочубея и Мазепы только по своим внешним признакам ограничивается рамками «романического сюжета», внутренняя же, глубинная суть их конфликта представляется иной: это столкновение личности, привычно существующей в рамках традиционной морали, с человеком, давно и безоговорочно отбросившим для себя и предавшим забвению какие-либо нравственные установки. Поэтому и внутренний мир каждого из них по-разному предстает перед читателем: натура Мазепы изображается застывшей и все более «отвердевающей», в то время как душа Кочубея способна к изменению, к духовной эволюции.
Параллелизм психологического изображения этих героев особенно ярко выявляется в своеобразной ситуации «испытания», в которой они оказываются в один и тот же переломный для обоих момент – в ночь перед казнью Кочубея, ставшую некой «кульминационной точкой» в душевном развитии каждого. На сюжетном уровне это обнаруживается благодаря двойному включению знаменитого описания украинской ночи. Когда накануне казни Кочубей мучительно раздумывает о своей судьбе, Мазепу, сидящего у ложа спящей Марии, также охватывают тяжелые мысли:
В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.
«Умрет безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Чем ближе
Цель гетмана, тем тверже он
Быть должен властью облечен,
Тем перед ним склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нет:
Доносчик и его клеврет
Умрут»
[Пушкин, 4, 282].
Решая судьбу Кочубея, Мазепа обращается к доводам рассудка, как бы стараясь убедить себя в предопределенности и суровой необходимости казни бывшего друга, в объективной неизбежности его гибели. Сами «думы» гетмана облечены в форму отчужденного и внеличностного логико-рационалистического рассуждения. Безличные предложения («Спасти нельзя его», «Спасенья нет»), форма 3-го лица, как и обозначение социального статуса в мыслях о самом себе («гетман»), создают впечатление полной эмоциональной и душевной отъединенности от происходящего. Стремясь подчинить свое решение железной логике рассудка, он рассматривает ситуацию, отрешившись от личностного участия, как холодный, объективный и безразличный судья. В сознании Мазепы грандиозной целью его жизни – обретением высшей власти в независимой от России Украине – могут и должны быть оправданы те отступления от морально-нравственных норм, которые неизбежны в его положении. Мазепе нетрудно убедить себя в этом, потому что в его душе уже давно начала стираться грань между добром и злом. Герой пушкинской поэмы предстает здесь как прямой предшественник типа гордого человека, занимающего столь важное место в романах Достоевского.
Важнейшей преградой для полного утверждения в душе Мазепы верховенства рационального начала становится его чувство к Марии, острой жалостью к которой вызваны его упреки самому себе. Но более всего мучает Мазепу не вина перед доверившейся ему девушкой – он недоволен своим безрассудством: чувство к Марии – единственное, чего не может преодолеть в себе гордый гетман, – становится помехой на его пути к власти:
Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
[Пушкин, 4, 282]
Борьба рассудка и страсти в душе героя обозначена оппозицией ум – безумство, возникающей в его размышлениях:
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань…
[Пушкин, 4, 282]
Именно любовь к Марии наиболее ярко обнаруживает в Мазепе черты человека, не признающего никаких нравственных норм, способного переступить через любые моральные преграды. Ситуация обольщения дочери друга осложняется тем, что гетман является ее крестным отцом. Тяжесть греха, таким образом, многократно увеличивается, а сам поступок знаменует нарушение не только общественных, юридических, но и Божьих законов, являясь своеобразной иллюстрацией к приведенным ранее словам Христа: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» [Мф. 18: 6-7].
Вина Мазепы усугубляется тем, что в его действиях просматривается не желание бросить вызов погрязшим в суете равнодушным людям, не бунт против «безразличного» Творца, не месть Богу за несовершенство мира, как это бывало с традиционными романтическими персонажами, мучительно переживавшими свое отпадение от Всевышнего, а лишь безграничное своеволие героя. Но даже его, по выражению автора, «змеиная совесть» [Пушкин, 4, 281] оказывается неспокойной: предчувствие Высшего Суда не покидает его этой ночью:
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Но мрачны странные мечты
В душе Мазепы: звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна, как черная тюрьма
[Пушкин, 4, 283].
Так одна и та же ночь становится временем душевного возвышения, соединения с Богом – для Кочубея, и окончательного нравственного падения, удаления от Творца – для Мазепы. После казни Кочубея возмездие настигает Мазепу неожиданно для него самого: нравственный закон, отвергнутый им, тем не менее продолжает действовать в его душе, вызывая в ней тяжкие и мучительные страдания:
Один пред конною толпой
Мазепа, грозен, удалялся
От места казни. Он терзался
Какой-то страшной пустотой
[Пушкин, 4, 288].
Как Божья кара обрушивается на него и весть об исчезновении Марии, которую он любит «больше славы, больше власти» [Пушкин, 4,273]:
В груди кипучий яд нося,
В светлице гетман заперся.
Близ ложа там во мраке ночи
Сидел он, не смыкая очи,
Нездешней мукою томим
[Пушкин, 4, 289].
Создавая психологические портреты своих персонажей, Пушкин использует различные способы: здесь не только прямая исповедь героя или его внутренний монолог, но и прием «точки зрения» [Успенский, 9-218], позволяющий, как известно, проникнуть во внутренний мир героя, минуя авторскую инстанцию. Однако характер гетмана дан нарочито однопланово, что выглядит несколько странным и труднообъяснимым, учитывая психологическое мастерство Пушкина той поры. В изображении Мазепы настойчиво нагнетаются черные краски: бесстыдный, старец мрачный, нечестивый, гордый злодей, губитель, злой старик, дерзкий хищник, коршун; душа его определяется как коварная, мятежная, ненасытная, свирепая, развратная. Таким он предстает не только в восприятии Кочубея и его жены, но и в авторском сознании. И только влюбленной в него девушке он представляется иным. Но Мария находится в состоянии прельщения, соблазна, что недвусмысленно подчеркивается в прямом авторском слове, обращенном к героине:
Своими чудными очами
Тебя старик заворожил,
Своими тихими речами
В тебе он совесть усыпил;
Ты на него с благоговеньем
Возводишь ослепленный взор,
Его лелеешь с умиленьем –
Тебе приятен твой позор,
Ты им, в безумном упоенье,
Как целомудрием горда –
Ты прелесть нежную стыда
В своем утратила паденье…
[Пушкин, 4, 270]
И лишь в своем безумии героиня обретает иное зрение, открывающее ей истинную суть натуры ее возлюбленного:
«Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь!..»
[Пушкин, 4, 302-303]
Удаленный из окончательного варианта фрагмент этой речи героини содержал также ее радостное признание, свидетельствующее о том, насколько тяготил ее душу страшный грех:
«Сегодня праздник. Разрешили.
Жених – не крестный мой отец;
Отец и мать меня простили;
Идет невеста под венец…»
[Пушкин, 4, 520]
Когда-то, поставленная перед выбором между отцом и возлюбленным, на вопрос Мазепы: «Кого б ты в жертву принесла?» – Мария назвала его искусителем [Пушкин, 4, 276-277], как бы угадав внутренним чутьем темное потустороннее начало его личности. Авторские определения «змий» и «Иуда» продолжают этот ряд, ставя окончательную точку в характеристике его натуры. Оценочная одноплановость в изображении Мазепы может быть объяснима именно его этической позицией: как человек, отвергнувший само понятие греха, возведший свою свободу до высшей степени вседозволенности, Мазепа противопоставлен всему народному миру, от имени которого выступает в поэме автор. Его характеристики даны как мнения различных субъектов, но с одной и той же позиции – христианской нравственности. Гетман отвергнут общенародным целым не только как государственный преступник, он предан забвению и проклят прежде всего как слуга Антихриста:
Гремит анафема в соборах;
Мазепы лик терзает кат.
[Пушкин, 4, 291]
Так обозначается третий уровень конфликта, сформированный этической позицией Мазепы.
Портрет Петра в этом произведении, как уже указывалось исследователями, создан в одической традиции и обладает героическими чертами. Тем не менее образ Петра заключает в себе и некоторую двойственность. При первом появлении в поэме он не выглядит как высокий герой, наделенный особыми признаками душевного величия и превосходства над другими персонажами. Скорее наоборот: как участник государственной политики Петр не чужд интриг и предпринимает различные уловки, преследуя собственные цели. Его действия после измены Мазепы, доверяя которому Петр обрек на гибель Кочубея, изображаются в сниженнной стилевой тональности, близкой к бытописанию:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































