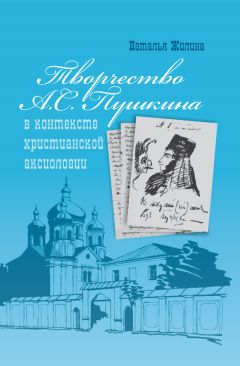
Автор книги: Наталья Жилина
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
§ 3. Проблема идеала в поэме «Бахчисарайский фонтан»
Идейная структура этой пушкинской поэмы привлекала к себе пристальное внимание еще со времен В. Г. Белинского – великий критик считал, что творческой задачей Пушкина здесь было изображение внутреннего мира главного героя и что центральная «мысль поэмы – перерождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство любви» [Белинский, 6, 318]. В свою очередь, В. М. Жирмунским сюжетная основа поэмы была определена как «роман любви и ревности между Гиреем, Марией и Заремой» [Жирмунский, 43]. Развивая дальше эту формулировку, Ю. Манн высказал мысль о том, что в поэме «до конца и во всех переливах был разыгран конфликт роковой романтической страсти» [Манн, 75], а любовный треугольник выполнял при этом важную функцию в объективизации романтического конфликта: процессом отчуждения от мира, по мнению этого ученого, захвачен здесь не один лишь центральный герой, но и женские персонажи. Именно этим обстоятельством объяснялась та малозначительная роль Гирея, которая вызывала удивление еще у современников Пушкина.
Другая точка зрения принадлежит А. Слонимскому, который писал: «Смысл „Бахчисарайского фонтана“ совсем не в Гирее, а в синтезе двух женских образов, двух типов любви, между которыми колебался Пушкин: это противоречие между идеалом Мадонны, которая „выше мира и страстей“, и вакхическим идеалом чисто „земной“, не знающей компромиссов языческой страсти» [Слонимский, 234]. В последней интерпретации обращает на себя внимание важнейший момент: центральные героини, противостояние которых образует событийный уровень поэмы, рассматриваются прежде всего как носительницы полярно противоположных мировоззрений, в равной мере близких автору. Поддержанный в дальнейшем и другими авторитетными учеными[2]2
«…Центральная мысль поэмы заключена все-таки в противопоставлении двух женских образов, одинаково привлекавших Пушкина», – считает В. И. Коровин [Коровин, 225].
[Закрыть], этот тезис, однако, не был конкретизирован и по-настоящему обоснован детальным анализом.
В отличие от других «южных поэм», где на первом плане был образ разочарованного и одинокого героя-индивидуалиста, в центре «Бахчисарайского фонтана» оказываются женские персонажи, две главные героини, контрастность которых проявляется как во внешности и натурах, так и в сходстве и различии их судеб. Композиционный план поэмы таков, что «знакомство» с героинями происходит еще до их непосредственного появления: экспозиция Марии дается самим автором, рассказывающим ее предысторию, о Зареме же читатель узнает из «татарской песни», исполняемой невольницами:
1
Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.
2
Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.
3
Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя.
[Пушкин, 4, 181]
Как считал В. М. Жирмунский, народные песни в поэмах Пушкина были призваны не только выполнить роль «определенного эмоционального ключа к эпическому произведению», но и служить «этнографической иллюстрацией, характерным элементом экзотической обстановки» [Жирмунский, 91-92]. Его мнение разделял и Г. А. Гуковский [Гуковский: 1965, 286-287]. Однако, вглядевшись пристальнее, можно обнаружить в этом вставном фрагменте признаки более глубокого проникновения поэта в систему чужой культуры.
Состоящая из трех строф, песня имеет очень четкую композицию. Центральным в ней является мотив блаженства, выполняющий основную, сюжетообразующую роль. (Следует отметить, что в словаре Даля блаженство определяется как «счастие, благополучие, благоденствие, высшая степень духовного наслаждения» [Даль, 1, 95].) Намечая параллель с христианством (см. заповеди блаженства, данные в Нагорной проповеди [Мф. 5: 8]), этот мотив одновременно выделяет и подчеркивает принципиальное различие в центральной для обеих религиозных систем идее загробной жизни души. Как локусы наивысшего блаженства выделяются в первых двух строфах песни пространство земное (Мекка) и небесное (рай), с каждым из которых связан свой, центральный для этой строфы «персонаж»: факир («мусульманский святоша, давший обет нищенства» [Даль, 4, 531]) – в первой, и воин, отдающий свою жизнь за святыни ислама, – во второй. В третьей, заключительной строфе подводится своеобразный итог: аскетизму и воинским подвигам противопоставляется счастливец, наслаждающийся любовью Заремы. Любовная страсть признается, таким образом, высшей степенью блаженства, истинным воплощением рая на земле.
Образ рая в песне заслуживает особого внимания. Рай как в христианских, так и в мусульманских представлениях – место вечного блаженства, обещанное праведникам в будущей жизни. Однако «Новый Завет (в отличие от Корана) не дает чувственных и наглядных образов рая» [Мифы, 2, 364]. В христианстве рай (Царство Божие) «есть не столько место, сколько состояние души» [Иларион, 274], достижение которого возможно лишь при постоянном исполнении нравственного закона. К этой небесной обители праведников существует для человека лишь один путь – непрерывного совершенствования себя, а следовательно, блаженство может быть достигнуто лишь в результате нескончаемого духовного труда. «Царство Божие, Царство небесное изображается Евангелием… как Царство внутреннее, духовно-нравственное, для вступления в которое требуются и условия чисто нравственные – покаяние и вера» [Христианство, 3, 182]. В противоположность этому представлению, целью всей земной жизни мусульманина является возможность заслужить блаженство в раю, понимаемое как состояние непрерывного физического, телесного наслаждения, дарованное Всевышним за земные заслуги человека. Так, картина рая в исламе включает в себя как один из центральных «мотив плотских утех праведников с прекрасными девами-гуриями, к утру восстанавливающими девственность» [Мифы, 2, 186]. Глубинная соотнесенность двух образов рая опосредованно вводит читателя в сложное взаимодействие противоположных мировоззренческих систем, обозначающееся еще до появления второй героини. Так намечается аксиологическое пространство поэмы, своеобразным «ключом» к которому становится «татарская песня».
Воплощением земного рая является для грузинки Заремы наполненное «беспрерывным упоеньем» взаимной любви пространство гарема. В художественном мире поэмы топос гарема не только не отграничен от окружающего, но слит с ним. Ханский гарем – Бахчисарай – Таврида образуют однородное в аксиологическом плане пространство, где любовная страсть, «нега» признается наивысшей ценностью, – именно так характеризует его автор:
Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!
Какая нега в их домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Все полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных!
[Пушкин, 4, 186]
Попав когда-то в этот мир пленницей, Зарема совершенно свободно, без какого-либо принуждения приняла его правила и обычаи, принципы и законы, его систему ценностей. Сделав его своим, грузинка завоевала этот мир и стала в нем повелительницей и владычицей. Именно поэтому образ «безмятежной тишины», возникающий в ее воспоминаниях, характеризует не только пространство гарема, но и ее собственное восприятие того счастливого будущего, которого она, по ее собственному признанию, когда-то ожидала «послушным сердцем»:
Я в безмятежной тишине
В тени гарема расцветала
И первых опытов любви
Послушным сердцем ожидала.
[Пушкин, 4, 188]
Свойственная Зареме безграничная внутренняя свобода резко отличает ее от других обитательниц гарема, о которых автором сказано:
…жены робкие Гирея
Ни думать, ни желать не смея,
Цветут в унылой тишине.
[Пушкин, 4, 178]
Крещенная в младенчестве, но забывшая, как сама признается, «для Алкорана между невольницами хана» «веру прежних дней» [Пушкин, 4, 190], Зарема остается, в сущности, вне обеих религий, отвергая своими поступками основополагающий как в христианстве, так и в исламе принцип безраздельной покорности воле Творца: ведь ислам в буквальном переводе с арабского – предание себя (Богу), покорность [ФЭС, 228]. По существу, истинной «религией» для нее становится любовная страсть. Такое мировосприятие наделено несомненными чертами язычества, системы, в которой главной целью жизни человека становится наслаждение, культ плоти. Владеющее языческим сознанием идолопоклонство, неминуемо наступающее при отсутствии духовного идеала, в прямом своем значении проявляется в поклонении изображениям богов, а в переносном – самым различным идеям, кумирам и целям в жизни. «Идолом» для человека может стать и любая страсть – телесная, душевная или духовная [Осипов, 272]. Важнейшей особенностью языческого сознания является также стремление к безграничной власти, к подчинению всего окружающего собственной воле – с использованием для этого как физической силы, так и возможностей магии. Таким образом, по самым своим существенным характеристикам язычество является полной противоположностью христианству.
Душа Заремы объята жаждой безраздельного обладания любимым человеком, который при этом осознается не свободной личностью, не полноправным субъектом, а лишь объектом страсти. Обращаясь к Марии, она просит: «Оставь Гирея мне: он мой». И далее снова: «Отдай мне прежнего Гирея… Он мой» [Пушкин, 4,189-190]. Сакрализация любовного чувства ведет к аксиологической переориентации в сознании героини: воспринимая «измену» Гирея как преступление, Зарема вершит свой суд, готовая на убийство во имя самой «высокой» для нее цели – возвращения любимого. Так проявляется в героине качество, характерное вообще для романтической натуры и постоянно акцентируемое писателями-романтиками: «Личность присваивает себе права судьи и исполнителя правосудия, она сама при этом решает, что справедливо и что несправедливо, и сама формулирует кодекс возмездия» [Тураев, 239]. Невозможно не заметить, что психология любовной страсти в ее крайнем проявлении изображена здесь Пушкиным с предельной точностью. Зарема не осознает в себе духовного начала как определяющего, отсюда и ее представление о собственном предназначении. Признаваясь Марии: «Я для страсти рождена» [Пушкин, 4,189], она, по существу, произносит формулу собственной личности.
Страсть, владеющая душой Заремы, чужеродна натуре Марии, в портрете которой акцентируется иное, контрастное начало – «тихий нрав», не являющийся, однако, врожденным качеством ее натуры, что видно из ее портрета: «движенья стройные, живые» [Пушкин, 4, 182] показывают читателю природную активность, динамичность героини. Эпитет «тихий» употреблен здесь, скорее всего, в том значении, которое представлено в словаре Даля: «Тихий – смирный, скромный, кроткий» [Даль, 4, 407]. Эти же качества отметил в героине и Белинский, определив ее как «существо кроткое, скромное, детски благочестивое» [Белинский, 6, 317]. Чистота и безгрешность, целомудрие Марии, небесное начало ее души передаются в авторской характеристике словосочетанием «невинная дева» [Пушкин, 4, 190]. Невинный, по Далю, – «непорочный, чистый, пречистый, не знающий [ни] греха, ни зла, не могущий и помышлять о них» [Даль, 2, 505]. В описании героини с самого начала настойчиво акцентируется неземное начало, присущее ей. Даже бытовая, казалось бы, деталь ее повседневного досуга в родном доме, изображенном как идиллическое пространство, – названная волшебной арфа наполняется символическим смыслом. Символизируя «некий заоблачный мир, высоту и силу чувств, хвалу Богу, небесное царство, благость, молитву, лестницу в небо», арфа (гусли) «в иудейско-христианской традиции была инструментом, с помощью которого возносилась хвала Господу… и непременным атрибутом царя Давида» [Копалинский, 9].
Кульминационная в поэме ситуация встречи центральных героинь отчетливо выявляет их тяготение к противоположным аксиологическим полюсам. Пребывание в комнате Марии открывает Зареме существование каких-то недоступных ей до этого ценностей: иной гармонии, иной любви – той, которой «крест символ священный»:
Вошла, взирает с изумленьем…
И тайный страх в нее проник.
Лампады свет уединенный,
Кивот, печально озаренный,
Пречистой Девы кроткий лик
И крест, любви символ священный.
[Пушкин, 4, 187].
В свою очередь, Марии мир любовной страсти, неведомый ранее («Она любви еще не знала…» [Пушкин, 4, 183]), открывается через переживания Заремы:
Невинной деве непонятен
Язык мучительных страстей,
Но голос их ей смутно внятен,
Он странен, он ужасен ей.
[Пушкин, 4, 190].
Восприятием Марии слову страсть возвращается его первоначальный смысл: «страданье, муки, маета, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска; душевный порыв к чему, нравственная жажда, жаданье, алчба, безотчетное влеченье, необузданное, неразумное хотенье» [Даль, 4, 336]. Жизнь предстает перед ней теперь как переплетение страстей, как состояние постоянной борьбы, где сегодняшнему победителю завтра уготована участь побежденного. Пример Заремы показывает ей, что вовлеченный в эту игру страстей человек, безумствуя, становится игрушкой в руках слепых и темных сил, Рока, определяющего в каждый конкретный момент его судьбу. Если принципом жизни Заремы является непрестанное участие в борьбе не только с людьми, но и с высшими силами, то Марии истина видится в полном отказе от этой борьбы во имя совершенно других, несравнимо более высоких для нее ценностей.
Основной доминантой психологической характеристики Марии является отмеченное автором уникальное качество ее внутреннего мира – «тишина души» [Пушкин, 4,183]. В словаре Даля одно из значений слова тишина – «мир, покой, согласие и лад» [Даль, 4, 407] – толкуется в соответствии с христианским восприятием, где состояние тишины, противоположное мятежу, бунту, есть показатель гармонии[3]3
Не случайно в православных молитвах Христос назван «Начальником тишины», а к ангелу-хранителю верующие обращаются с просьбой: «Устави сердце мое от настоящаго мятежа… и настави мя чудно к тишине животней».
[Закрыть]. Именно это качество проецируется на все, что окружает Марию. Особая, одухотворенная атмосфера ее комнаты (где тишина характеризует не только физическое состояние, как тишина гарема или ночного Бахчисарая) чужеродна всему остальному пространству, где царит стремление к неге и наслаждениям, и противостоит ему:
Гарема в дальнем отделенье
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединенье
Сокрылся некто неземной.
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой…
‹…›
И между тем, как все вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.
[Пушкин, 4, 184]
Ситуация узничества, чрезвычайно распространенная в романтической литературе и включающая в себя традиционную оппозицию плен – свобода, разворачивается здесь парадоксально-противоположным образом: «отдаленная темница», будучи локусом плена, при возможности вечного в ней уединения становится в сознании пленницы пространством свободы. Уединенная и отграниченная от общего пространства гарема комната Марии, «спасенный чудом уголок», не просто наполнена церковными реликвиями, но показана как место присутствия Святого Духа. По слову автора,
Там упованье в тишине
С смиренной верой обитает…
[Пушкин, 4, 184]
Упование на Бога, полное и безраздельное, безоговорочное вручение себя Ему и есть высшая степень смирения, доступная человеку и существующая как наиболее полная и совершенная форма выражения его любви к Творцу и веры в Него. Высокая, небесная сущность души Марии имеет в своем основании религиозное чувство, настолько глубокое, что даже самая трагическая ситуация не вызывает в ней смятения и бунта, а только лишь желание предать себя и свою судьбу воле Божией.
В христианском сознании антитезой страстям, с момента рождения владеющим душой человека и влекущим его ко греху, является бесстрастие – высокое состояние души, очищенной от страстей, отказавшейся от ложных ценностей мира сего. Земная жизнь человека – это, в идеале, путь его духовного совершенствования, приводящий в конечном итоге к спасению души и обретению вечного блаженства. Бесстрастие, свойственное ангельски-чистой душе Марии, является не плодом долгих усилий или упорных трудов, как у святых отцов, а по особой милости даровано ей свыше. Именно о таких, имеющих младенческую чистоту сердца, сказано в Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем» [Мф. 5: 8]. «Тишина души» Марии абсолютно противоположна всему окружающему ее здесь, подчиненному бурным страстям миру, как духовное – телесному, небесное – земному, христианское – языческому. Именно после встречи с Заремой возникает в сознании Марии образ «пустыни мира»: земной мир, где утрачено все самое дорогое, может быть и обещающий в будущем житейские радости, но «пустой» в духовном смысле, лишен для Марии какой бы то ни было привлекательности:
О Боже! если бы Гирей
В ее темнице отдаленной
Забыл несчастную навек
Или кончиной ускоренной
Унылы дни ее пресек, –
С какою б радостью Мария
Оставила печальный свет!
Мгновенья жизни дорогие
Давно прошли, давно их нет!
Что делать ей в пустыне мира?
Уж ей пора, Марию ждут
И в небеса, на лоно мира, –
Родной улыбкою зовут.
[Пушкин, 4, 190-191]
«Тишина души» Марии, в наиболее точной форме выражающая красоту и гармонию ее внутреннего мира, созвучна тому небесному покою, к которому она устремлена всем своим существом. В рамках романтического двоемирия здесь возникает прямая и четкая оппозиция двух миров, воплощающая христианский идеал: «пустыне мира» земного противопоставляются небеса, «на лоно мира» – то есть покоя – которых устремлена душа Марии.
Каждая из героинь делает свой, вполне осознанный выбор: одна полностью погружена в земное, другая устремлена к небесному. В то время как высшее счастье воплощено для Заремы в телесной, плотской, страстной любви, истинным счастьем для Марии является блаженство обитания в «близкой, лучшей стороне» – мире инобытия. Легко и радостно готова она перейти в будущую жизнь, воспринимая смерть как новое рождение, как переход в небесный, горний мир. Ангельский образ, проступающий в спящей Марии, возникает в инобытии как ее новая сущность:
Она давно-желанный свет,
Как новый ангел, озарила.
[Пушкин, 4, 191].
Не чья-то человеческая воля, а небесный «зов» в конечном счете определяет судьбу Марии. В свете этого обретает особый смысл уклончивость автора, оставляющего до конца не проясненной причину смерти героини:
Но что же в гроб ее свело?
Тоска ль неволи безнадежной,
Болезнь, или другое зло?..
Кто знает? Нет Марии нежной!..
[Пушкин, 4, 191]
Объяснение такому сюжетному «ходу» при безграничном авторском всеведении в рамках художественного мира поэмы исследователи находили в традиционной вообще для романтиков, и в особенности для байронической поэмы, склонности к недосказанности и загадочности. Однако можно увидеть и иное: в процитированной выше строфе автор очерчивает и намечает возможности и пути свершения Высшей воли.
Образ «строгой святыни» Марииного уголка, ставший своеобразным аксиологическим центром всего произведения, не только противоположен всему окружающему пространству – от него протягивается параллель, выводящая за пределы художественного мира поэмы, к более широкому обобщению:
И между тем, как все вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.
Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство…
[Пушкин, 4, 184-185]
«Эти, как бы другим шрифтом написанные строки – впервые в поэме звучащий прямой голос автора. За ними следует огромная пауза, поддержанная композиционно, рифмически и графически» [Новикова: 1999, 212]. Сравнение с человеческим сердцем, перебрасывая мостик во внетекстовую реальность, обозначает выход в христианскую догматику и антропологию. Антитеза ложных и истинных ценностей, определяющая собой все библейское повествование, таким образом, оказывается и в художественном мире поэмы выведенной на первый план.
Особенности аксиологической системы, воплощенной в «Бахчисарайском фонтане», становятся еще более отчетливыми при сопоставлении с поэмами Байрона. В научной литературе отмечалось сюжетное и типологическое сходство героинь этих двух поэтов. «Противопоставление Марии и Заремы в „Бахчисарайском фонтане“, – писал В. М. Жирмунский, – повторяет отношение Гюльнары и Медоры в „Корсаре“: внешнему облику соответствует внутренняя характеристика – кроткая и нежная христианка поставлена рядом с необузданной и страстной восточной женщиной, из-за любви способной на преступление» [Жирмунский, 164]. Детальный анализ, однако, показывает, что христианская принадлежность байроновской Медоры (как, впрочем, и мусульманская Гюльнары) весьма условна, существует, так сказать, «по умолчанию» и связана лишь с отнесенностью ее к европейской цивилизации. На протяжении всей поэмы невозможно обнаружить каких-либо признаков, свидетельствующих о религиозности этой героини: ни присутствия в ее комнате церковных реликвий; ни обращений ее к Богу ни молитв, своеобразной заменой которых становится песня о безграничной любви героини к Конраду. Кротость же Медоры является врожденным качеством ее натуры, а не следствием глубокого религиозного чувства. Лишь одна сцена как будто свидетельствует об обращении Медоры к высшим силам, однако и здесь трудно говорить о проявлении ее именно христианского мировосприятия:
«Ушел!» – и к сердцу руки поднесла,
Потом их к небу кротко подняла…
[Байрон, 3, 100]
Постоянно акцентирующийся в поэме Байрона один и тот же мотив – безраздельного царствования в сердце героини любимого человека – находит свое завершение в финале, когда она умирает, не в силах пережить предполагаемую гибель возлюбленного. Таким образом, совершенно различные, полностью противоположные внешне, обе байроновские героини существуют в одной аксиологической системе – той, где высшей ценностью признается любовная страсть.
Исследователям пушкинской поэмы всегда казалась очевидной мысль о том, что именно Мария является воплощением авторского идеала, хотя эстетически героини совершенно равноправны, что нашло свое отражение и в системе повествования. Так, В. М. Жирмунским отмечены различные ситуации, когда автор становится всецело на точку зрения то одной, то другой героини: в сцене ночного посещения он «переживает вместе с Заремой ее сомнения и страхи», а «в рассказе о душевном состоянии Марии после разговора с Заремой вместо объективного описания со стороны поэт, наполовину отождествляя себя с героиней, как бы сочувственно оплакивает ее судьбу» [Жирмунский, 102]. Сочувствие, которое автор выражает на протяжении событий как одной, так и другой героине, проявляется и в эпилоге, в описании поэтического видения таинственной девы:
Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?
[Пушкин, 4, 194]
Принадлежа по своему мировосприятию к противоположным системам, в личностном плане героини равновелики; и если Зарема заключает в себе идеал романтической личности с ее предельным индивидуализмом и абсолютной свободой от каких бы то ни было нравственных устоев, правил и норм, то Мария в полной мере воплощает христианский идеал. Аксиологический анализ показывает, что основу конфликта в поэме образует мировоззренческое противостояние героинь, где важнейшей является проблема свободы личности. Если свобода Заремы ограничена возможностями проявления личности в пределах собственной натуры, то свобода Марии определяется доступной ей высочайшей степенью смирения, которая позволяет личности обрести полную внутреннюю независимость от всей земной конкретики окружающего ее мира.
Событийное поле поэмы, начинающееся изображением Гирея («Гирей сидел, потупя взор…» [Пушкин, 4, 177]), и заканчивается возвращением к нему – это знаменитое описание крымского хана сам Пушкин находил впоследствии мелодраматическим и иронизировал над ним [Пушкин, 7, 170].
Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный:
Но в сердце хана чувств иных
Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю, и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.
[Пушкин, 4, 191].
Романтический процесс отчуждения героя, охватывающий временной промежуток между начальной и событийно-финальной сценами, имеет в своем основании не просто безответную любовь, со смертью любимой теряющую последнюю надежду. Внешние симптомы душевного аффекта, запечатленные в портрете Гирея, призваны выразить внутренний переворот, совершившийся в нем. Открывшийся Гирею через Марию неведомый ему прежде, недосягаемо высокий – духовный – уровень человеческого существования напрямую связан для него с христианством. Этим и объясняется появление не совсем обычного символа (как будто содержащего в себе одновременно знаки двух религий), где «осененная», то есть находящаяся «в сени» креста, «магометанская луна» выглядит поверженной:
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан,
В углу дворца уединенный.
Над ним крестом осенена
Магометанская луна
(Символ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вина).
[Пушкин, 4, 192].
Крымскому хану не может быть известно, что крест такой формы, использовавшийся еще в эпоху раннего христианства периода катакомб, называется якорным крестом, и нижняя часть этого знака, имеющая сходство с полумесяцем, в действительности обозначает собой поперечную часть якоря [ЭС, 260].
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
[Пушкин, 4, 192].
Неожиданное сравнение выводит чувство Гирея из сферы чистой эротики, снова обращая читателя к иному уровню осмысления событий, описанных в поэме. В то же время событийно-финальные описания эксплицируют и важнейшие особенности авторской аксиологической системы: становится понятно, что сакрализованная романтическим мировоззрением грандиозная и всепобеждающая стихия любовной страсти в авторском сознании ни в коей мере не может быть сопоставима с высшими духовными ценностями горнего мира.
В эпилоге, со сменой событийно-фабульного хронотопа, бахчисарайский дворец возникает уже в момент реального посещения его поэтом, в совершенно другую эпоху, отделенную от описанных событий огромной исторической дистанцией:
Я посетил Бахчисарая
В забвенье дремлющий дворец.
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где, бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
[Пушкин, 4, 193]
«В забвенье дремлющий дворец», только воображением поэта восстановленный в деталях, давно утраченных в реальности, предстает теперь перед читателем как свидетельство краткости и преходящести всего земного:
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют волны, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.
Я видел ветхие решетки,
За коими, в своей весне,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены в тишине.
[Пушкин, 4, 193].
Композиционно примыкающий к описанию дворца образ «ханского кладбища», его надгробных столбов, гласящих «завет судьбы», возникает как напоминание об ином измерении земных событий человеческой жизни и истории, как знак Вечности, введением которой изменяется угол зрения на все описанное в поэме:
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
[Пушкин, 4, 193].
Риторические вопросы «Где скрылись ханы? Где гарем?», возникающие затем в элегически окрашенных раздумьях автора и напрямую выводящие читателя к проблемам смысла жизни, бытия человеческого, акцентируют эту религиозно-философскую направленность авторских размышлений, неожиданно сменяющуюся резким сдвигом в другую плоскость:
Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось… но не тем
В то время сердце полно было…
[Пушкин, 4, 193]
Теперь уже сам автор, оказавшийся в силовом поле любовного чувства и испытывающий его сильнейшее воздействие, предпринимает безуспешные попытки выйти из-под власти этого «безумства». Однако в финальной строфе поэмы вновь происходит смена хронотопа, и читатель вместе с автором переносится в воображаемую реальность будущего посещения Тавриды:
Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
[Пушкин, 4, 194].
Возможность существования вдали от суеты и страстей («Забыв и славу и любовь»), на лоне прекрасной южной природы, в состоянии душевного покоя и творческого вдохновения, напоминая о горацианском идеале, возникает как вариант – уже для самого поэта – устроения земной жизни и достижения внутренней гармонии. Но в заключительных стихах лирическое «я» поэта, особенно отчетливо проявляющее себя в эпилоге, исчезает, заменяясь обобщением – путник:
Волшебный край, очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада;
Все чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага…
[Пушкин, 4, 194-195]
Образ путника, переводя финальное описание в метафорический план, вновь обращает читателя к онтологическому уровню восприятия, где исчезает конкретика времени, заменяясь точкой отсчета Вечности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































