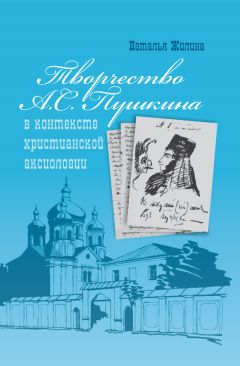
Автор книги: Наталья Жилина
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
§ 4. Свобода как аксиологическая категория в поэме «Цыганы»
В поэме «Цыганы» (1824), начатой Пушкиным на юге, законченной уже в Михайловском и завершающей цикл «южных поэм», получили продолжение многие идеи, заключенные в прежних произведениях, и нашли свое углубление и развитие основные проблемы, поставленные ранее. Как отмечали многие исследователи, наиболее тесные связи на всех уровнях художественной системы обнаруживаются прежде всего с «Кавказским пленником». Уже критикам XIX века представлялось несомненным, что, вопреки заглавию, именно образ главного героя, молодого человека, разочарованного в ценностях современного ему общества и поднявшего бунт против него, является идейным средоточием поэмы[4]4
См. высказывания П. А. Вяземского, СП. Шевырева, И. В. Киреевского, В. Г. Белинского, П. В. Анненкова.
[Закрыть]. Эта мысль была поддержана и многими советскими учеными, в чьих трудах она была развита и дополнена. «„Цыганы“, подобно „Кавказскому пленнику“, – поэма идеологическая, – писал Томашевский. – И здесь дан конфликт двух культур, и здесь центральным образом является „скиталец“, отрекшийся от европейской культуры, но, по существу, с этой культурой связанный. ‹…› Байронический руссоизм нашел в этой поэме наиболее полное и углубленное выражение» [Томашевский: 1990, 218].
Центральной в этой поэме, как и прежде, является проблема свободы, важнейшая в романтическом мировоззрении. В отличие от трех предыдущих поэм, здесь, однако, отсутствует мотив внешней несвободы, ситуация плена: Алеко по своей воле оставляет город и пристает к цыганскому табору, где не встречает никакого препятствия своим желаниям и действиям. У цыган он не пленник и не чужой, он принят как свой и как равный. Главный герой, таким образом, оказывается полностью свободным в своем выборе, и центр тяжести конфликта в значительной степени переносится в глубь человеческой души.
Уже в самом начале поэмы возникает тема внеположного городской цивилизации природного существования, давая о себе знать как открытое противопоставление двух «миров». Двумя описаниями цыганского табора – вечерним и утренним – создается образ почти идиллического существования с определяющим его мотивом воли. В авторском размышлении, подытоживающем второе описание, возникает важнейшая в сюжете поэмы оппозиция жизнь – смерть: дикая, но вольная природная жизнь цыган противопоставляется неволе «мертвых нег», добровольному «рабству» цивилизации, причастным которому оказывается не только герой, но и сам автор: по его словам, в цыганском быте
Все скудно, дико, все нестройно;
Но все так живо-непокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной.
[Пушкин, 4, 210].
В то же время изображение Алеко, возникающее сразу после этого сравнения и сопровождающееся включением в повествовательную ткань его «точки зрения», резко диссонирует с высказыванием автора, а прием композиционной стыковки подчеркивает четкое разграничение авторского сознания и сознания героя:
Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел.
С ним черноокая Земфира,
Теперь он вольный житель мира,
И солнце весело над ним
Полуденной красою блещет;
Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?
[Пушкин, 4, 211]
Мотив «заботы» продолжается затем и в стилизованной под народную песне о «птичке Божией», резко отличающейся от остального повествования иным (хореическим, а не ямбическим) размером:
Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда,
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу Бога внемлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет –
И туман и непогоды
Осень поздняя несет:
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальные страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.
[Пушкин, 4, 211]
По поводу этого пушкинского образа интересно высказывание Марины Цветаевой с ее нарочитым удивлением: «Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички, кроме кукушки?.. Эти стихи явно написаны про бабочку» [Цветаева, 2, 346]. Очевидная несопоставимость «птички Божией» с любой существующей в объективной реальности птицей, жизнь которой сопряжена как раз с бесконечными трудами и заботами, дает основания предполагать, что в песне читателю открывается своеобразная картина рая – уникального пространства обитания «птички Божией». Прямое же сопоставление ее с человеком, не имеющим возможности беззаботного существования и вынужденным подчиняться неблагоприятным для него обстоятельствам («Людям скучно, людям горе»), может быть воспринято как отсылка к известному библейскому сюжету об изгнании первых людей из рая. «Птичка гласу Бога внемлет», – говорится в песне, и это звучит как напоминание о гордыне первых людей, которые захотели сами стать «как боги», после чего им было назначено Отцом Небесным «в поте лица… есть хлеб» [Быт. 3: 19]. Так приемом «от противного» дает о себе знать в этой песне мотив грехопадения. В образе «птички Божией» можно увидеть также и евангельскую реминисценцию: «песня эта внятно отзывается евангельской притче о птицах небесных» [Новикова: 1995, 263], которые, как сказано Спасителем, «не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы», но «Отец… Небесный питает их» [Мф. 6: 26].
Оппозиция птичка Божия – человек, содержащаяся в сюжете песни, реализует свою многозначность и в другом, частном сопоставлении – с главным героем поэмы. Появление Алеко в таборе вначале как будто мотивируется внешними обстоятельствами («Его преследует закон» [Пушкин, 4, 208], – объясняет Земфира отцу), и лишь затем становится понятно, что он оставил родной город по другим причинам, гораздо более глубокого свойства. Описание событий, представленных в предыстории героя в обобщенно-метафорическом виде, содержит и характеристику психологического состояния, что дает возможность понять, насколько глубоким было расхождение героя с окружавшим его «цивилизованным» миром:
Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю Бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лень.
Его порой волшебной славы
Манила дальная звезда,
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда;
Над одинокой головою
И гром нередко грохотал;
Но он беспечно под грозою
И в вёдро ясное дремал.
[Пушкин, 4, 212]
Такая внешняя безмятежность и полная отрешенность героя от всего окружающего (хотя и противоречащая сказанному ранее – «Его преследует закон») может выглядеть как проявление высшей мудрости: кажется, что никакие соблазны мира не способны воздействовать на него. Можно представить, что Алеко, действительно существующий «подобно птичке беззаботной», строит свою жизнь в точном соответствии с заветом Спасителя. Однако в словах Христа ясно различима граница между «миром горним» и «миром дольним» и содержится призыв к людям не уделять чрезмерного внимания земному устроению в ущерб заботе о высших ценностях: «Ищите же прежде Царствие Божия и правды Его, и это все приложится вам» [Мф. 6: 33]. Возможность же обретения Царства Небесного заключается в нравственном обустройстве собственной души – «Царствие Божие внутрь вас есть» [Лк. 17: 21]. Так в опосредованном виде дает о себе знать в поэме проблема нравственного закона, неприменимого к природным существам, но совершенно неотъемлемого от человеческой жизни. Можно сказать, что глас Божий, упоминаемый в песне («Птичка гласу Бога внемлет»), и состоит для человека в напоминании о высшем – нравственном – законе и о следовании по нравственному пути.
Одинокий, отвергающий весь мир Алеко, тем не менее, не испытывает от своей отчужденности и обособленности никаких страданий, а сознание своей исключительности рождает в нем стремление к полной независимости, не ограниченной только социальным уровнем, но вырастающей до космических масштабов. По слову автора, он
…жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой…
[Пушкин, 4, 212]
Повествование в предыстории героя организовано так, что позиция автора и позиция героя близки к совпадению, почти неразличимы – до следующих стихов, в которых происходит резкий сдвиг в плоскость авторского сознания, обнаруживающего себя перед читателем эмоционально-оценочной открытостью:
…Но, Боже, как играли страсти
Его послушною душой!
[Пушкин, 4, 212]
Если первая часть этого сложного предложения отражает самоощущение героя (не имеющего навыков самоанализа), то во второй воплощаются представления автора, обладающего глубоким знанием и тонким пониманием человеческой души. Именно это и дает ему возможность предсказания:
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди.
[Пушкин, 4, 212].
Совмещение в одном синтаксическом целом двух различных точек зрения – автора и героя – еще яснее выявляет и резче обозначает несходство их идеологических позиций: для героя абсолютной ценностью является именно внешняя свобода, возможность отчуждения от всего окружающего – автор видит первопричину всего происходящего с человеком в состоянии его внутреннего мира.
В научной литературе уже высказывалась мысль о том, что даже в «исключительных, едва ли не идеальных условиях Алеко не дано насладиться счастьем, узнать вкус подлинной свободы. И прежде всего потому, что он не в силах побороть бушующие в „его измученной груди“ страсти» [Гуревич: 1974, 75]. Главной причиной такого внутреннего «порабощения» исследователи вслед за В. Г. Белинским нередко считали «воспитавший его общественный уклад, который проявляется в злобных страстях» [Коровин, 235]. При этом не учитывалось, что понятие страсти как таковое принадлежит совершенно определенной системе мировоззрения, а именно – христианству, так же как представление о «коварной и слепой» Судьбе – язычеству. Основополагающему в языческом сознании понятию Судьбы противостоит в христианстве образ единого Бога, с которым неразрывно связано представление о нравственном законе, воплощенном в душе человека в виде совести. Если в языческих системах главным препятствием для обретения человеком свободы признается Судьба, то в христианстве – страсти, в рабство к которым с момента рождения попадает поврежденная первородным грехом человеческая натура. Именно страсти производят в душе человека обратное нравственному закону действие, вытесняя совесть. Таким образом, резкий интонационный сдвиг и изменение точки зрения в пушкинском повествовании выявляют и обозначают принадлежность героя и автора к противоположным аксиологическим системам – языческой и христианской. В то же время здесь возникает важнейшая в сюжете поэмы параллель судьба – страсти, неразрывно связанная с проблемой внешней и внутренней свободы.
Исследуя древнейшие мифопоэтические представления о свободе, присущие различным народам индоевропейской языковой группы, М. М. Маковский отмечает: «В языческом сознании свобода понималась как божественная стихия… как творящее божество, с которым человек не может бороться» [Маковский, 290]. Таким образом, человек, которому удалось бы завоевать полную и абсолютную свободу, получил бы исключительные права над всем окружающим, обретая тем самым божественный статус. В сознании пушкинского героя достижение абсолютной свободы связано с полным избавлением от власти высшей космической силы, которая в его сознании имеет облик Судьбы. С глубокой древности мифология различных народов включала Судьбу как «представление о непостижимой силе, действием которой обусловлены как отдельные события, так и вся жизнь человека» [Мифы, 2, 472]. В древнем языческом сознании Судьба мыслилась в виде общемировой вселенской космической силы, под властью которой находились даже боги. Мир, управляемый Судьбой, представал как некое упорядоченное единство, где человек был лишь малой частицей. Важно отметить, что Судьба, по представлениям древних, имела непосредственную связь с душой человека и оказывала сильнейшее воздействие на его внутренний мир [Мифы, 2, 471-474]. В славянских языках семантика слова Судьба определяется значением суда, что находит свое выражение в ее персонификациях. «Судьба понимается как приговор некоего суда, совершаемого либо высшим божеством, либо его посланцами-заместителями – персонифицированными духами судьбы». Такими существами являются Суд («в славянской мифологии существо, управляющее судьбой»), а также Суденицы («у славян мифические существа женского пола, определяющие судьбу человека при его рождении»), или Доля (в славянской мифологии воплощение счастья, удачи, даруемых людям божеством; первоначально само слово «бог» имело значение «доля» [СМ, 370]).
В воспоминаниях Алеко, вызванных вопросом Земфиры («Скажи, мой друг: ты не жалеешь // О том, что бросил навсегда?» [Пушкин, 4, 213]), возникает собирательный образ города как воплощения всего дурного, низменного и порочного:
О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.
[Пушкин, 4, 213]
Из этого монолога ясно видно, что пушкинский герой, не признавая никакого суда над собой, вершит суд над оставленным им миром и, ощущая себя на недосягаемой высоте, с презрением отвергает его несовершенство. Обвиняя людей города в том, что они «главы пред идолами клонят», пушкинский герой не осознает, что идолом для человека может стать любая страсть, в том числе и непреодолимое влечение к абсолютной свободе.
В монологе Алеко кроме других негативных картин возникает образ толпы («Толпы безумное гоненье»), напоминая об одной из важнейших в романтизме оппозиций гений – толпа и позволяя тем самым реконструировать второй ее член – гениальную личность, окруженную этой «толпой» и ей противостоящую, в данном случае – самого Алеко. В. Г. Белинский в связи с этим отмечал: «…все его мысли и чувства и действия вытекали, во-первых, из сознания своего превосходства над толпою… во-вторых, из чудовищного эгоизма, который горд самим собою, как добродетелью» [Белинский, 6, 331]. Ощущая себя гением, стоящим над толпой и неподвластным высшим силам, Алеко не подозревает, что понятие «гений» имеет самое непосредственное отношение к проявлению Судьбы. Как указывают ученые, «первоначально представления о Судьбе не отчленяются от восходящих к тотемизму и культу предков представлений о добрых и злых духах – спутниках человека, рождающихся и живущих вместе с ним. В числе таких персонификаций греческие демоны… римские гении» как воплощения «некой жизненной силы, определяющей характер человека и его Судьбу». Само слово гений согласуется с понятием «рождение» (genius от gigno – рождать). Таким образом, первоначальные божества Судьбы реконструируются как божества рождения, дающие человеку его жизненную участь, место (часть, долю) в рамках социального коллектива, нарекающие, судящие его [Мифы, 2, 471]. В славянской мифологии с культом предков был непосредственно связан домашний дух (домовой) – демонологический персонаж, под покровительством которого находилась вся семья [СМ, 169]. «Бездомный» Алеко, давно покинувший родные места, остается под властью такого домашнего духа – об этом свидетельствует ночной разговор между Земфирой и ее отцом:
Все тихо; ночь; луной украшен
Лазурный юга небосклон,
Старик Земфирой пробужден.
«О мой отец, Алеко страшен:
Послушай, сквозь тяжелый сон
И стонет, и рыдает он».
Старик
Не тронь его, храни молчанье.
Слыхал я русское преданье:
Теперь полунощной порой
У спящего теснит дыханье
Домашний дух; перед зарей
Уходит он.
[Пушкин, 4, 221].
Становится понятно, что постоянно стремящийся к абсолютной свободе, отвергающий любые внешние ограничения, пушкинский герой в то же время не властен над своей собственной душой, не в силах противостоять поработившим ее потусторонним силам. «Рвущийся из „оков просвещенья“, из „неволи городов“, пламенный и решительный вольнолюбец, бросивший вызов судьбе, Алеко оказывается игралищем страстей, их послушным рабом и мучеником», – справедливо замечает по этому поводу Д. Д. Благой [Благой: 1967, 322]. Показывая духовный путь своего героя, Пушкин вскрывает общую психологическую закономерность: пытаясь во всем утвердить свою волю, отвергнув нравственный закон, человек тем самым отдает свою душу во власть темным стихиям и становится игрушкой страстей. Так выявляется центральная в сюжете поэмы оппозиция страсти – нравственный закон.
Описанная выше закономерность имеет, однако, самое непосредственное отношение и к противоположной в мировоззренческом плане стороне – к пушкинским цыганам. Отвечая на горькое признание Алеко, что Земфира его разлюбила, старый цыган объясняет это законами природы – не земного даже, а космического масштаба, ставя тем самым знак полного равенства между человеком и всей окружающей его природой:
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит,
И вот – уж перешла в другое,
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
[Пушкин, 4, 224]
По мнению современного исследователя, «воля цыган лишь кажется безграничной и нерегулируемой. На самом деле простор человеческого чувства имеет в ней естественный и притом для всех равно обязательный предел – законы природы. ‹…› Изменчивость и постоянство в мире цыган – проявления одной и той же жизненной стихии „воли“, имеющей свою собственную, ненасильственную меру» [Тамарченко, 98]. Пушкинские цыганы, действительно, еще не вышли из природного состояния, именно поэтому их страсти проявляются прежде всего на телесном уровне, имеют плотский характер. Только полным отсутствием каких-либо этических представлений можно объяснить то обстоятельство, что любовные свидания Земфиры и молодого цыгана происходят на кладбище и Алеко застает их «над обесславленной могилой» [Пушкин, 4, 230]. Такая «дикость» пушкинских цыган – состояние не только дохристианское, но, можно сказать, даже дорелигиозное. Смирение цыган и сама их «доброта» («Мы робки и добры душою», – говорит старый цыган [Пушкин, 4, 234]) – также чисто природного свойства. Трудно сказать, что, разлюбив Алеко, Земфира проявляет к нему доброту. Скорее наоборот, она мучает его, демонстративно выражая свои чувства:
Старик на вешнем солнце греет
Уж остывающую кровь;
У люльки дочь поет любовь.
Алеко внемлет и бледнеет.
Земфира
Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.
Алеко
Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.
Земфира
Не любишь? Мне какое дело!
Я песню для себя пою.
Алеко
Молчи, Земфира, я доволен…
Земфира
Так понял песню ты мою?
Алеко
Земфира!
Земфира
Ты сердиться волен,
Я песню про тебя пою
[Пушкин, 4, 218-219].
В устах Земфиры звучит та же песня, которую когда-то пела ее мать, Мариула, покинувшая ради своей новой любви мужа и маленькую дочь. «Песня эта проникнута не только упоеньем любви. Она звучит как злая насмешка над постылым мужем, полна ненависти и презрения к нему», – справедливо отмечает исследователь [Гуревич: 1974, 78]. Не случайно в речи цыган само слово свобода всегда заменяется волей. «Какова цыганская воля („не свобода, а воля“)?» – задается вопросом С. Г. Бочаров. И дает точную формулировку: «Безбрежная, полная воля, где каждый не ограничен никем и не может другого ничем ограничить. Не только образ жизни цыганов, но и сами человеческие отношения имеют „кочевой“, принципиально незакрепленный характер» [Бочаров: 1974, 13].
В свое время В. Г. Белинский, возлагавший на Алеко всю вину за совершившуюся трагедию, писал о пушкинских цыганах: «Несчастие принесено к ним сыном цивилизации, а не родилось между ними и через них же» [Белинский, 6, 334]. Развивая впоследствии эту мысль, П. В. Анненков замечал: «Поэт весьма ловко противопоставил этот образ существа, не отыскавшего истока чувству гордости и тщеславия, быту простого, дикого племени, которого он, по грубости сердца, еще и недостоин» [Анненков, 136]. Такой односторонний подход был поддержан и некоторыми учеными в советское время. Особенно показательным в этом смысле является следующее утверждение: «В „Цыганах“ последовательно поэтизируется добро, противопоставленное злу… Отчасти идеализируя „первобытную“ среду, Пушкин считает ее хранительницей добра» [Фридман, 150]. (При этом, размышляя далее, исследователь приходит к несколько иному, но вполне обоснованному выводу: «Рисуя „первобытную“ среду, Пушкин в самом важном пункте выступает в качестве антируссоиста: он показывает, что эта среда отнюдь не гармонична… напротив, у Руссо она изображалась как мир идеальной гармонии и душевного покоя» [Фридман, 152].) Среди тех, кто считал пушкинских цыган носителями народной мудрости, был и такой авторитетный ученый, как Г. А. Гуковский. В поэме «Цыганы», писал он, «ниспровергнуто понятие свободы как абсолютной свободы личности… индивидуализм осужден в самом сюжете поэмы, и осужден голосом народной мудрости» [Гуковский: 1965, 329].
Один из первых критиков поэмы, И. В. Киреевский, как бы предупреждая мысли будущих исследователей, писал: «Подумаешь, автор хотел представить золотой век, где люди справедливы, не зная законов; где страсти никогда не выходят из границ должного; где все свободно, но ничто не нарушает общей гармонии и внутреннее совершенство есть следствие не трудной образованности, но счастливой неиспорченности совершенства природного». Однако, считал критик, описание цыган в целом в конце концов приводит к мысли о том, что «вместо золотого века они представляют просто полудикий народ, не связанный законами» [Киреевский, 78-79]. Туже идею высказывал СП. Шевырев, обративший внимание на «характер цыганов… не ведающих законов и, следовательно], ни добра, ни преступления» [Шевырев, 35].
Убедительно оспаривал «мысль о том, что, рисуя свободное цыганское общество, Пушкин дает (хотя и несколько идеализированное) изображение народа» С. Бонди [Бонди: 19786, 50]. Горячо возражая тем, кто видел в цыганах воплощение авторского идеала, ученый ставил вопрос: «…какие у нас основания считать, что любовь Земфиры (и Мариулы), не создающая никаких духовных связей между любящими, не налагающая на них никаких моральных обязательств… была для Пушкина идеалом свободной любви, а Земфира – идеалом свободно любящей женщины?» И давал свой ответ: «Абсолютная „свобода“ в любви, говорит Пушкин своими „Цыганами“, несовместима с подлинно человеческими отношениями, она отвергает всякие взаимные обязанности между любящими, всякие связи между ними – духовные, моральные, интеллектуальные, кроме физических» [Бонди: 19786, 61-62].
Невозможно не принять этих утверждений ученого. Действительно, «естественная», природная жизнь в изображении Пушкина утрачивает идиллические черты, а ее носители лишаются ореола идеальности. Трудно не увидеть, что в жизни цыган торжествует принцип полного своеволия, которое в их сознании может быть ограничено лишь судьбой. В то же время нельзя не учитывать в их изображении и другого аспекта. Приближаясь по своей модели поведения к «детям природы», пушкинские цыганы не могут жить по законам цивилизованного мира – но и не враждебны ему. Сама их бездомность вызвана тем, что целый мир является для них домом. В этом смысле знаковой становится такая деталь цыганского быта, как очаг, сакрализованный центр дома, в дохристианские времена выполнявший роль алтаря [Афанасьев, 66], он раскладывается ими не просто в открытом пространстве, как это обычно делают путники, застигнутые ночью в степи, но «Между колесами телег, // Полузавешанных коврами» [Пушкин, 4, 207]. Это огороженное природное пространство приобретает черты дома, становясь своеобразной его имитацией. Таким образом, граница между домом и топосом вне дома, между своим и чужим пространством имеет здесь временный характер: в любой момент она легко уничтожается, и оба пространства совмещаются, сливаясь в одно. Принимая этот мир таким, каков он есть, пушкинские цыганы не навязывают никому ни своих представлений, ни образа жизни. Не будучи готовы судить, а тем более осуждать и подвергать наказанию окружающих («Мы не терзаем, не казним…» [Пушкин, 4, 234]), они и свое поведение не соизмеряют с каким-либо «законом» – «Мы дики, нет у нас законов…» [Пушкин, 4, 234]. Живя по своей воле, они в то же время не ограничивают и чужую.
Душевной робости цыган, по словам автора, «смиренной вольности детей» [Пушкин, 4, 235] противопоставлена неизмеримая, чудовищная гордость Алеко, определенная старым цыганом как доминанта его личности («Оставь нас, гордый человек» [Пушкин, 4, 233], – говорит он Алеко в финале). Не вызывает сомнений правота исследователя, который еще в начале XX века так характеризовал пушкинского героя: «Одинокая, гордая личность, говорящая да лишь тому, что оправдывается ее могучей волей, ставящая себя в центр мироздания и на весь мир глядящая лишь с точки зрения своего „я“, нигде не приобретет покоя, она обречена на вечное скитание с печатью каннского проклятия на своем гордом челе» [Долинин, 40].
Любовный треугольник (Алеко – Земфира – молодой цыган), вскрывающий полную противоположность различных мировосприятий, обозначает лишь внешние очертания тех непримиримых глубинных противоречий, которые в действительности существуют между Алеко и всем окружающим его миром. В контексте других пушкинских произведений такие противоречия получили точную характеристику современного исследователя: «Проникновенным художническим взором Пушкин видел, что, казалось бы, безграничные возможности свободного выбора ограничены в своих предельных выражениях неуемным и зачастую неосознаваемым желанием человека первенствовать среди людей и соперничать с Богом, что приводит его к вполне определенному концу. Гордость, направляющая это желание, берет начало в таинственных глубинах человеческой воли и заставляет людей выделять себя в обосабливающемся самоутверждении, что необходимо требует последовательного умаления всего окружающего…» [Тарасов: 1997, 8] Как становится понятно в ходе сюжетного развития, в сознании Алеко сложилась и существует особая этическая система, в иерархическом строении которой его воля, распространяясь, подчиняет себе абсолютно все. «Ты для себя лишь хочешь воли…» [Пушкин, 4, 234], – точно формулирует старый цыган этот принцип жизни, ярким примером которого является ситуация с разлюбившей героя Земфирой. Реплика Алеко в разговоре со старым цыганом («Нет, я не споря // От прав моих не откажусь // Или хоть мщеньем наслажусь» [Пушкин, 4, 227]) становится своеобразным предсказанием дальнейшего хода событий. Картина мщения врагу, рисующаяся в его воображении, поражает своей кровожадной свирепостью, несовместимой с принципами какой-либо религиозной системы:
…когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.
[Пушкин, 4, 227].
Г. П. Макогоненко считал, что «Пушкин сознательно заставляет Алеко повторять слова Гяура (героя одноименной поэмы Байрона. – Н. Ж.), который, рассказывая о любимой им черкешенке, убитой за измену мужем, признавался: „Я так же бы убил, как он, // Будь я изменой оскоблен“ [Купреянова, Макогоненко, 212]. А. Гуревич заметил здесь скрытую полемику с другой поэмой Байрона, „Корсар“: ее главный герой Конрад „готов отказаться от побега из плена (хотя наутро его ждет казнь!) только потому, что ему при этом придется умертвить своего злейшего врага, пашу Сеида, но умертвить спящим! И вот поступок, немыслимый для Конрада, кажется Алеко естественным и „нормальным“. Отсюда – смелый, почти парадоксальный вывод: истинная свобода не по плечу романтическому герою. В этом главная причина его развенчания и деромантизации“ [Гуревич: 1974, 77]. Думается, однако, что вопрос о свободе здесь напрямую связан с проблемой нравственности. В противоположность Байрону, герой которого, даже отвергнув какие бы то ни было этические нормы, способен, по мнению английского поэта, сохранить душевное благородство, Пушкин убедительно показывает, что в действительности такая возможность психологически исключена. „Права“, которых требует для себя Алеко, – это права стоящей над всеми, исключительной личности, не признающей над собой не только человеческого, но и высшего суда. Очень точно высказался в свое время по этому поводу В. Г. Белинский: „Алеко является в поэме Пушкина как бы для того только, чтоб представить нам страшный, поразительный урок нравственности“ [Белинский, 6, 332].
Воля цыган, ограниченная их смирением и покорностью судьбе, не подходит Алеко, жаждущему безграничной, беспредельной свободы. Воспитанный в лоне цивилизации и культуры, но отвергший этические принципы, герой оказывается, в сущности, „по ту сторону добра и зла“. Если детям природы, цыганам, в их до-религиозном состоянии, еще неведом нравственный закон и само понятие греха, то Алеко, сын европейской – то есть христианской – цивилизации, уже не хочет его признавать. Бездомные, кочующие по всему миру, пушкинские цыганы являются его естественной, органической частью – бездомный Алеко, по слову Достоевского, „несчастный скиталец в родной земле“ [Достоевский, 26, 136], в своем непримиримом конфликте с миром, внеположен ему, и если для цыган дом везде, то для Алеко – нигде. „Алеко, – справедливо считает B. C. Непомнящий, – был первым пушкинским трагедийным героем – героем, главная трагедия которого внутри него самого, в душе, где живут и борются жажда свободы и склонность к тирании. Это была первая поэма о том, что мироздание слышит героя-„монологиста“, но не слушается его, более того – отвечает ему, и чаще всего совсем не так, как ему хочется“ [Непомнящий: 2001, 1, 316].
Эпилог выводит читателя из событийного плана, поднимая на иной, более высокий уровень – художественно-философского обобщения. Конец поэмы прямо перекликается с ее началом, с изображенной в ней „идиллией“, напоминая о руссоистско-байронической идее превосходства „естественного“ общества над цивилизованным. Но если в начале повествования на первый план выступала тема вольности цыган, то теперь внимание автора приковано к проблеме счастья:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































