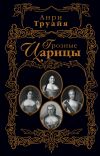Текст книги "Секретная династия. Тайны дворцовых переворотов"

Автор книги: Натан Эйдельман
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Это была запись в гарнизонной книге Санкт-Петербургской крепости: последовательность событий кажется достаточно ясной – царевича пытали утром его последнего дня (после приговора), и он от того скончался.
Казалось, все выяснилось. Один из рецензентов Устрялова восклицал, что «отныне процесс царевича поступил уже в последнюю инстанцию – на суд потомства». Однако именно в 1858 году, когда Устрялов закончил свой труд и отдал его в типографию, появился странный документ о той же истории, и вокруг него начались любопытные споры и разговоры.
Весной 1858 года, как известно, вышла четвертая книга «Полярной звезды». На странице 279 помещался заголовок: «Убиение царевича Алексея Петровича – Письмо Александра Румянцева к Титову Дмитрию Ивановичу».
В конце письма находилось примечание, очевидно сделанное Герценом и Огаревым: «Мы оставили правописание нам присланного списка». Под письмом дата: июля 27 дня 1718 г., из С.-Петербурга. То есть ровно через месяц после смерти царевича. Вот как начинается документ:
Высокопочтеннейший друг и благотворитель Дмитрий Иванович!
Се паки не обинуясь, веление ваше исполняю и пишу сие, его же не поведал бы, ни во что вменяя всяческие блага, и отцу моему, мне жизнь даровавшему, понеже бо чту вас, яко величайшего моего благотворца. ‹…› А как я человек живый, имеющ сердце и душу, то всего того повек не забуду, и благодарствовать вам, аще силы дозволят, потщуся. От искренности сердца возглаголю, что как прочитал я послание ваше да узнал, каких вестей требуете от меня, то страх и трепет объял мя, и на душу мою налегли тяжкие помышления…
Румянцев размышляет далее, что, открыв страшную тайну, будет «изменник и предатель» своего царя, но не может отказать «благотворцу своему» и, конечно, молит его – «сохраните все сие глубоко в сердце своем, никому не поведая о том из живущих на земле».
Затем начинается собственно сама тайна. Рассказ об Алексее ведется с того времени, когда его привезли из Москвы (где он отрекался от наследования) в Петербург, и при этом открылись новые провинности царевича. Заметим (это важно для последующего изложения): в рассказе нет никакой предыстории насчет бегства царевича за границу, роли Румянцева в его доставлении домой и т. д. Все происходит уже после отречения.
Румянцев кратко рассказывает о следствии и суде, «о царевичевой девке» Евфросинии, давшей ценные показания, «за что ей по царскому милосердию живот дарован и в монастырь на вечное покаяние отослана». Затем сообщается о пытках и казнях разных сообщников Алексея, о смертном приговоре ему: «Светлейший князь Меншиков, да канцлер граф Гавриил Головкин, да тайный советник Петр Толстой, да я и ему то осуждение прочитали. Едва же царевич о смертной казни услышал, то зело побледнел и пошатался, так что мы с Толстым едва успели под руки схватить и тем от падения долу избавить. Уложив царевича на кровать и наказав о хранении его слугам да лекарю, мы отъехали к Его царскому величеству с рапортом, что царевич приговор свой выслушал, и тут же Толстой, я, генерал-поручик Бутурлин и лейб-гвардии майор Ушаков тайное приказание получили, дабы съехаться к Его величеству во дворец в первом часу пополуночи».
Румянцев не понимал, зачем его вызывают, а когда явился, застал кроме Петра также царицу и троицкого архимандрита Феодосия. Петр плакал, сетовал на Алексея, но заявил: «Не хочу поругать царскую кровь всенародную казнию, но да совершится сей предел тихо и неслышно». Румянцев далее рассказывает, как был поражен этим приказом, «ибо великость и новизна сего диковинного казуса весь мой ум обаяла, и долго бы я оттого в память не пришел, когда бы Толстой напамятованием об исполнении царского указа меня не возбудил». Четверо исполнителей идут в крепость. Ушаков отсылает стражу к наружным дверям – «якобы стук оружия недугующему царевичу беспокойство творит», и в крепости не остается никого, кроме царевича. Входят в камеру, Алексей спит и стонет во сне. Пришедшие рассуждают, как лучше: убить ли царевича, пока спит, или разбудить, чтобы покаялся в грехах. Решились на второе. Толстой разбудил Алексея и объяснил ему, что происходит:
Едва царевич сие услышал, как вопль великий поднял, призывая к себе на помощь, но из того успеха не возымев, начал горько плакатися и глаголся: «Горе мне, бедному, горе мне, от царские крове рожденному! Не лучше ли родиться от последнейшего подданного!» Тогда Толстой, утешая царевича, сказал: «Государь, яко отец, простил тебе все прегрешения и будет молиться о душе твоей, но, яко монарх, он измен твоих и клятвы нарушения простить не мог… приими удел свой, яко же подобает мужу царской крови, и сотвори последнюю молитву об отпущении грехов своих». Но царевич того не слушал, а плакал и хулил Его царское величество, нарекал детоубийцею. А как увидели, что царевич молиться не хочет, то, взяв его под руки, поставили на колени, и один из нас, кто же именно, от страха не упомню, говорит за ним: «Господи! в руцы твое предаю дух мой!» Он же, не говоря того, руками и ногами прямися и вырваться хотяще. Тогда той же, мню, яко Бутурлин, рек: «Господи! упокой душу раба твоего Алексия в селении праведных, презирая прегрешения его, яко человеколюбец!» И с сим словом царевича на ложницу спиною повалиши, и взяв от возглавия два пуховика, главу его накрыли, пригнетая, ондеже движения рук и ног утихли и сердце битяся перестало, что сделалося скоро, ради его тогдашней немощи, и что он тогда говорил, того никто разбирать не мог, ибо от страха близкия смерти ему разума потрясение сталося.
А как то совершилося, мы паки уложили тело царевича, якобы спящего, и, помоляся Богу о душе, тихо вышли. Я с Ушаковым близь дома остались, да кто-либо из сторонних туда не войдет, Бутурлин же да Толстой к царю с донесением о кончине царевичевой поехали. Скоро приехали от Двора госпожа Крамер и, показав нам Толстаго записку, в крепость вошла, и мы с нею тело царевича спрятали и к погребению изготовили, облекли его в светлые царские одежды. А стала смерть царевича гласна около полудня того дня, сие есть 26 Июня, якобы от кровяного пострела умер. На третий же того день тело его с подобающею сыну цареву честию перенесено из крепости в Троицкий собор, а 30 числа в склеп поставлено в Петропавловском соборе близь тела его царевичевой супруги.
И все то делалось уже, погребение и перенесение, при великом стечении народа и всякого чина и звания людей по церемониалам, от самого государя апробованным, и были красно и чинно, а настоящей же смерти царевича никто не ведал. А на похоронах царь с царицей был и горько плакал, мню, яко не о смертном случае, а припамятуся, что из того сына своего желал доброго наследника престолу сделать, но ради скверных его свойств многие страдания перенес и вотще труд и желание свое погубил… Вся сия от искренности моея поведав, паки молю, да тайна от Вас пребудет, и да не явлюся изменник моего пресветлого доверителя, в чем несумнен пребываю, ибо, не знав Вас, того и под страхом смерти не написал бы.
Вашему сыну, а моему вселюбезнейшему благоприятелю Ивану Дмитриевичу мое почтение отдайте, а я Вам, нижайше творя поклонение, по гроб мой пребуду Вашим вернейшим услужником.
Александр Румянцев
Вот какое письмо появилось в печати в 1858 году, ровно через 140 лет после описываемого в нем события.
Письмо зловещее и сильное. Оно как будто освещает темную страницу, почти полтора столетия скрытую от мира. Кажется, какая разница, сам ли царевич умер после пыток или был задушен по приказу отца? Разница действительно невелика, но ведь не зря же 140 лет отрицалась насильственная смерть Алексея. Власти боялись, чтобы лишние глаза не взглянули за стену, ширму, завесу, отделяющую парадную, официальную историю самодержавия от секретной, откровенной, кровавой. Кроме всего прочего, нельзя забывать и о том времени, когда появилась публикация: 1858–1859 годы – канун реформы, острая борьба нового и отживающего, стремление лучших сил русского общества атаковать своих противников не только в настоящем времени, но и отбить у них захваченное, оболганное прошлое. Никогда не утихавший спор о значении петровских преобразований разгорался вновь: что победит – заложенное в тех новшествах прогрессивное, просвещенное начало (по Пушкину, «свобода – неминуемое следствие просвещения»)? Или верх возьмут другие элементы тех же коренных реформ 1700-х годов – деспотизм, крепостничество, жестокость?
«Мы не верим ни призванию народов, ни их предопределению, мы думаем, что судьбы народов и государств могут по дороге меняться, как судьба всякого человека, но мы вправе, основываясь на настоящих элементах, по теории вероятности, делать заключения о будущем», – написав эти строки в 1859 году, Герцен не скрыл своей надежды: «То, что было с московским периодом, то будет неминуемо с петербургским. И так, как реформа Петра убила московский порядок, так предстоящая реформа убьет петербургский» (Г. XIV. 54).
В эту же пору о тех же сюжетах с осторожностью высказываются и в России. Даже весьма умеренный историк М. П. Погодин 14 марта 1860 года вызывает «бурю рукоплесканий» в петербургском пассаже, заявив, что «появление новых документов о процессе царевича Алексея напоминает о праве и возможности произнести откровенный исторический суд над событиями и лицами эпохи русского преобразования»; аудитории были сообщены страшные подробности пыток и казней 1718 года. Затем Погодин, впрочем, отказался «судить преобразователя, особенно здесь, в Петербурге, где… каждый камень говорит о нем, на каждом шагу встречается его имя и память», и просил Бога «отпустить прегрешения и даровать мир душе Петра»[115]115
О взгляде Погодина на Петра I см.: Рубинштейн Я. Л. Русская историография. М., 1941. С. 270–271.
[Закрыть].
Примерно в это же время отрывки из письма Румянцева к Титову просочились в русскую легальную прессу. Хотя в газете «Иллюстрация» в начале 1859 года публикация этого документа оборвалась посередине – как объявила редакция, «по причинам, от нас не зависящим», – газета успела сообщить, что «это письмо давно уже ходит по рукам любителей отечественной истории»[116]116
Иллюстрация. 1859. 7, 21 мая, 4 июня.
[Закрыть].
Действительно, в 1850-х годах письмо передавали из рук в руки, переписывали. Мне удалось выявить восемь списков этого документа, не считая, понятно, публикации «Полярной звезды» и копий, явно заимствованных оттуда[117]117
Пять списков в ПД: список Н. Г. Устрялова (Ф. 14. № 16. Л. 26–30); безымянный, вместе с письмом А. Татищева к А. А. Ивановскому от 14 августа 1826 г. (№ 9291/LIII б. 69.11–12); почерком М. И. Семевского – вместе с «Описанием смерти Павла I» (Р. I. Оп. 24. № 86); с карандашной пометкой «от Б. Модзалевского 1916 г.» (P. II. Оп. 1. № 383); М. И. Семевского («Михайлованова»), близкий к списку № 3 (Ф. 274. Оп. 1. № 438. Л. 105–124). Кроме того, три списка в ПБ; из сборника материалов о XVIII в. (Ф. 73, архив Бильбасова. В. 8. Л. 5–13); из архива И. В. Помяловского (№ 71. Л. 214-222); из собрания М. И. и А. И. Семевских (Ф. 683. № 16. Л. 1–8).
[Закрыть].
Отличие списков от текста, опубликованного Герценом, незначительно: чаще всего это описки. Здесь же заметим только, что по крайней мере три списка из восьми восходят к М. И. Семевскому. Это объясняется особой ролью историка и публициста в распространении «Письма Румянцева к Титову». Именно Семевский пытался опубликовать «Письмо» в «Иллюстрации», и по близкому сходству его списков с публикацией Герцена можно заключить, что Семевский был в этом случае (как позже еще не раз) тайным корреспондентом «Полярной звезды»[118]118
Об этой деятельности М. И. Семевского см.: ТК, особенно гл. 7, 13; также гл. VII наст. изд. Любопытно, что список «Михайлованова», явно предшествующий IV книге ПЗ, даже завершается почти таким же примечанием, как публикация ПЗ: «Надо думать, что язык сего любопытного манускрипта изуродован против подлинника невежеством переписчиков, а главное – их небрежностью в обращении с языком сборника» (ПД. Ф. 274. Оп. 1. № 438. Л. 124).
[Закрыть].
Как и следовало ожидать, вокруг «Письма Румянцева» вскоре закипели споры. Первым высказался Н. Г. Устрялов, который напечатал письмо в своей книге и объявил его подложным[119]119
Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. VI. С. 294 и след. Текст письма см.: Там же. С. 619–626.
[Закрыть]. Доводы историка весьма основательны: он нашел у Румянцева несколько неточностей и несообразностей. Кое-какие сподвижники Алексея, упомянутые в этом письме от 27 июля 1718 года как уже казненные, на самом деле погибли только в конце того года; никакого Дмитрия Ивановича Титова среди известных лиц Петровской эпохи не находилось. Наконец, одним из самых серьезных аргументов Устрялова было то, что письмо это распространилось лишь в середине XIX века. Действительно, все известные его списки относятся примерно к концу 1840-х – началу 1850-х годов. Где же пролежал этот документ почти полтора столетия, почему о нем никто прежде не слыхал – Пушкин, например, который был знаком с разнообразной литературой, ходившей в списках, и даже имел сверхсекретные мемуары Екатерины II?
Новейшая подделка, заключил Устрялов, и это заявление его чрезвычайно не понравилось либеральной и революционной публицистике, враждебно относившейся к консервативному историку. В начале 1860 года ему отвечали два знаменитых русских журнала – «Русское слово», где уже начал печататься юный Писарев, и «Современник», который тогда вели Чернышевский, Добролюбов и Некрасов. Послушаем их доводы.
В «Русском слове» снова выступил Михаил Семевский, который, кстати, сообщил, что именно он познакомил Устрялова с письмом (о чем последний не счел нужным упомянуть). Поскольку же, скорее всего, именно Семевский передал Герцену послание Румянцева, его полемика с Устряловым как бы защищала честь заграничной публикации; историк сумел, между прочим, напомнить читателям, что «письмо Румянцева было напечатано в одном из русских сборников 1858 года»[120]120
Семевский М. И. Царевич Алексей Петрович Н. Устрялова // Русское слово. 1860. № 1. Отд. Критика. С. 50.
[Закрыть].
Некоторые неточности документа, по мнению Семевского, идут от переписчиков: может быть, на самом деле Румянцев писал не в 1718-м, а в 1719 году; про кого написано, что они уже казнены, могло быть прежде «будут казнены» и т. п. Относительно неизвестного Титова Семевский замечает, что, во-первых, было несколько Титовых при Петре (правда, среди них нет Дмитрия Ивановича и его сына Ивана Дмитриевича). «Но, – продолжает Семевский, – еще вопрос: к Титову ли писал Румянцев? ‹…› П. Н. Петров, близко знающий отечественную историю и занимающийся ею в связи со своей специальностью – историей гравирования в России, сообщил нам, что на одном довольно старинном списке письма Румянцева он видел надпись: Татищеву»[121]121
Семевский М. И. Царевич Алексей Петрович Н. Устрялова // Русское слово. 1860. № 2. С. 93–94.
[Закрыть].
Семевский резко и во многом справедливо нападает на Устрялова за то, что тот хотя и опубликовал впервые в своей книге многие важные документы, но как бы нехотя, без должного разбора: «…не представил состояние общества, в котором оно находилось, когда из среды его исторгали почетных лиц, именитых женщин, гражданских, военных и духовных сановников, когда хватали толпы слуг, монахов, монахинь – заковывали в железа, бросали в тюрьмы, водили в застенки, жгли, рубили, секли, бичевали кнутами, рвали на части клещами, сажали живых на колы, ломали на колесах. Представить бы нам страх и смятение жителей Петербурга и Москвы, когда прерваны были по высочайшему повелению сообщения между тем и другим городом, а по домам разъезжали с собственноручными ордерами денщики, сыщики, палачи»[122]122
Семевский М. И. Царевич Алексей Петрович Н. Устрялова // Русское слово. 1860. № 2. С. 12–13.
[Закрыть].
Разумеется, в этих строках ясно видны политические симпатии юного Семевского, и его пафос относится не столько к 1718 году, сколько к своему 1860 году. Именно исходя из этой страстной предпосылки, Семевский защищает подлинность письма Румянцева: «Нельзя же отвергать его так легко, мимоходом, как это делает г. Устрялов. За письмо говорит многое: этот современный колорит, эта живость красок при описании самых мелких подробностей, эта необыкновенная выдержанность рассказа, тон – именно такой, каким должен был говорить верный денщик Петра Алексеевича. Подлоги литературные – достояние того периода, в котором литература получила последнее развитие: они являются в эпоху роскоши литературы. Кому бы вздумалось, для кого и для чего составлять частное письмо с таким старанием, с таким знанием и таким искусством, что почти каждый факт, каждое слово если иногда не соглашается с официальными историческими известиями, то всегда согласны с характером Петра, с характером окружающих его лиц? Устрялов не поднял всех этих вопросов…»[123]123
Семевский М. И. Царевич Алексей Петрович Н. Устрялова // Русское слово. 1860. № 2. С. 50.
[Закрыть] В этой и других своих работах Семевский сообщал, между прочим, об интересе к письму Румянцева А. С. Хомякова, полагавшего, правда, что «румянцевская записка есть полуофициальный документ, составленный по приказанию Петра»[124]124
Семевский М. И. Царевич Алексей Петрович Н. Устрялова // Русское слово. 1860. № 2. С. 49; ср.: Иллюстрация. 1859. 1 мая. С. 318.
[Закрыть].
Одновременно, также в первом номере за 1860 год, с отзывом на книгу Устрялова выступил «Современник». Любопытно, что автором статьи «Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича» одно время считали Добролюбова. Комментатор статьи в добролюбовском Полном собрании сочинений[125]125
Добролюбов Н. А. Т. 4. С. 496–499 / Коммент. А. В. Предтеченского. Подробнее об этом эпизоде см.: Рейсер С. А. Палеографии и текстология. М., 1970. С. 220.
[Закрыть] находил в ней «последовательность революционного демократа» и другие особенности добролюбовского подхода к истории и считал курьезной ошибкой, что статья об Алексее Петровиче в «Русском биографическом словаре» «приписана Пекарскому, тогда как это есть работа Добролюбова».
Между тем П. П. Пекарский, несомненно, и был автором этой работы, и в последнее собрание сочинений Добролюбова статья «Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича» уже не внесена. В фонде П. П. Пекарского хранится черновой автограф основной части этого сочинения[126]126
ПБ. Ф. 568 (П. П. Пекарского). № 56.
[Закрыть].
Составитель приведенного комментария, убежденный в авторстве Добролюбова, исходил при оценке статьи не только из ее содержания. Тот же текст, написанный П. П. Пекарским, пусть одним из лучших представителей либеральной исторической школы, не вызвал бы некоторой части приведенных характеристик.
Однако перед нами не просто научный курьез. Серьезное ядро этого эпизода в том, что нужно точнее представлять реальные взгляды и отношения между деятелями революционной демократии 1850–1860-х годов и историками типа Пекарского. Расхождение, разрыв демократии и либерализма уже наметились, но далеко еще не завершились. Спустя два-три года, в 1862–1863 годах, статьи, написанные представителями разных школ, отличались бы уже резче (хотя и тут торопливому исследователю грозит опасность попасть впросак при оценке какой-нибудь анонимной статьи). Анализируя литературные и общественные отношения того времени, мы заметим еще сохраняющуюся немалую общность различных антикрепостнических течений. Пекарский печатался в «Современнике», и это не было случайностью. Более того, специалисты, причислив эту статью к добролюбовским, хоть и ошибались, но, видимо, не тяжко. Роль Добролюбова в редактировании этого материала очень вероятна. Именно он обычно «вел» в «Современнике» материалы, относящиеся к Петру I (сам написал известную статью «Первые годы царствования Петра Великого» и другие работы о Петре и против Устрялова). Известно, что Пекарский придерживался в то время весьма критических воззрений на исторические методы Устрялова, но, возможно, Добролюбов еще более усилил эту позицию. Вот пример: в черновике Пекарского отсутствует одно очень острое место, появившееся в печатном тексте, и не исключено, что оно вписано (или рекомендовано) революционером-редактором. Говоря о принцессе Шарлотте, жене Алексея, Пекарский писал, что она испытывала нужду и огорчения «и, наконец, даже была лишена утешения переписываться со своими родными». А дальше следуют «подозреваемые» нами строки: «И, несмотря на то, некоторые ставят в вину Шарлотте, что она была рыжевата, не сближалась с Россиею и перед смертью не послала ни одного благословения народу, которого она должна была сделаться царицею! Странное требование для времени, когда сильные мира даже не понимали, что существует народ, а знали, что есть масса рабочих сил, годных иногда, чтобы подставить под неприятельскую картечь и ядра, иногда же, чтобы таскать землю и рыться в петербургских болотах»[127]127
Ср. материалы ПБ (Ф. 568. № 56. Л. 3) и в Собр. соч. Н. А. Добролюбова (Т. 4. С. 200, 2-й абз.). Автограф и печатный текст расходятся еще в нескольких местах, причем иногда опубликованные строки выглядят более острыми, но порою мысли Пекарского смелее в черновике. Так, в печати исчезли выделенные ниже строки из следующего отрывка: «Мы не можем согласиться с теми, которые, как г. Щебальский, который со свойственной ему элегантностью в стиле и еще большей решительностью в приговорах, объявил, что процесс царевича поступил уже в последнюю инстанцию – на суд потомства» (ПБ. Л. 1; Добролюбов Н. А. Т. 4. С. 194); фраза об Устрялове, который старался «приискать такие обстоятельства, которые бы сильнее обвиняли царевича и оправдали меры, против него взятые» (ПБ. Л. 4), появилась в «Современнике» без выделенных слов (с. 202); не попала в печать и следующая запись Пекарского: «По словам одного из величайших германских историков (Шлоссера? – Н. Э.), история должна быть наставницей человечества, предназначение ее – защищать несчастных и угнетенных против насилий и деспотизма; она будет романом или собранием всякого хлама и ветоши, если в ней нет уважения к святой вере в благородство и возвышенность человеческой души посреди окружающего ее развращения и испорченности света» (ПБ. Л. 4 об.).
[Закрыть].
Статья «Современника», понятно, затрагивала куда более общие вопросы, чем подложность или истинность интересующего нас письма. В ней тоже ясно видны проблемы 1860 года, во многом перекликавшиеся с событиями 1718 года.
«Разумеется, – писал Пекарский, – большинству читающей русской публики известно, что у нас даже не приступлено к изданию материалов по части новой русской истории, а без их неудобомыслимо серьезное историческое произведение, которое бы удовлетворяло всем требованиям науки».
В статье, между прочим, поднимался вопрос и о причинах сочувствия Алексею со стороны народа (что заметил еще Пушкин и пытался определенным образом объяснить Устрялов): «Разъяснение привязанности народа к царевичу должно искать не в том, что Алексей толковал о старцах от писаний, что он не любил нововведений, а также что желал погибели Петербургу, а в причинах, которые увлекали народные массы за Разиным, Пугачевым и которые главнейше зависели от неудовольства обычным ходом жизни и существовавшими порядками»[128]128
Добролюбов Н. А. Т. 4. С. 203; в рукописи Пекарского этот абзац был чуть иначе: вместо слов «разъяснение… должно искать» было: «разъяснение… историк должен искать» (ПБ. Л. 6).
[Закрыть].
Напомним, что это писалось в то время, когда власть опасалась нового Разина или Пугачева и в стране усилилось недовольство «существовавшими порядками».
Журнал упрекнул Устрялова и за то, что он пользовался в основном официальными материалами: «Замечательно, что из 202 документов, относящихся до жизни царевича, в труде г. Устрялова только один не имеет официального характера, написан не по служебной обязанности и не с розыску, а просто по влечению сообщить приятелю и благодетелю о подробностях смерти Алексея; но по странному стечению обстоятельств и этот единственный частный документ о царевиче признан г. Устряловым подложным… Мы говорим о письме Румянцева благоприятелю его Дмитрию Ивановичу Титову». Затем Пекарский сообщает, что письмо появилось в Петербурге «лет пять тому назад», и полагает, что если бы документ был поддельным, то в нем как раз не было бы некоторых ошибок и неточностей, которые легко мог бы преодолеть «лжеавтор». В конце статьи читаем: «Пишущий эти строки списал несколько лет тому назад копию письма с копии, принадлежавшей покойному профессору Д. И. Мейеру, который сказывал притом, что она сообщена ему одним знакомым, бывшим в отпуску в деревне и списавшим для себя копию с этого письма у одного из соседей – потомка Титова».
Кроме всех этих любопытных рассуждений и доводов Семевский в «Русском слове» и Пекарский в «Современнике» напомнили Устрялову об одном обстоятельстве, которое еще более усиливало их мнение относительно под линности письма. Дело в том, что письмо Румянцева к Титову было как бы посланием № 2: еще за 16 лет до его появления в печати стало известно другое послание Александра Румянцева – «письмо № 1».
1844 год. В четвертой книге знаменитого петербургского журнала «Отечественные записки» публикуются стихи Огарева «Когда во тьме…» и «Хандра», первые стихи Фета, продолжением идут «Парижские тайны» Эжена Сю; наконец, самый притягательный для читателей материал номера в разделе критики: «Сочинения Ал. Пушкина, статья 6-я» – В. Г. Белинского.
Издатель журнала Андрей Краевский, хитрый и опытный литературный делец, умело собирает авторов, стараясь при этом не поссориться со вспыльчивыми николаевскими властями.
Среди материалов второго отдела (наука) печаталась большая статья (32 страницы) – «Материалы для истории Петра Великого». Статья подписана: «Князь Влад. К-в; г. Глинск, 25 ноября 1843 г.»[129]129
Отечественные записки. 1844. № 3–4, отд. II. С. 77–109.
[Закрыть] Это имя встречается в журнале не раз. Еще в 1842 году им подписана работа «Реляции о Чесменском сражении», причем редакция благодарила «почтенного автора» за «прекрасный подарок»[130]130
Отечественные записки. 1842. № 4, отд. «Смесь». С. 69.
[Закрыть]. В «Современнике», «Московских ведомостях», опять в «Отечественных записках» и снова в «Современнике» в течение 1840-х годов подпись «Князь Вл. К-в» появляется около десяти раз в связи с различными историческими материалами и публикациями, все больше о Петре I. Иногда около сокращенной фамилии князя-историка появлялось указание «Ромны» или «Глинск»: это Полтавская губерния (и гоголевские времена!). В заштатном Глинске было меньше жителей, чем в Миргороде; выходит, что там, среди «иванов ивановичей и иванов никифоровичей», находился и тот человек, чьи исторические материалы печатали первейшие журналы столицы.
Полное имя князя было установлено историками только в 1920-х годах – Владимир Семенович Кавкасидзев (иногда писали – Кавказидзев)[131]131
Сборник Российской публичной библиотеки. Т. 1. Вып. 1. Пг., 1920. С. 72, 84.
[Закрыть]. Необычная фамилия, напоминавшая о Кавказе, объяснялась историей рода: в XVIII веке предки переехали с Кавказа и были включены в российские родословные книги.
Какими же особенными материалами о Петре мог располагать в украинской глуши князь Кавкасидзев? В статье его четырнадцать документов, большей частью относящихся к делу царевича Алексея. Четыре письма Петра к сыну и пять писем Алексея к Петру за 1715–1717 годы, два письма Петра I в Вену (1717 г.), документы об отречении царевича и манифест о том.
Зачем «Отечественные записки» печатали эти материалы, хотя к тому времени имелось на русском языке несколько печатных изданий, где эти материалы воспроизводились (книга Еэликова, перевод Катифора, «Розыскное дело о царевиче», переизданное в последний раз в 1829 г.)?
Дело в том, что, во-первых, те книги все же не удовлетворяли интереса публики, были достаточно дороги и редки. Во-вторых, Кавкасидзев прислал документы в журнал с любопытными отличиями и дополнениями против прежних изданий (о чем будет сказано далее). В-третьих, в его статье среди известных текстов были кое-какие документы, которые вообще прежде нигде не появлялись. Так, двенадцатым по счету (из четырнадцати) документов шло странное письмо Александра Румянцева к некоему Ивану Дмитриевичу (фамилия не обозначена): Румянцев сообщает своему «милостивцу и благоприятелю» Ивану Дмитриевичу о событиях, происшедших за «недолгое время» (т. е., очевидно, за время после встречи адресата и корреспондента или после предыдущего письма). Речь идет о событиях начала 1718 года, когда царевич Алексей был доставлен Толстым и Румянцевым в Москву. Далее подробно описывается процедура первой встречи беглеца с отцом, его отречение и начало следствия по делу царевича и его сообщников. «А как тое случится, – писал Румянцев, – к вам я паки в Рязань отпишу, когда к тому такая же благоприятная оказия будет. Драгому родителю вашему мое нижайшее поклонение отдайте, а об Михайлушке своем не жалейте на меня: его сам светлейший к ученью назначил, паче же радуйтеся, ибо Его Величество ученых много любит и каждодневно говорить нам изволит: „Учитеся, братцы, ибо ученье свет, а неученье тьма есть“. А затем прощайте и добром поминайте вашего усердного услужника Александра Румянцева. Москва 1718».
И Семевский, и Пекарский, возражая Устрялову в 1860 году, вспомнили об этом письме из «Отечественных записок». Ведь связь его с письмом Румянцева к Титову очевидна: в последнем адресат – Дмитрий Иванович Титов, благодетель Румянцева и, очевидно, человек пожилой, причем Румянцев передает привет сыну Дмитрия Ивановича «вселюбезнейшему благоприятелю Ивану Дмитриевичу». Письмо же, публикуемое Кавкасидзевым, обращено именно к «благоприятелю Ивану Дмитриевичу», родителю же его (очевидно, Дмитрию Ивановичу) отдается «нижайшее поклонение», и еще упоминается представитель третьего поколения той же семьи – Михайлушка, очевидно Михаил Иванович.
В письме № 1 (так назовем публикацию Кавкасидзева) Румянцев рассказывает довольно откровенно об определенном этапе в деле царевича – примерно с начала февраля до марта 1718 года. При этом Румянцев обещает продолжить отчет о событиях, что и делается в письме № 2 от 27 июля 1718 года (описание убийства царевича). Важная подробность из первого письма – что письмо отправляется в Рязань (а оттуда, возможно, в ближайшую вотчину). Однако в первом документе нет никакой фамилии. Еще заметим, что если второе письмо, о гибели царевича, известно во многих списках, то первое – только в публикации «Отечественных записок».
Откуда же получил князь Кавкасидзев такие документы и где они были с 1718 по 1843 год?
На это сам он дает любопытный ответ в предисловии к своей публикации: «Представляю вниманию любознательных читателей несколько актов, взятых мною из бумаг моего покойного соседа; но прежде, чем изложу содержание их, считаю себя обязанным упомянуть о том, каким образом достались они моему соседу, предварив сперва читателей, что эти сведения почерпнуты мною из изустного рассказа его». Далее сообщается, что в 1791 году сосед, служивший тогда в чине поручика при воронежском и харьковском генерал-губернаторе В. А. Черткове, был послан своим начальником в имение Вишенки, где жил на склоне лет фельдмаршал П. А. Румянцев-Задунайский. Поручик славился как искусный каллиграф и получил от фельдмаршала для переписки тетрадь исторических документов. За ночь офицер не только переписал рукопись, но и сделал копию для себя. Румянцев, восхищенный почерком, взял поручика к себе, сказав: «Если этот офицер будет так же хорошо работать шпагой, как работает пером, то я сделаю из него человека». Кавкасидзев, сообщая, что именно копия, снятая когда-то с румянцевских бумаг, «и досталась мне… по смерти моего соседа», к сожалению, не указывает его фамилии, но зато приводит сохранившееся среди тех бумаг письмо, нечто вроде посвящения фельдмаршалу Румянцеву от некоего Андрея Гри… (фамилия, очевидно, не разобрана или нарочно сокращена). Последний объявляет, что, разбирая архив покойного Александра Румянцева, «обрел некоторую рукопись, относящуюся к царствованию Петра Великого», связанную с отцом полководца, и, между прочим, как то свидетельствует и самое «письмо его руки», все это сшил в одну книжицу и преподносит фельдмаршалу.
Итак, у П. А. Румянцева был архив, где, понятно, сохранялись и бумаги, оставшиеся от его отца. При разборе бумаг обнаруживаются материалы о царевиче Алексее (что довольно естественно, учитывая роль Румянцева-первого в этом деле), а также «письмо его руки» (очевидно, авторская копия или послание, возвращенное адресатом). Документы эти пролежали с 1718 по 1790-е годы в архиве Румянцевых. Это также объяснимо: слишком мрачные и опасные сюжеты в них затрагивались. Затем сосед Кавкасидзева снимает для себя копию, от него она позже попадает к самому Кавкасидзеву и достигает печати… Довольно ясно, отчего этот документ не появлялся больше столетия. Но мало того: «письмо Ивану Дмитриевичу» ведь явно родственно «письму к Дмитрию Ивановичу». Поэтому очень и очень вероятно, что у Кавкасидзева в руках было и письмо № 2, полученное тем же путем. Однако в 1844 году, при Николае I, было, разумеется, немыслимо мечтать о напечатании документа, где описывается убийство члена российской императорской фамилии. Поэтому второе письмо Кавкасидзев мог в лучшем случае пустить по рукам, а если так, то очень понятно, почему списки с него пошли только в 1850-х годах: ведь лишь в 1840-х оно оказалось в руках князя.
Интересное косвенное подтверждение только что высказанной гипотезы находится в архиве журнала «Отечественные записки». Архив поступил в Императорскую Публичную библиотеку в 1913 году вместе с бумагами историка В. А. Бильбасова (который был женат на дочери издателя журнала Краевского). Там находится, между прочим, рукопись одной из статей Кавкасидзева (к сожалению, не той, про которую идет речь). Однако рядом с этими документами, даже под близким архивным номером, среди бумаг редакции хранился один из списков письма Румянцева к Титову, выполненный неизвестной рукой примерно в середине XIX века[132]132
ПБ. Ф. 73 (архив Бильбасова). В. 5, 8.
[Закрыть]. Вероятно, он тоже от Кавкасидзева. Позже, сопоставляя на страницах «Современника» оба румянцевских письма, Пекарский резонно заметил: «Если предположить, что второе письмо подложно, то надобно заподозрить и первое, сообщенное князем Кавкасидзевым [ошибочно назван Козловым], который говорит, каким путем досталось оно не только ему, но и прежнему владетелю копии». «Современник» высоко оценивал письма Румянцева «собственно не потому, что в них описывается возвращение царевича в Россию и кончина его, а по тем подробностям, которые драгоценны для историков, так как в них проглядывает современная эпоха, совершенно независимо от официальностей, допросных пунктов и т. п.». Однако до наших дней вопрос об этих письмах окончательно так и не разрешен. В книгах по истории Петра чаще всего сообщается, что царевич погиб вскоре после пытки, как сказано в «Гарнизонной книге», открытой Устряловым. Однако еще несколько раз (например, в журнале «Рус ская старина»[133]133
Русская старина. 1905. № 8.
[Закрыть]) письмо Румянцева к Титову перепечатывалось как существенный исторический документ. В Советской исторической энциклопедии статья «Алексей Петрович» заканчивается так: «По существующей версии, он был задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?