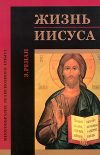Текст книги "Постник Евстратий: Мозаика святости"
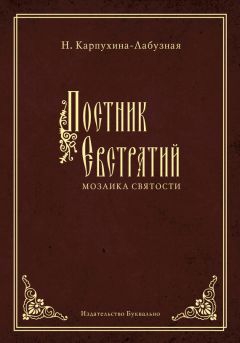
Автор книги: Нелли Карпухина-Лабузная
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
И становиша вежи свои
Так вот почему тогда страх охватил базилевса, когда увидел орды бесчисленные кочевников соломоголовых. Вот почему все пышнее подарки, все пышнее приемы. И так вот почему все длиннее застолья, все дороже вина и сладости.
Коварный базилевс свято верил, что лучше таких «союзничков» прикормить, чем иметь их врагами: кочевники за спиной базилевса найдут общий язык намного быстрее, чем думает он, и возьмут яства и вина, города и деревни без его на то позволения. Половецкий ломаный «койнэ» печенеги поймут намного быстрее его чеканного греческого языка.
Широка земля половецкая! Захватила степь меж Дунаем и Волгой, дошла до Перекопа в Тавриде, заходила орда и за земли Яика (р. Урал).
Ни валы, в том числе Змиевы деревянно-земляные высотой до 3,5 м и шириной 6-7 м, ни рвы перед ними шириной 5-6 м и глубиной 1,5-2м, не спасали от бега коня половецкого.
От Роси, Коломыи, Юрьева, Лубена до Хорола, Ворсклы и Псела, до Выри и Понаша, чуть не Курска да Мценска, к Дону, Воронежу текли белые, чёрные орды куманов.
Белая Калитва, Черная Калитва: нет «во всем мире земли приятнее этой, воздуха лучше этого, воды слаще этой, лугов и пастбищ обширнее этих», говорится про Кипчакские степи, где вольно пасутся кони, верблюды, овцы и скот.
Приходили в днепровские степи, «становиша вежа, беша бо ходяпде, яко и половцу». Становились вежи-становища на зимний пост, орда в сорок тысяч селилась на землях, что ханы «на круге» решили.
Ставили вежи, ставили «балбала» (каменные изваяния), богатый род ставил до десяти святилищ, меньшие – меньше, великие ставили больше.
Растекались половецкие орды по степям как свежий мед по блюду, намереваясь стечь с ровной тарелки. Текли орды, захватывая новые земли, пустоша мертвой травой прежние пасовища-пастбища.
С краев половецкого «блюда» половецкие орды не истекали лишь потому, что за краями этого «блюда» на юге мешали мощные волны водной стихии, на севере им мощные волны лесов.
«Смерть до того презирали, что охотнее соглашаются умереть, нежели уступить неприятелю, и, будучи разбитыми, грызли оружие, если не вмочь уже сражаться или помочь себе», – это общее мнение о все тех же половцах в те времена.
Не менее пятнадцати орд воевали по степям, не менее пятнадцати орд плодило новые жизни. Кочевия-города многолюдны, богаты и ханы: Тарукан (Тугоркан) за собой вел воинов тысяч так сто, в обозе держал табун из десятка тысяч коней, да сто тысяч овец блеяли, плетясь за табуном этих дивных коней.
Хазары, сувазы, болгары боялись и кара-куманов («черных» куманов-половцев) и воинов Белой Калитвы (кимчаков-половцев).
Да что там кочевники, боялся их сам базилевс!
Как утверждает Нестор-летописец, «вышли они из пустыни Евтривской, вышло же их 4 колена: торкмены и печенеги, торки и половцы. Измаил родил 12 сыновей. От них и пошли и торки, и печенеги, и куманы, иже есть половцы, и после этих колен выйдут заклепанные в горе Александром Македонским нечистые люди» (из Повести временных лет).
Страх жил в душе самодержца, страх.
Потому и разрешил тогда базилевс своим воеводам убивать половецкие жизни, и тридцать тысяч душ отдали жизни безвинно по приказу царя-базилевса.
Разорил хан Боняк киевские земли, разорил да пожёг города и людей. Понахватывал хан добычи несметной, понажились и люди его.
Уцелевших людишек забирали в полон, и ценились те пленники после набега Боняка по цене одного барана. Вдумайтесь только, человек шел по скотской цене!
В обычный полон брали всех, кто подвернулся под руку буйному половцу. В полон брали, конечно, детей, жен боярских, купеческих, жёнок от челяди и смерди, мужичков из простых, что поплоше, да послабее.
Но тот набег был особым, особенным был!
В полон забрали монахов!
Тридцать монахов да двадцать прислужников связали верёвкой за шею, руки за спину, и цепочкой-гуськом повели среди прочих людишек полона.
Шли пленники, месили пыль дальних дорог, безвинно несли провинность-вину в ответе за злобу и жестокость князей, базилевса и ханов.
Юрко
«Юрко, а Юрко!» Голос матери ласков и светел. Несмышленыш еще, лет пяти, мальчуган обернулся на мать. Она стояла на резном красивом крыльце, ажурная вязь его выдавала богатство в дому. Ни одной щербатой ступени, так все прочно, налажено и красиво.
«Юрко!» – мать повторила. Мальчуган досадливо отмахнулся:
«Некогда, мати! На Лыбедь (река в Киеве) бежим! Там нынче огнища жечь будут, весело! Я, мам, не сам: мне дворовые подмогнут.»
Не убежал, не успел: сильные руки большого отца подхватили ребячье легкое тело, руки взметнули до неба, до Солнца.
Отец засмеялся:
«Что, чадо? На Лыбедь собрался? А то пошли с нами товар торговать. Гостинец матусе прихватишь. Сам выберешь, я оплачу. Торг нынче большой, да мы тороваты (здесь, ловки и удачливы), мошна-то звенит, так денежки много.
Мальчишка аж ротик разинул: на Лыбедь хотелось, на торг с тятенькой – тоже.
С мольбой оглянулся на мать: серо-зеленые глазищи ребенка ждали, что мати ответит, какое примет решение.
Отец вновь со смехом:
«Что ты на бабу уставился, сыне? Ты же мужик, сам и решай».
Но женщина резко ответила, беспокоясь за сына: «Торг!», – и новые из тёса ворота закрылись за сыном и мужем. Материнское сердце смутно чувствовало что-то недоброе: а что может быть хорошего на реке? Где мальчишки, там и проказы, а вдруг да утонет? Сколько русалок детей перетащили, не перечесть. А торг, он относительно безопасен, да и рядом отец.
Отец по дороге не выдержал, тихо ругнулся на жёнку: «Ишь, как гостинчика захотела, на речку не отпустила.»
Мальчонка поднял глазищи, посмотрел в лукавые отцовские очи. Отец почему-то смутился, поправил тугой кожаный поясок с латунною пряжкой, недавно надетый и вышитый ловкими жениными руками. Мальчуган поневоле поправил свой поясок таким же движеньем, отец засмеялся: «ну, ладно, пошли!» И двое очень похожих, один только маленький, другой, сильный, большой, пошли по дороге к торжищу, скоро смешавшись с людной толпой.
Велик Киев-град, ой как велик! Город большой, могучий и тучный (тучный – здесь, мощный, богатый), он мог поразить не то что дитя несмышленое, что шло сейчас, крепко вцепившись в руку отца. Толпа, что перла к торжищу, могла разделить, раздавить, расцепить его и отца, потому малец вцепился в палец отца, как клещами. Люди в толпе шли, выбирая местечко почище. Деревянные тротуары проложены не везде, канавы со всякою жидкою дрянью могли замочить или вывалять в жидкой грязи новенькие чьи-то онучи, тому толпа шла не кучно, как на бунт, а наразбродку. Но все больше и больше поднимавшиеся и спускавшиеся с крутых киевских горок люди захватывали свободные места и местечки. Толпа валом валила к Подолу, торг обещался большим.
Сытые вершники (конники) из дружины зорко всматриваясь в гущу толпы, поигрывали плетями: порядок должён соблюден. Жерло толпы сожрёт, не помилует, настроение биомассы могло поменяться в любую секунду, тому держались другу друга по ближе, искусно поигрывая кручеными сыромятными плетями, что потом через пару сотен лет назовутся нагайками. Игривые сытые кони звенели уздечкой: их тоже толпа веселила. Общая масса людей бродила весельем, будущим дармовым пиршеством. Князюшка, хоть завсегда скуповатый, обещался сей час выставить киевлянам квасы, сикеру (сикера– хмельной напиток, по технологии близкий к медо– или пивоварению, но без гонки), меда варё ные, медовуху, и, конечно же, ол (ол, олуй, – практически то же, что в нашем понимании пиво, сравните с английским «эль»). В общем, всякое питие, что тогда называлось пивом. А к княжескому дармовому питию те, кому покажется за мало, добавят и свою березовицу пьяную, хмельную и чистую, что ровно младенца слеза (березовица пьяная -самопроизвольно забродивший сок берёзы, сохраняемый долгое время в открытых бочках и действующий после заброживания опьяняюще).
А к хмельному давались калачи да другие харчи, вот и пёр народ на дармовщинку, в центр, на Подол.
Отец уж не рад, что и сам пошел на Подол, и ребенка малого с собой прихватил, но толпа несла, как река, и не выплывешь. Отец взял сына на руки, и мальчонка стал вертеть головенкой, что тот совёнок. Да ещё и ротик раскрыл: досада брала, что глаза да и память всё сразу взять не могли. Глаза выхватывали то вершников, что как на подбор, сидели на мощных конях и зорко взирали на лаву толпы; то миловидных боярышень, что сдуру отправились не в возке, а пешими на рынок, уже одуревших от жутковатой массы людей, от дурных шуток молодчиков, что шастали рядом, и жавшихся к мамкам-нянькам своим, что те цыплята к наседке; то на резко выделявшуюся из толпы ватагу человек десяти мощных мужчин явно военных. Отец шепнул: «русы!» и постарался обогнуть этих молодцов, как обходят вепря (вепрь-дикий кабан) или быка. Мальчонка не успел даже переспросить, кто такие эти русы, что их так с ходу нужно бояться: мужчины были веселы и вовсе не грозны на вид. Но не успел: новые впечатления захлестнули ребёнка.
Толпа все несла и несла, и, наконец-то вот оно, торжище. Людская масса гудела, что улей. Скромные наряды поселян мешались с богатой одеждой киевлян. Горожане могли ещё позволить себе одеваться богато, не все князюшка вытряс, не всё дружинушка понаживилась, не всю процентщики-ростовщики рухлядь (одежда, в том числе и меховая) из клетей и коморок у людей повытаскивали.
Рыжие русы, что на голову выше были любых киевлян, ходили ватагой по рынку-базару, всё больше прицениваясь к военным рядам. Чаще презрительно ухмылялись на зовы мастеровых, что торговали военным товаром, призывно кликавших покупателей. Изредка брали в руку кольчугу, меч или шлем, картинно пытались кольчугу надеть, или шлем нацепить на мощные головы. Демонстративно показывали, мол, маловаты будут, и с грохотом бросали товар, стараясь не в руки отдать продавцу, а пихнуть, да еще и, желательно, в грязь.
Мастеровые молчком поднимали омытый потом своим драгоценный товар, клали на место: с русами связываться было не можно. Рыжие русы, довольные и весёлые, хохотали, широко открывая громадные рты.
Юрко посмотрел на отца: «Что, мол, тятенька, это такое?» Отец молча дёрнул за руку: пошли!
Дошли до ювелирных рядов. Здесь было потише. Нарядные девушки стайками перемещались от лавки до лавки, стараясь если всё не купить, то хотя бы на всё посмотреть. Мужчины солидно и долго рядились с ювелирного дела мастерами. Те хвалили товар, отцы семейств или суженые (суженые– женихи) рассматривали серёжки да бусы, обручи, колты, венцы да другие мелочи для женской услады. Мелочи-то они мелочи, но как дорого стоят! Отец тоже подошел к одному из торговцев. Тот, видно, был из знакомых: здоровался проще, торговался поменьше, больше для вида.
Отец понабрал всякой разности. Мальчику было не интересно смотреть на лалы да бирюзу, червленую эмаль и прочее. Он с удовольствием, как только в детстве бывает, уминал белый калач с маком да медом, что отец прикупил по дороге. Калач все уменьшался да уменьшался, и кончился, наконец. Вилявшей хвостом бродячей собаке так ничего не досталось, несмотря на все её усилия мотать тертым хвостом. Пёс, поняв, что в этой ситуации он проиграл, жалобно заскулил, и не успел мальчонка ротик раскрыть, попросить ещё калача, как отец пнул пса так, что пёс не просто вскулил, завыл от боли и нежданной обиды.
«Тебе что, дворовых псов мало?», – и мальчик молча вытер слезинки, так некстати закапавшие из громадных глазищ.
Отец недобро взглянул:
«Ты что, девчонка? Или мамкины жалости перенял? Я из неё эту дурь выбить никак не могу, а из тебя смолоду вытравлю». И уже с другой, недоброй силой взял, как клешнями, детскую ручку, и опять пошли по рядам.
Детские слёзы недолги, и скоро опять детский дискант мешался с басом отца. Дело шло к вечеру, уже торопились домой, как встретил отец незнакомца. Раньше Юрко не видал этого человека в горнице у отца. Отец славился хлебосольством, но этого, богато одетого, Юрко видел впервые. Мужчины говорили недолго, урядились о чем-то, наверно, раз отец из калиты (калита – денежный мешок) деньгу-гривну (слово деньги пришло к нам с приходом татаро-монгол на Русь, на Руси тогда в денежном обращении ходили гривны и куны, но мы называем привычно деньгами и гривны, и куны) достал.
«Кто это, тятенька?»
«Так, огнищанин (огнищанин– близкий к князю дворцовый слуга). Я ему должен. Долг и отдал. Да смотри, матери не говори, она это не любит».
Мальчик с готовностью закивал, хотя ни слова не понял: что такое матушка его не любит, и почему ей нельзя говорить, что отдали долг?
Усталые ножки хотели домой, и так писать хотелось! Тут не до дяди, которому тятенька денежку должен, тут дело живое и очень уж невтерпёжное назревало!
«А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?
Обратите сердца ваши на пути ваши.
Вы сеете много, а собираете мало;
Едите, но не в сытость; пьете, но не
Напиваетесь; одеваетесь, но не Согреваетесь; зарабатывающий плату
Зарабатывает для дырявого кошелька.
(Книга пророка Аггея). 1-(5-7).
Богатства великая тягота!
Богатство отца тяготило, мешало, как им казалось, дышать. Матушка милая, доки была жива, где тайком, где, нарываясь на окрик супруга, кормила в сенях да при поварне убогих, несчастных. Особенно жалела детишек. Как увидит за воротами сирого, покличет, да что-нибудь даст. На окрики мужа только молчала. Поправит платок, да и в дом.
Тверда была только в одном: десятину на храм выпросила у супруга. Отец как-то сильно, но очень по-своему, любил мать. То принесет ей с торжища ожерелье червленое, а то преподнесет ей кулачищем под глаз. Мать всё терпела. Обновки носила, воли супруга перечить не вмочь, синяки под глазами тоже переносила с привычным терпением.
Вечерком, когда солнце садилось, присядет устало на лавочке у ворот: так хорошо! Изумрудная зелень травы большого подворья как ярким ковром покрывала дворище, фырканье отборных коней вперемешку с мычаньем подходивших ко двору бурых коров, кудахтанье запоздалое серенькой курочки да победный клекот рыжего петуха, и задорные крики дворовых мальчишек вкупе с дискантом её малыша, да далекие била церков (до применения колоколов в храмах устанавливали била, то есть чугунные изделия, издававшие мощный и протяжный звук), – что может быть слаще для женской судьбины?
Тятенька дома редко бывал: постучит вершник какой нагайкой по тёсаным воротам, и отец за порог. И, поди знай, когда он вернётся, и особенно знай, каким он приедет. Может с порога ножищей в сенях по кладям постукать, перевернется какая лохань, он к матери: «твой недогляд!?» А может и от ворот подкинуть мальца до неба, до светлого солнца, высыпать из кармана сласти мальцам: гуляем, робята!
Дом весь держался на матери: дворовые слуги, чистая горница в тереме (мать грязь не выносила совсем!), воспитание дитяти родного, поварня да живность, всё требовало неустанного нагляду да дозору.
В поварне стряпуха нет, нет и ворчала на мать: весь дом старается есть куском пожирнее да слаще, а хозяйка постится. Эвон, одни синевой глазищи и блещут на исхудалом лице!
Все едят, люди как люди, а ей на поварне наварят простеньких щец из капусты да проса (просо– пшено), а она ест да нахваливает. А по средам да пятницам в рот ничего не возьмет, взвар ей и тот отсцеживали!
А двор то богат: свое масло коровье едали. Неужли володарке– хозяйке не дали бы? Так нет, отвернется от мяса да молока, пустые ей щи, видите, подавай!
В светёлке (светелка– комната в доме богатого киевлянина, обычно располагалась на втором, светлом этаже, потому и «светелка», «светлица») у матери, как в келье монаха киот да иконы. Грозные темные лица христианских святых смотрели на суетный мир грешных людей: мальчик боялся.
Всё чаще мать сыну шептала: «окрестить бы его!». Сын понимал: мать об отце. Мать, поправляя на шейке у сына крестик из дуба, гладя по светленькой голове, начинала рассказ про быль недавней уже старины: про князя Владимира, как рос он буйным язычником, наложниц имел больше некуда (мальчик не уточнял, кто такие наложницы, стеснялся спросить, отвлечь мать от плавного нараспева), буянил по Киеву да Днепру, ходил с дружинами воевать земли заморские, на греческую землю дань понакладывал да степь усмирял…
А как ожениться на сестре базилевса (базилевс, басилевс– византийский император), так в Корсуни и крестился. С тех пор усмирел, эвон как ладно дела то пошли. Не иначе, как Красным то солнышком народ его величает. И Русь богатеет. Ты видел, как Киев хорош? Как строятся храмы? Лепота! В Киеве жить – превеликое счастье.
За Киевом, сын, не везде христианство бытует, да и в Киеве, погляди, через раз христиане живут. Даром что князь наш Владимир тогда, давно то и было, да и недавно, дедов уже нет, что при нем тогда жили, ведь лет больше ста-двести прошло, так князь, как вернулся с греческой земли, народ окрестил одним махом. Загнал в Днепровскую воду на Почайне-реке, там византийцы– попы народ и крестили.
Мальчик, как сказку, слушал про князя, видел в детских грёзах своих ладьи по Днепру, Корсунь-град, что мощно стоит на море, про то, как витязи князя штурмуют крепости башен, и сам князь на боевом коне (конь-это Лыска, дворовая толстая кляча, что часто возила его на хребте, и долго жевала губами, когда подадут ей хлеба шматочек с крупной сольцой…).
Очнулся от грёз, когда мать говорила:
«Сейчас, мой сыночек, есть уже иереи и из славян, а тогда приехали с князем строгие батюшки…
Окрестить бы его, окрестить…» Мальчик перебивал:
«А какое оно, море?»
Мать пожимала плечами:
«Даст тебе Боженька, и увидишь… Наверно, большое!!!»
Мать умолкала, вдаваясь в свои тяжёлые думы. Мальчик молчал. Свеча обгорала на тонком оконце, лампада с киота теплилась живым. Мальчик смотрел то на светлое личико матери, то на строгие образа Спасителя и Девы Благой. Сумрак прохладой втирался в горенку (горенка, светелка – комнаты в доме. Горенка– комната, что «на горе», то есть на верхнем этаже богатого дома) дома; мать, встав на колени, молилась. Долго молилась и истово. Мальчик боялся, но повторял, кое-где спотыкаясь на трудных словах: «Отче наш, иже еси на небеси…» Потом спрашивал:
«А Богородица тоже из греков?»
Мать улыбалась и вновь повторяла историю света, историю тьмы.
Иногда мать доставала величайшее из сокровищ – книгу. Коричневый кожаный переплет пах застоявшимся ладаном, красные буковки сплетались в славянскую вязь. Мать говорила:
«Учи, сынок, азбуку, учи, мой родной. Осилишь, сам книгу прочтешь. Видишь, сынок, буковки разные? Они наши, славянские. Учители из словен научили нас азбуке. Теперь читаем на нашем, родном языке. И все понимаем. А у латин там читают всё по-латыни, не разберешь! А у нас всё родное, знакомое: «Аз» значит я, «Веди» – поведать, узнать, «Глагол» мальчик радостно обрывал:
«Говорить?»
Мать ласково гладила по голове: «какой ты у меня умница, кровушка мой…».
Термы
Раннее утро, а солнце палило, будто не март. Пусть дело к апрелю, и скоро Песах, но все же, но все же… Анна молча брела, легкие коччи (кожаная обувь типа сандалет) едва задевали щели плиток. Мощеная улица разветвлялась, ведя к храмам и баням.
Главная улица Херсонеса, что проходила с востока на запад Бело-Желтого города, была главной артерией города. Улицы-вены шли под прямыми углами, кварталы ровно делили город на почти равные части, с весьма и весьма маленькими расстояниями между кварталами. Мощёные плитки межались с ровной брусчаткой, под которой текли в море стоки, надежно упрятанные в керамических трубах. Двухэтажные дома стояли так рядом друг к другу, ну, ровно в обнимку. В первых этажах почти всех домов располагались лавки с товаром, двери которых всегда широко были распахнуты. Ах, какая роскошь цвела, расцветала в лавках с товарами, поневоле заглянешь хотя бы в одну.
А в подвалах этих домов хранились товары мука и крупа, зерно и соленая рыба, вино и еще раз вино, масло из южной оливки, из русского льна и конопли. Пифосы (большие толстостенные глиняные сосуды) надежно хранили свое содержимое.
А в лавках стояли, весьма горделиво, одноручные плоскодонные глечики стандартных размеров, в которые из пифосов слуги переливали или перекладывали нужный товар.
Облицовка домов источала тепло, черепица на крышах краснела багроватым оттенком.
Но дамам нужно было не в лавки. Дамы шли в бани.
Легкая пыль оседала на ступнях, утренний ветер то приближал к уху, то отдалял стрекотанье то ли цикад, то ли кузнечиков малых, то ли Сарино бормотанье смешивалось с неумолчным стрекотаньем цикад. Анна не слушала Сару – зачем? Вечные сплетни, новости ни о чём.
Дыхание толстушки и вечные сплетни так надоели! Но Сара считалась не просто соседкой, а подружкою Анны, и Анна терпела. Остановилась, вытряхнула из коччи камешек малый и перешла на сторону ветра. И Сарино стрекотанье ветер стал относить в сторону моря.
Дамы шли в бани.
Бань в Херсонесе городе много. Конечно, стало поменьше с тех давних и давних времен, что как сказку, старые бабки шамкали вечерком, когда русичей князь Володимир взял и засыпал водопровод. В те времена ромейки из знати каждое утро спешили в своих паланкинах в термы полумрак, где ждали их сплетни, легкие воды бассейна бликами освещали стены, и оживали картины сражений из Илиады. Бассейны для дам неглубокими были, а некоторые даже с морскою водой, и мрамор бассейна теплел, оживал, принимая тела патрицианок. Курился дымок миндаля, ароматом своим наполняя черные с рыжиной волоса гордых гречанок. Да, тогда хорошо было жителям!
А сейчас? Сейчас, дело иное. Как уж эпарх добился, чтоб дамы из иудаис посещали бани гречанок, незнаемо, во сколько мужьям обошелся их разговор со стратигом. Но ромейки предпочитали иные дни, чем дни посещений евреек. Те внешне обиды совсем не держали, зачем? Не ходить же к словянам в их общие бани?
Вот и сейчас Сара, хихикая, стрекотала:
«Представляешь, вчера, у словян в их бане, ну, в термах, что у словян, в общей их бане, проходили смотрины. Рус рыжебородый, да помнишь его, здоровый такой, вчера на базаре мешки опрокинул с пшеницей. Ну, помнишь, как было смешно? Как греки орали, а он только башкою вертел, языка-то не знает. Не помнишь? Ну куда уж тебе с твоим Фанаилом чужих мужиков вспоминать!
Так рус этот, рыжий, в невесты себе запросил кого бы ты думала? Не угадаешь! Рабыню! Вот смеху-то было. Говорят, так с ходу влюбился, что на выкуп сразу деньги давал, на все был согласен, рыжий верзила».
Анна не удержалась:
«Сара, откуда ты знаешь? Если вечером бани, а сейчас солнце только встает, откуда ты знаешь?»
Сара взорвалась: так обидеть бедную Сару!
«Как это знаю? Да просто мой муженек, мой Иаков посредником будет! Девчонка-рабыня – словянка? Словянка! Креста на ней нет? Нет. На игрища ходит, Перуну уста мёдом мажет? Значит, можно и выкупать. Вот Иаков и будет для руса, зовут его вроде «меда едящим», да, точно, Ведмедем, девочку выкупать. Она еще вроде маленькая, лет так двенадцати».
Анна не утерпела опять:
«Что значит маленькая? Невеста вполне!»
Сара снова всплеснула руками:
«Анна, ты что? Это наши девчушки – невесты, а у словян это рано, но рус так влюбился, прямо горит! Иаков же хочет на комиссионные с выкупа Мириам браслетики докупить. Знаешь, такие стеклянные, плоские, дорогие, со змейками золотыми. Ну, такие же, как покупал ей недавно».
Анна кивнула:
«Да помню, я помню…»
Анна спросила так, разговор поддержать:
«А что хозяйка девчонки?»
Сара остановилась: идти тяжело, солнышко припекало, полою утерла лицо:
«Хозяйка – крещёная. В те бани, известно, не ходит. У них в нашей бане есть дни, а то и с ромейками ходят. Православные, знаешь. Да и подворье их, русское, рядом. Их много, словянок. Её, между прочим, представь, тоже Анною звать. Иаков просил, если в бане увижу, поговорить…»
«Ну, как ты увидишь? Сегодня день не ромеек».
Сара: «А вдруг?»
Анна махнула: Сару не убедишь. Еще на рынок потащит, не дай Яхве такому. Опять на неё, на Анну будут смотреть да смеяться.
Худое, тощее тело обвевал утренний бриз, хламида обвилась вокруг бледных костей, Сара взглянула, и перевела разговор на тему другую. А тем у Сары, да рано с утра, было много, а тут на тебе драгоценный подарок с утра– свободные уши подруги.
И Сара разливалась ручьем-водопадом:
«Представляешь, сегодня чуть свет дромоны приплыли. Так много военных. И византийских монахов. Я видела, видела, они по храмам пошли. И с ними красавец такой, богатый-богатый! Наверно, посланник Комнина. Стратига не видно… Наверно, остался в Константинополе. Ой, Анна, красавец какой!»!
Анна не удержалась, съехидничала:
«Кто, император?»
Сара шутку не приняла:
«Тоже мне, скажешь, посланник, конечно. Ой, да что это я тебе говорю! После твоего Фанаила остальные просто уроды. А этот – красавец. Высокий, прямой, молодой-молодой»!
И прошептала на ушко:
«Знаешь, если бы мы были не иудаис, я бы Мириам отдала за такого. А что? Жалко, просватана». Скороговоркой проговорила:
«Иаков свадьбу отложил почему-то, ну, да мужу виднее..», и далее продолжала про дочь:
«Она у меня – прелесть какая! А он? Красавец, и знатен, конечно. В Константинополе б жили. И – я…»
Анна резко одернула глупую бабу:
«Ты что? И думать не смей! Ты же ивраис.»
Сара сильно обиделась на подругу: кричит, а кричит то чего? Подумаешь, сильно кичится своим иудаис. На каждом шагу твердит, она иудаис. Конечно, конечно, похвастаться больше то нечем. Рыжая рожа, волосенки реденьки, тощая кляча, ни рожи, ни кожи, груди вовсе нет, так, два прыщика, да ключицы торчат, и ягодицы, что те осколки, с веснушками на бледненькой коже.
Сара тихо вздохнула: надо же, и этой груше печёной достался первый красавец. Конечно, припёр её из далекой-далекой теперь Иудеи, вот и кичится теперь: я – иудаис! А вы, остальные, конечно, ивраис. Гордячка тощая!
Анна искоса глянула зелёными глазками на подружку, мысли которой секретом не стали, и тоже вздохнула: вечный позор её внешности снова давил, пригибал, так что плечи ссутулились вновь. А что скажешь – уродка. Конечно, потешная Сара с её полнотой тоже восторгов не вызывала, но у Сары муж-то не Фанаил, а обычный Иаков.
К термам они припоздали: дамы уже плескались в бассейне. Гул разговора касался мраморных стен и возвращался к бассейну. Общей сенсацией стало прибытие императорской свиты.
Сара мгновенно включилась в толщу дамских телес, ухнула в воду так шумно, что фонтаны воды полились за ограждение. Если бы так позволила сделать гречанка, то точно б разбила драгоценные вазы стекла, что шиковались на бортиках, соблазняя иссиним то виноградом, то сливой, то яблоком красным. Но вазы разрешалось ставить только ромейкам. Любая ивраис могла бы позволить с десяток таких ваз расставить в бассейне, но банщики донесли бы мгновенно Демитре, и тут бы эпарх был бы бессилен.
Общая тема: красавец– посланник, и дамочки из ивраис обсудили все абсолютно, до последней детали хитона.
И громче всех слышался бас Сары:
«О, прямо там, скажешь, однако, да я тебя умоляю! Я сама видела, фибула (фибула – металлическая застежка-заколка, застегивавшаяся на правом плече длинного плаща) золотая, вот только камень не разглядела. Да нет, плащ без меховой оторочки, что он тебе, херсонесит, чтоб оторочку носить? Ты еще скажи, что он вышивку носит или штаны по-херсонски!»
Общий смех опозорил Сарину оппонентку, и та поплыла к скучавшей наедине Анне:
«Ой, Анна, здравствуй, как там детишки?»
Анна вымученно начала рассказывать про своих милых детишек, старательно обходя колючие взгляды красотки по своей горблой спине, тощеньким ягодицам, рыженьким волосам: как всё привычно до боли. Убрать бы их всех, поплескаться бы в одиночку в бассейне!
Наконец красоточка, натешившись униженным видом жены первого из первейших красавцев планеты, отплыла, и Анна было вздохнула, но следом плыла новая стерва. И жертва очнулась:
«Ой, здравствуйте, милочка! Вы знаете, у нас, иудаис…»
Та долго унижения пытки не выдержала и отплыла. И Анна наконец-то занялась именно тем, за чем ходят в бани.